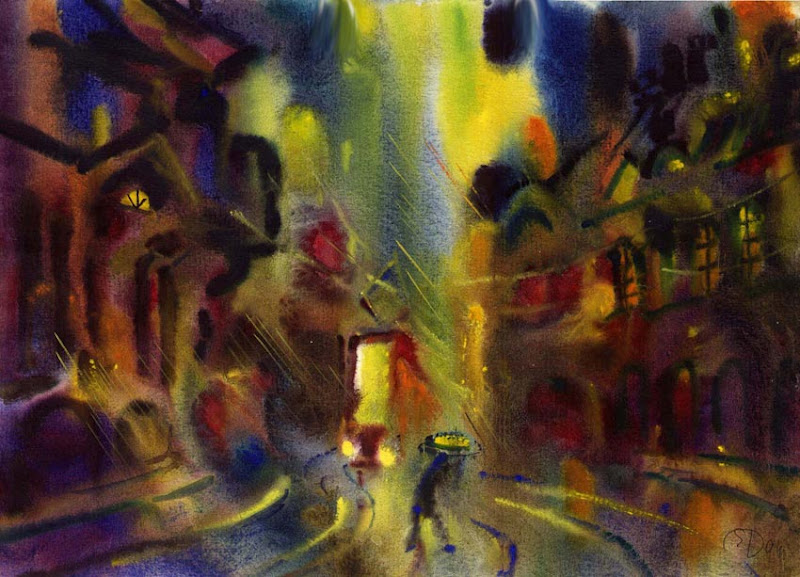-Метки
-Музыка
- Луч солнца золотого
- Слушали: 11882 Комментарии: 0
- Георгий Свиридов - Отзвуки вальса
- Слушали: 34166 Комментарии: 0
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
Про любофф... |
Профиль тоньше камеи,
Глаза как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан как у леди Годивы.
Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.
Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.
Влюбился жестоко и сразу
В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.
Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..
"Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!"-
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.
"Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод... Сталь инструмента.
Руки, конечно, иззябли.
Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?
Спички лежат на окошке.
Ну, вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.
Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом... был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины...
Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла -
Коллега! Возьмите варенья,-
Сама сегодня варила".
Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: "Спасибо!"
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.
Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!
Саша Черный "Городская сказка"
|
Метки: стихи видео шутка раневская |
Как страшно жить! |
Николай Олейников
НАДКЛАССОВОЕ ПОСЛАНИЕ (ВЛЮБЛЕННОМУ В ШУРОЧКУ)
Генриху Левину1 по поводу влюбления
его в Шурочку Любарскую2
Неприятно в океане
Почему-либо тонуть.
Рыбки плавают в кармане,
Впереди - неясен путь.
Так зачем же ты, несчастный,
В океан страстей попал,
Из-за Шурочки прекрасной
Быть собою перестал?!
Все равно надежды нету
На ответную струю,
Лучше сразу к пистолету
Устремить мечту свою.
Есть печальные примеры -
Ты про них не забывай! -
Как любовные химеры
Привели в загробный край.
Если ты посмотришь в сад,
Там почти на каждой ветке
Невеселые сидят,
Будто запертые в клетки,
Наши старые знакомые
Небольшие насекомые:
То есть пчелы, то есть мухи,
То есть те, кто в нашем ухе
Букву Ж изготовляли,
Кто летали и кусали
И тебя, и твою Шуру
За роскошную фигуру.
И бледна и нездорова,
Там одна блоха сидит,
По фамилии Петрова,
Некрасивая на вид.
Она бешенно влюбилась
В кавалера одного!
Помню, как она резвилась
В предвкушении его.
И глаза ее блестели,
И рука ее звала,
И близка к заветной цели
Эта дамочка была.
Она юбки надевала
Из тончайшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке:
И про ножки, и про ручки,
И про всякие там штучки
Насчет похоти и брака...
Оказалося, однако,
Что прославленный милашка
Не котеночек, а хам!
В его органах кондрашка,
А в головке тарарам.
Он ее сменил на деву -
Обольстительную мразь -
И в ответ на все напевы
Затоптал ногами в грязь.
И теперь ей все постыло -
И наряды, и белье,
И под лозунгом "могила"
Догорает жизнь ее.
...Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, -
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,
Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.
Все погибнет, все исчезнет
От бациллы до слона -
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.
И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, -
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.
Дико прыгает букашка
С бесконечной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!
1932
Примечания
Во время Великой Отечественной войны первые две строки этого стихотворения стали поговоркой подводников Северного флота.
1. Адресат стихотворения — Левин Генрих Зиновьевич (1903—1971), художник-график, сотрудник и художественный редактор журналов «Еж» и «Чиж»; в послевоенные годы преподавал в Академии художеств. Обратно
2. Шурочка — Любарская Александра Иосифовна (род. в 1908 г.), литератор; в 1930—1937 гг. работала редактором Детского отдела Госиздата в Ленинграде. В 1937 г. была арестована. После освобождения — редактор детского радиовещания (1939—1942). В ее обработке и пересказах опубликованы произведения фольклора многих народов. Обратно
Николай Олейников. Стихотворения и поэмы.
Новая библиотека поэта.
Санкт-Петербург: Академический проект, 2000.
|
Метки: стихи |
В конце пути — по вспышке света вы опознаете меня… |
«Самый петербуржский петербуржец» (по выражению поэта Г. Адамовича) Леонид Каннегисер родился в марте 1896 г. в семье известного инженера-механика. Переселившись в Петербург, Каннегисер-отец, по сути дела, возглавил руководство металлургической отраслью страны, получил потомственное дворянство, а его дом в Саперном переулке стал местом встреч административной элиты и столичных знаменитостей. В доме кипела жизнь, «одна толпа сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Это был большой гостеприимный дом, «патрицианский», как называл его друг семьи поэт Михаил Кузмин: огромный зал с камином и роялем, медвежьи шкуры, ковры, стены, обтянутые шелками, роскошная иностранная мебель. В лучшие годы, до революции — лакеи, слуги, швейцар. Отец — с барской внешностью, Цветаева называла его «лордом» — считал себя «товарищем и другом великих писателей и поэтов нашей родины», которым он «с юности поклоняется». Принимали широко — от царских министров до революционеров-террористов. Лева, Левушка (семейное имя Лени) был общим баловнем, его обожали. Стройный, высокий, элегантный, карие миндалевидные глаза, нос с горбинкой, на всех фотографиях — серьезный, значительный вид. Благополучный мальчик из состоятельной дворянской семьи окончил частную гимназию Гуревича и в последний предвоенный год поступил на экономическое отделение Политехнического института. Мальчик писал стихи, да и кто тогда их не писал? Вот сестра Лулу просит купить ей какое-то особенное печенье.
ЛУЛУ
Не исполнив, Лулу, твоего порученья,
Я покорно прошу у тебя снисхожденья.
Мне не раз предлагали другие печенья,
Но я дальше искал, преисполненный рвенья.
Я спускался смиренно в глухие подвалы,
Я входил в магазинов роскошные залы,
Там малиной в глазури сверкали кораллы
И манили смородины, в сахаре лалы.
Я Бассейную, Невский, Литейный обрыскал,
Я пускался в мудрейшие способы сыска,
Где высоко, далеко, где близко, где низко, —
Но печенья «Софи» не нашел ни огрызка.
Вот такая милая и изящная безделица.
С Есениным, приехавшим из Москвы в Петербург в марте 1915 г., Каннегисер, по всей видимости, познакомился на одном из редакционных вечеров журнала «Северные записки», издательницей которого была тетка Леонида.
"Лёня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Старинный томик “Медного Всадника” держит в руке — как цветок, слегка отставив руку — саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?...
Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись — через все и вся — поэты.
Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы — на гостинной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту... (Мысленно и медленно обхожу ее:) Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. Приятно, когда обратно — и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы.
После Лёни осталась книжечка стихов — таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности — поверила." Так писала Марина Цветаева о Леониде Каннегисере и о его дружбе с Сергеем Есениным. А сам Леонид писал в одном из писем Есенину, хранящимся в Российском государственном архиве литературы и искусства: «...Вот уже почти 10 дней, как мы расстались... Очень мне у вас было хорошо! И за это вам – большое спасибо! Через какую деревню или село я теперь бы ни проходил (я бываю за городом) – мне всегда вспоминается Константиново...» Писалось это летом 1915 г., когда интеллигентный мальчик чуть ли не впервые увидел воочию русскую деревню (гораздо раньше этот юный эстет узнал и полюбил Италию, да).

До революции было еще так далеко – и никто бы не разглядел «человека, который убил Урицкого» (Г. Иванов), в «изнеженном, женственном юноше... эстете, поэте, пушкинианце» (М. Цветаева). Среди уцелевших черновиков Каннегисера — иронический перечень штампов салонной поэзии:
Лунные блики, стройные башни,
Тихие вздохи, и флейты, и шашни.
Пьяные запахи лилий и роз,
Вспышки далеких, невидимых гроз…
Георгий Иванов вспоминал, довольно злобно, один зимний вечер 1913 года. «Восемь часов вечера.
У подъезда останавливаются собственные и извозчичьи сани.
Гости раздеваются по петербургской привычке у швейцара и подымаются на второй этаж. Их встречает молодой человек в смокинге, с голубой гвоздикой в петлице — распорядитель вечера.
В большой гостиной расставлены, как в театре, венские стулья.
Это домашний спектакль, но не какой-нибудь чеховский «Медведь», а полупьеса-полубалет семнадцатилетнего гения.
Другой гений — двоюродный брат автора — написал музыку,
Третий — его товарищ — декорации в бледно-сиреневых тонах.
Балерины — сестра и ее подруги.
Приглашенные — цвет петербургского искусства.
Вот Н.Н. Врангель, вот Судейкин, вот Гумилев...
Гости рассаживаются.
Гаснет люстра.
Густо напудренный, но красный даже сквозь пудру автор музыки ударяет по клавишам.
Первая картина.
Поэт — один. Он повторяет монотонные слова: «печаль — печаль... Снег — снег... Любовь — любовь...»
Потом читает:
Прилетели бескрылые птицы Из страны бледно-розовых роз. Побледнели таинственно лица — Прилетели бескрылые птицы...
Вдруг — ослепительный свет. За сценой барабан и крики «гип-гип ура». Композитор делается багровым от усилия, музыка — оглушительной. Потом молчание.»
В финале, уже, так сказать, для полного удовлетворения всех присутствующих,
«...семь барышень босиком танцуют странный танец.
Семь голубых цветов падают с потолка к их ногам...».
«Почетные гости первых рядов давно сидят, уткнувшись лицами в носовые платки.
Кое-где заглушенный смех переходит в явный. Монокль прыгает в глазу Врангеля. Лицо Ахматовой перекошено от усилия сохранить серьезность» .
Через несколько лет «густо напудренный, но красный даже сквозь пудру автор музыки» Владимир Перельцвейг будет расстрелян, и «гениальный автор» неуспешной пьесы Леонид Каннегисер, отомстив за его смерть, тоже погибнет. Но пока…
Пьянящий воздух революции кружил головы молодым людям. И Каннегисер, и Перельцвейг поступают в Михайловское артиллерийское училице. Кумирами их были Керенский и Временное правительство.

Леонид Каннегисер
Юнкер Михайловского артиллерийского училища Леонид Каннегисер написал такие восторженные ( Господи, знал бы он!) строчки:
…И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать! —
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать, —
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.
Вскоре Каннегисер стал председателем Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа.

В роковые октябрьские дни Леонид вместе с батареей Михайловского артиллерийского училища оказался в рядах защитников Зимнего дворца. Но до участия в боевых действиях с большевиками у михайловцев не дошло. Замитинговавшие юнкера в последний момент оставили позиции и вернулись в казармы. Был ли с ними Каннегисер или остался у стен Зимнего дворца, история умалчивает. Известно лишь, что когда в феврале 1918 года Михайловское артиллерийское училище было переименовано большевиками в 1-е Советские артиллерийские командные курсы, он предпочел военной службе студенческое состояние.
В июле 1918 года по совершенно надуманному обвинению, вернее, доносу одного курсанта, сильно желавшего выслужиться перед большевиками, был арестован Владимир Перельцвейг. Доносчик сообщил комиссару курсов о том, что, по словам его соученика, в Михайловском артиллерийском училище готовится контрреволюционное выступление. С этим соучеником был дружен и Перельцвейг. Никаких фактов, хоть как-то компрометирующих Перельцвейга в глазах большевиков, следователи так и не получили. Однако это не помешало руководству петроградской ЧК приговорить к расстрелу 19 августа 1918 года шестерых курсантов и преподавателей. Был среди них и 20-летний Перельцвейг, сначала прапорщик выпуска Казанского военного училища, а потом курсант 1-х Советских артиллерийских курсов.
О расстрельном постановлении, подписанным Урицким, в городе стало известно в тот же день — оно было опубликовано во всех петроградских газетах.

Моисей Урицкий
30 августа 1918 года половине одиннадцатого Каннегисер подъехал к левому крылу дворца Росси и спешился у подъезда Комиссариата внутренних дел. Поставил велосипед, зашел в вестибюль и устроился у столика возле окна. Собирались посетители, швейцар Прокопий Григорьев принимал у каких-то барышень одежду; другой служащий, Федор Васильев, обслуживал подъемную машину, так тогда назывался лифт. Они засвидетельствовали, что юноша в кожаной куртке («высокого роста, бритый, брюнет») ни с кем не разговаривал, сидел молча, курил папиросу, посматривал в окно на велосипед и одну руку держал в кармане.
В одиннадцать приехал на своем автомобиле — реквизированном из царского гаража — Моисей Соломонович Урицкий. Урицкий был на середине вестибюля, когда юноша встал и выхватил револьвер. Грянул оглушительный выстрел. Урицкий повалился лицом вперед. Леонид попытался спастись, вбежал в подъезд какого-то дома, поднялся по лестнице. Увидев приоткрытую дверь одной из квартир, надел в прихожей хозяйское пальто, попытался скрыться, но был схвачен. Сохранилось его заявление после ареста: «Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий – не еврей. Он – отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев».
«П р о т о к о л д о п р о с а
Леонида Акимовича Каннегисера, дворянина, еврея, 22 лет, проживающего по Саперному пер., № 10, кв. 5
Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией комендантом гор. Петрограда В. Шатовым, показал:
Я, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, студент Политехнического института, 4-го курса, принимал участие в революционном движении с 1915 г., примыкая к народным социалистическим группам. Февральская революция застигла меня в Петрограде, где я был студентом Политехникума. С первых дней революции я поступил в милицию Литейного района, где пробыл одну неделю. В июне 1917 г. я поступил добровольцем в Михайлов-ское артучилище, где пробыл до его расформирования. В это время я состоял и<сполняющим> об<язанности> председателя Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа. Я примыкал в это время к партии, но отказываюсь сказать к какой, но активного участия в политической жизни не принимал.
Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня только тогда, когда в печати появились сведения о массовых расстрелах, под которыми имелись подписи Урицкого и Иосилевича. Урицкого я знал в лицо. Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его и выбрал для этого дела день его приема в Комиссариате внутренних дел — пятницу, 30 августа.
Утром 30 августа, в 10 часов утра я отправился на Марсово поле, где взял на прокат велосипед и направился на нем на Дворцовую площадь, к помещению Комиссариата внутренних дел. В залог за велосипед я оставил 500 руб. Деньги эти я достал, продав кое-какие вещи. К Комиссариату внутренних дел я подъехал в 10.30 утра. Оставив велосипед снаружи, я вошел в подъезд и, присев на стул, стал дожидаться приезда Урицкого. Около 11 часов утра подъехал на автомобиле Урицкий. Пропустив его мимо себя, я поднялся со стула и произвел в него один выстрел, целясь в голову, из револьвера системы «Кольт» (револьвер этот находился у меня уже около 3 месяцев). Урицкий упал, а я выскочил на улицу, сел на велосипед и бросился через площадь на набережную Невы до Мошкова пер. и через переулок на Миллионную ул., где вбежал во двор дома № 17 и по черному ходу бросился в первую попавшуюся дверь. Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, переодевшись в него, я выбежал на лестницу и стал отстреливаться от пытавшихся взять меня преследователей. В это время по лифту была подана шинель, которую я взял и, одев шинель поверх пальто, начал спускаться вниз, надеясь в шинели незаметно проскочить на улицу и скрыться. В коридоре у выхода я был схвачен, револьвер у меня отняли, после чего усадили в автомобиль и доставили на Гороховую, 2.
Протокол был мне прочитан. Запись признаю правильной.
30 августа 1918 г. Л. Каннегисер
Добавление: 1) что касается происхождения залога за велосипед, то предлагаю считать мое показание о нем уклончивым, 2) где и каким образом я приобрел револьвер, показать отказываюсь, 3) к какой партии я принадлежу, я назвать отказываюсь.
Л. Каннегисер»
Но не дает ему покоя, гвоздит мысль о позорном своем бегстве, о том, какую опасную смуту внесло его вторжение в жизнь чужих, ни в чем не повинных людей. Он пишет письмо хозяину злополучной квартиры на Миллионной.
«Уважаемый гражданин!
30 августа, после совершенного мной террористического акта, стараясь скрыться от настигавшей меня погони, я вбежал во двор какого-то дома по Миллионной ул., подле которого я упал на мостовую, неудачно повернув велосипед. Во дворе я заметил направо открытый вход на черную лестницу и побежал по ней вверх, наугад звоня у дверей, с намерением зайти в какую-нибудь квартиру и этим сбить с пути моих преследователей. Дверь одной из квартир оказалась отпертой. Я вошел в квартиру, несмотря на сопротивление встретившей меня женщины. Увидев в руке моей револьвер, она принуждена была отступить. В это время с лестницы я услышал голоса уже настигавших меня людей. Я бросился в одну из комнат квартиры, снял с гвоздя пальто и думал выйти неузнаваемым. Углубившись в квартиру, я увидел дверь, открыв которую оказался на парадной лестнице.
На допросе я узнал, что хозяин квартиры, в которой я был, арестован. Этим письмом я обращаюсь к Вам, хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, каким-то чудом не пришла мне в голову.
Воспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня. В оправдание свое не скажу ни одного слова и только бесконечно прошу Вас простить меня!
Л. Каннегисер»
Впрочем, покаяние это, написанное с целью отвести удар от ни в чем не повинного князя, к адресату не попало, осталось в деле. Бедному князю – хозяину злополучного пальто- уже ничто не могло помочь — его ожидал неминуемый расстрел.
Волна арестов, обысков и допросов все нарастает. В большинстве случаев следователи остаются ни с чем. «Казалось, что хорошие знакомые Леонида Каннегисера будут играть роль в деле, но после допроса таковых, например, Юркуна и др., пришлось немножко разочароваться, — признаются в докладе следователи Отто и Рикс. — Это, очевидно, знакомства Леонида Каннегисера из „Бродячей собаки” и прочих злачных мест, которые усердно посещал убийца, сын миллионера».
Разумеется, для следователей-чекистов «Бродячая собака» — только злачное, постыдное место, а не знаменитое литературное кафе Серебряного века русской культуры, и Леонид — сын миллионера, а не талантливый поэт, друг лучших поэтов России. Чудом избежал тогда ареста — только потому, что оказался в Москве, — Сергей Есенин
Петроградские газеты 31 августа залиты трауром, кроме срочного сообщения о покушении на Ленина, они информируют о церемониале предстоящих торжественных похорон Урицкого на Марсовом поле. «Пуля попала в глаз, смерть последовала через час», — нечаянно рифмует «Северная коммуна», что наверняка не ускользает от внимания поэта-террориста. И лозунги, лозунги, лозунги, разлетаются шрапнелью, один кровожадней другого! «Ответим на белый террор контрреволюции красным террором революции!» «За каждого нашего вождя — тысяча ваших голов!» «Они убивают личностей, мы убьем классы!» «Смерть буржуазии!»
А Канегисер пишет стихи….Он чувствует себя победителем!
Что в вашем голосе суровом?
Одна пустая болтовня.
Иль мните вы казенным словом
И вправду испугать меня?
Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.
И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.
Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь.
Стихи, стихи…Удивительное время! На похоронах Урицкого на трибуне — «красный Беранже», поэт Василий Князев. Читает стихи, написанные специально по этому печальному случаю, — в тот же день они появились в «Красной газете» под заглавием «Око за око, кровь за кровь»:
Мы залпами вызов их встретим —
К стене богатеев и бар! —
И градом свинцовым ответим
На каждый их подлый удар…
Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор —
Отмщенье злодеям народным!
Да здравствует красный террор!
И газета со стихами Князева попадает к Леониду — не иначе как специально дают, для устрашения, — и тут же вызывает у него стихотворный отклик:
Поупражняв в Сатириконе
Свой поэтический полет,
Вы вдруг запели в новом тоне,
И этот тон вам не идет.
Язык — как в схватке рукопашной:
И «трепещи», и «я отмщу».
А мне — ей-богу — мне не страшно,
И я совсем не трепещу.
Я был один и шел спокойно,
И в смерть без трепета смотрел.
Над тем, кто действовал достойно,
Бессилен немощный расстрел.
И пронзительные прощальные слова : «Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние, — торопливо записывал перед казнью Леонид Каннегисер. — Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, — есть одно, к чему стоит стремиться, — слияние с божеством. Оно не дается даром никому, — но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду. И теперь всё — за мною, всё — позади, тоска, гнет, скитанья, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг; подвиг свершен — и в душе моей сияет неугасимая божественная лампада. Большего я от жизни не хотел, к большему я не стремился. Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством, — и даже настоящее горе моих близких, их отчаянье, их безутешное страдание — тонет для меня в сиянии божественного света, разлитого во мне и вокруг меня».

Ему всего двадцать два года.
Каннегисер был расстрелян в один из дней от 18 сентября и до 1 октября. Точная дата неизвестна.
На следующий день после официального сообщения о его расстреле на конференции Чрезвычайных комиссий Северной области Бокий отчитался: «За время красного террора расстреляно около 800 человек». Но только в Кронштадте, по докладу Егорова, главы местной Чрезвычайки, «в связи с красным террором произведено до 500 расстрелов».
Теперь самое удивительное. Родителей Каннегисера и его родственников не только не расстреляли, но и довольно быстро выпустили из Чека, и предоставили им возможность уехать из России.
|
Метки: история серебрянный век россия |
А кто любит Лорку? |
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene
por un anfibio sendero
de cristales y laureles.
El silencio sin estrellas,
huyendo del sonsonete,
cae donde el mar bate y canta
su noche llena de peces.
En los picos de la sierra
los carabineros duermen
guardando las blancas torres
donde viven los ingleses.
Y los gitanos del agua
levantan por distraerse,
glorietas de caracolas y
ramas de pino verde.
*
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene.
Al verla se ha levantado
el viento que nunca duerme.
San Cristobalón desnudo,
lleno de lenguas celestes,
mira a la niña tocando
una dulce gaita ausente.
Niña, deja que levante
tu vestido para verte.
Abre en mis dedos antiguos
la rosa azul de tu vientre.
Preciosa tira el pandero
y corre sin detenerse.
El viento-hombrón la persigue
con una espada caliente.
Frunce su rumor el mar.
Los olivos palidecen.
Cantan las flautas de umbría
y el liso gong de la nieve.
¡Preciosa, corre, Preciosa,
que te coge el viento verde!
¡Preciosa, corre, Preciosa!
¡Míralo por donde viene!
Sátiro de estrellas bajas
con sus lenguas relucientes.
*
Preciosa, llena de miedo,
entra en la casa que tiene,
más arriba de los pinos,
el cónsul de los ingleses.
Asustados por los gritos
tres carabineros vienen,
sus negras capas ceñidas
y los gorros en las sienes.
El inglés da a la gitana
un vaso de tibia leche,
y una copa de ginebra
que Preciosa no se bebe.
Y mientras cuenta, llorando,
su aventura a aquella gente,
en las tejas de pizarra
el viento, furioso, muerde.
Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно,
среди хрусталей и лавров
бродя по тропинке млечной.
И, бубен ее заслыша,
бежит тишина в обрывы,
где море в недрах колышет
полуночь, полную рыбы.
На скалах солдаты дремлют
в беззвездном ночном молчанье
на страже у белых башен,
в которых спят англичане.
А волны, цыгане моря,
играя в зеленом мраке,
склоняют к узорным гротам
сосновые ветви влаги...
Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно.
И обортнем полночным
к ней ветер спешит навстречу.
Встает святым Христофором
нагой великан небесный -
маня колдовской волынкой,
зовет голосами бездны.
- О, дай мне скорей, цыганка,
откинуть подол твой белый!
Раскрой в моих древних пальцах
лазурную розу тела!
Пресьоса роняет бубен
и в страхе летит, как птица.
За нею косматый ветер
с мечом раскаленным мчится.
Застыло дыханье моря,
забились бледные ветви,
запели флейты ущелий,
и гонг снегов им ответил.
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер!
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Он ловит тебя за плечи!
Сатир из звезд и туманов
в огнях сверкающей речи...
Пресьоса, полная страха,
бежит по крутым откосам
к высокой, как сосны, башне,
где дремлет английский консул.
Дозорные бьют тревогу,
и вот уже вдоль ограды,
к виску заломив береты,
навстречу бегут солдаты.
Несет молока ей консул,
дает ей воды в бокале,
подносит ей рюмку водки -
Пресьоса не пьет ни капли.
Она и словечка молвить
не может от слез и дрожи.
А ветер верхом на кровле,
хрипя, черепицу гложет.
перевод Гелескула.
СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ РОМАНС
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.
Ночами, по грудь в тумане,
она у перил сидела -
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Любовь моя, цвет зеленый.
Лишь месяц цыганский выйдет,
весь мир с нее глаз не сводит -
и только она не видит.
Любовь моя, цвет зеленый.
Смолистая тень густеет.
Серебряный иней звездный
дорогу рассвету стелет.
Смоковница чистит ветер
наждачной своей листвою.
Гора одичалой кошкой
встает, ощетиня хвою.
Но кто придет? И откуда?
Навеки все опустело -
и снится горькое море
ее зеленому телу.
- Земляк, я отдать согласен
коня за ее изголовье,
за зеркало нож с насечкой
ц сбрую за эту кровлю.
Земляк, я из дальней Кабры
иду, истекая кровью.
- Будь воля на то моя,
была бы и речь недолгой.
Да я-то уже не я,
и дом мой уже не дом мой.
- Земляк, подостойней встретить
хотел бы я час мой смертный -
на простынях голландских
и на кровати медной.
Не видишь ты эту рану
от горла и до ключицы?
- Все кровью пропахло, парень,
и кровью твоей сочится,
а грудь твоя в темных розах
и смертной полна истомой.
Но я-то уже не я,
и дом мой уже не дом мой.
- Так дай хотя бы подняться
к высоким этим перилам!
О дайте, дайте подняться
к зеленым этим перилам,
к перилам лунного света
над гулом моря унылым!
И поднялись они оба
к этим перилам зеленым.
И след остался кровавый.
И был от слез он соленым.
Фонарики тусклой жестью
блестели в рассветной рани.
И сотней стеклянных бубнов
был утренний сон изранен.
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
И вот уже два цыгана
стоят у перил железных.
Полынью, мятой и желчью
дохнуло с дальнего кряжа.
- Где же, земляк, она, - где же
горькая девушка наша?
Столько ночей дожидалась!
Столько ночей серебрило
темные косы, и тело,
и ледяные перила!
С зеленого дна бассейна,
качаясь, она глядела -
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Баюкала зыбь цыганку,
ц льдинка луны блестела.
И ночь была задушевной,
как тихий двор голубиный,
когда патруль полупьяный
вбежал, сорвав карабины...
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.
|
|
Без заголовка |
Это цитата сообщения _А_ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Собрания коллекций всех художников мира
о востоке

|
|
библиотеки |
Это цитата сообщения Vichechka_1980 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
| Пишет JKin ( @ 2004-11-16 21:07:00 |
(Updated Jul-09-2005) Наконец-то дотянулись руки до этого списка. Перепроверила все ссылки, выкинула неработающие, добавила подкинутые забредшим сюда народом...
Альдебаран (фантастика, детективы, детские, поэзия, драматургия, справочники, религия и т.д.)
Exbicio
Itlibitum Corp (религия, классика, современное, фантастика, зарубежное, поэзия)
Здоровье, психология, теософия, йога, буддизм, лечебники и пр.
От медицины и политики до кулинарии и эротики
Bookz.ru (масса тем - от сонника до камасутры)
Вехи (религия и философия)
E-Kniga (художественная литература)
Philosophy.ru (философия, антропология, культурология, этика, эстетика)
Учебники по программированию
In Folio (университетская электронная библиотека)
Отечественная литература
http://fictionbook.ru/ - спасибо ilishin и flashka
http://lib.rin.ru/ - спасибо flat_out
militera.lib.ru (Военная литература) - спасибо _tema за ссылку и NiN - за поправку к ссылке
http://www.fenzin.org/ (Фантастика) - спасибо lady_alien,GUNFIGHTER и "аноним"
http://chassidus.ru/library/index.htm (Библиотека с религиозными еврейскими текстами) - спасибо _lecabel_
http://www.litportal.ru/ (Ранее - Bestlibrary.ru) - спасибо vindigo
http://zzl.lib.ru (Жизнь замечательных людей) - спасибо kontiky
"Ну и ну" - веселая фантастика - спасибо "аноним"
http://linguists.narod.ru/ (Профессиональная библиотечка переводчиков и филологов) - спасибо "аноним"
Библиотечка научной и художественной литературы на иностранных языках спасибо - "аноним"
Онлайн и офф-лайн словари спасибо - "аноним"
http://rudiplom.ru/lekcii/ (Учебные пособия) спасибо - mrsergey
http://www.oldmaglib.com (библиотека Луки Боменуара) - спасибо glebych и "аноним"
Список электронных библиотек (хех, похоже на рекурсию - для тех, кто понимает) - спасибо celarent
http://www.ipolitics.ru/ (книги, статьи, док-ты по политологии и международным отношениям) - спасибо "аноним"
http://aleria.net/ - спасибо tot_ra
book.pp.ru спасибо, к сожалению сейчас не работает, но "админ сервака и сын ведущего" обещает, что все будет
http://psd.rudtp.ru/lib.php (Книги по издательскому делу и верстке
) - спасибо dikij
http://feb-web.ru/ (Литературные словари, энциклопедии, ссылки) - спасибо dikij
http://www.sci-lib.com/ (Большая Научная Библиотека) - спасибо dikij
Далее следует то, что послужило основой сего списка, линки от dimogen, за что ему огромное спасибо.
(Отредактировано на тему устаревших ссылок)
Lib.ru - Библиотека Мошкова
Bigmir
Чернильница
Klassika.ru
Lib.km.ru
Лавка Языков
Артефакт
Greylib
Magister.msk.ru/library/
Израильская литература - книжная полка Марка Блау
"Готично"-таки - Russian Gothic Page
Украинская библиотека им. Вернадского
Библиотека Евгения Пескина, бывшая EEL
Электронное чтиво
Небольшое собрание сочинений на русском (Пелевин, Набоков) и английском (художественная, техническая, по философии).
Palm PC
Мир энциклопедий — энциклопедические и псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии, энциклопедические словари, энциклопедические справочники)
Im Werden
Отборные тесты по психологии
Cобрание статей по психологии, психотерапии, соционике.
Palm Lib
Русская фантастика
Интерактивная фантастика "Пишем Вместе"
Стихи.ру
Проза.ру
Peter-Club (хорошенькая библиотечка, содержащая ряд эксклюзивных книг)
Стихия Маши Школьниковой
Раскрытая книга
Библиотека Бориса Бердичевского
Крымский Клуб
Ковчег - русская поэзия
Библиотека Алексея Комарова
Народная библиотека Максима Горького
Аромат Востока - Хайку
Авторская страница Александра Хургина
Страница прозаика Ольги Тумановой
Авторская страница Андрея Костина
Море литературы по программированию и компьютерам
Экономическая теория
Библиотека экономической и деловой лит-ры
Портал по менеджменту, маркетингу, экономике, финансам и пр.
Корпоративный менеджмент
Энциклопедия маркетинга
Юмор - рассказы Михаила Задорнова
Сайт посвященный афоризмам
Огромное количество географических карт
Справочное издание содержит сведения общего характера о всех странах мира и крупнейших международных организациях (англ.)
Справочник "Все страны мира" (англ.)
Самая крупная в мире энциклопедия on-line графических символов. (англ.)
Мифология (англ)
Мифи и легенды
Славянские мифы
Славянское язычество
сайт о мифологии, изучении связей мифа и мифологии с наукой, литературой, искусством, политикой и т.д.
Стэнфордская энциклопедия философии (англ)
Полезный сайт для любителей философии. (англ)
Библиотека Михаила Эпштейна - авторская, т.е. состоит преимущественно из сочинений самого собирателя. Их тематический охват - философия, теория культуры, поэтика русской литературы, междисциплинарные проекты, эссеистика, философская и мифологическая проза.
Еврейский образовательный сервер
Информационный канал Гос. Думы РФ
Военно-историческая библиотека
Военная библиотека Федорова
библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
Русская генеалогия
Изучение Древнего Египта
История Древнего Рима
Древнерусская литература
Великая Французская Революция
Проект 1812 год
Музей декабристов
тексты по русскому либерализму на сайте объединения "Яблоко"
Международный исторический журнал
Проект "Русское Небо" - Неизвестные страницы русской истории
Дневники Николая II на том же сайте "Русское Небо", однако ссылка сюда с главных страниц не найдена
Из архивов русской революции
Мемориал - документы по истории репрессий в СССР
Большая подборка песен из кинофильмов в mp3, тексты слов и др.
переводчик on-line компании ПРОМТ.
подборка словарей
Словарь Брокгауза и Эфрона
Биографический словарь (англ.)
Биографический справочник (англ.)
Экологическая библиотека
Далее следуют ресурсы на английском, спасибо _inga_:
http://www.archive.org/details/texts
http://www.readprint.com/
http://www.gutenberg.org/
http://www.bibliomania.com/
http://digital.library.upenn.edu/books/
http://www.ipl.org/div/books/
http://www.bartleby.com/
http://www.literature.org/
http://www.loc.gov/
http://ota.ahds.ac.uk/
http://bcdlib.tc.ca/links-subjects.html
http://www.online-literature.com/
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebo
http://www.thefreelibrary.com/
http://www.theses.org/
http://www.vlib.org/
http://sunsite.berkeley.edu/
http://www.icdlbooks.org/library/basic/i
http://plagiarist.com/poetry/poets/
|
|
Галереи |
Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
любителям истории интересная подборка ссылок
Ссылки на изображения в инете. Базы данных сканов манускриптов, фотографий и др.
Web Gallery of Art - виртуальный музей европейской скульптуры и живописи (1100-1850гг.) (англ.)
Manuscripts of the Apologeticum - манускрипты и рукописи на латыни (англ.)
http://www.princeton.edu/~his291/ - Картинки с научными инструментами, механизмами и т.п. Позднее средневековье - Возрождение.
http://www.kb.nl/kb/100hoogte/menu-tours-en.html - ссылки на разные средневековые изображения
http://arthist.cla.umn.edu/aict/html/index.html - база изображений разных эпох
http://www.newcastle.edu.au/discipline/fine-art/pubs/villard/ - альбом Виллара д’Оннекура, что-то вроде зарисовок жизни (нач. 13 в.)
http://www.artcyclopedia.com/ - база изображений. Хороший поиск по авторам.
http://gallery.euroweb.hu/art/ - похожий сайт.
http://ibs001.colo.firstnet.net.uk/britishlibrary/controller/subjectidsearch?id=3388&idx=1&start=0 - огромная база изображений из британской библиотеки. Информации просто море.
http://www.landeshauptarchiv.de/ausstellung/virtuell/full_start.html - какие-то немецкие миниатюры.
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/ - манускрипты онлайн.
http://image.ox.ac.uk/ - ответвление предыдущего сайта. особенно рекомендую раздел bodleian library/ms. bodl. 264. для обладателей толстого инета и тех, кто интересуется как военной, так и бытовой стороной средневековья (сер. 14 в.) - каждый файлик по 5 мб., но они того стоят. пожалуй, мой любимый манускрипт онлайн, вместе с библией мациевского (о ней дальше).
http://www.byu.edu/~hurlbut/dscriptorium/ - ссылки на миниатюры онлайн
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg848 - манесский кодекс. тоже супер.
http://www.byu.edu/~hurlbut/dscriptorium/spalding/spalding.html - еще какие-то миниатюры онлайн. точно не помню.
http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/textiles/bayeux/ - ковер из байо. битва при гастингсе и события вокруг нее.
http://www.lib.cam.ac.uk/cgi-bin/ee.3.59/browse - житие Эдуарда-исповедника. Хороший зум, можно рассматривать в деталях.
http://home-4.worldonline.nl/~t401243/mac/ - библия Мацейовского
http://www.medievaltymes.com/courtyard/maciejowski_bible.htm - она же, родимая. намного более полный сборник.
http://www.bnf.fr/enluminures/manuscrits/amanuscrit.htm - миниатюры нац. франц. библиотеки. особ. смотри жана фруассара - большинство картинок, которыми иллюстрируют столетнюю войну, берут из него :)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/db/apsisa.dll/init?sid={bd51452b-77a4-4493-829b-0fd1b3cca4d6}&cnt=206&:i=1 - еще одна бд изображений. надо зайти в меню suche и написать что-нибудь на немецком (например, набираем schwert (“меч”)- выводятся тексты и изображения, в описании к-рых есть это слово). Запутано, но разобраться можно.
http://door.library.uiuc.edu/rex/erefs/images.htm - ссылки на бд изображений.
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/rare/images/date.html - еще набор ссылок.
http://www.medievalarthistory.com/manuscripts.html - и еще. хорошая подборка.
http://www.kb.dk/elib/mss/mdr/index-en.htm - манускрипты онлайн из библиотеки в копенгагене.
http://www.godecookery.com/afeast/feasts/feasts.html - ссылки на разные изображения, иллюстрирующие жизнь в средневековье. разбиты по категориям - одежда, пиры, развлечения, домашние животные и др. хороший ресурс
http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html - музей топкапи. есть отличные изображения (мне, например, нравится раздел mongols and painting under the jala’ir - но это потому, что я интересуюсь 13-14 вв., любители истории др. периодов также найдут интересные материалы). полюбуйтесь, для примера, на это: http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/pictures1/im19.jpg и http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/pictures1/im20.jpg
http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/ - смотрите, какую одежду носили и на чем играли люди в 13 в. в испании. хорошее качество изображений, хорошо видны детали одежды.
http://www.thais.it/scultura/default_uk.htm - скульптура, архитектура на разные периоды европейской истории.
http://gallery.the-exiles.org/albums.php?set_albumlistpage=3 - артефакты и изображения, 15 в. хороший зум.
http://liberfloridus.cines.fr/textes/biblio_fr.html - оцифрованные манускрипты. очень много. кликаем на accès aux manuscrits et aux images и выбираем из списка.
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/digi/handschriften/welcome.html#kap1 - оцифрованные манускрипты из гейдельбергского университета. большая база, много интересного.
http://www.kb.nl/kb/manuscripts/search/index.html - еще одна отличная вивлиофика онлайн. делаем поиск по периоду и по ключевым словам (типа sword, knight etc. - кому что интересно).
http://museums.ncl.ac.uk/archive/arma/contents/iconog/provinci/adamklis/metope.htm - изображения на античность.
http://www.bildindex.de/ - это - на десерт :) огромная база данных по германии. поиск - по ссылке suche. если желаем просмотреть все подряд или конкретный музей - идем на orte, затем по буквам ищем нужный город и музей. пример: идем по ссылкам на d->drezden->sammlungen i->historisches museum->kunstgewerbe->waffen->blankwaffen und zubehör->degen, rapiere und schwerter и любуемся артефактами с описанием их параметров. после клика на нужную иконку увеличить изображение можно, кликнув на vergrobern вверху. в общем, на этот сайт нужно просто молиться.
http://www.rarebookroom.org/ - сканы старых и редких книг
|
|
Аудио-запись: "Казачья колыбельная песня" |
Музыка |
|
|
Комментарии (0)Комментировать |
Здесь цепи многие развязаны... |

В новогоднюю ночь 1912 года в Петербурге открылись двери легендарной « Бродячей собаки». Тогда был впервые торжественно исполнен гимн «Собаки», сочиненный Всеволодом Князевым.
Во втором дворе подвал,
В нем — приют собачий.
Каждый, кто сюда попал —
Просто пес бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!
На дворе метель, мороз,
Нам какое дело!
Обогрел в подвале нос
И в тепле все тело.
Нас тут палкою не бьют,
Блохи не грызут.
Гав!
Лаем, воем псиный гимн
Нашему подвалу!
Морду кверху, к черту сплин,
Жизни до отвалу!
Лаем, воем псиный гимн,
К черту всякий сплин!
Гав!
Все, а на открытие кабаре среди прочих пришли Анна Ахматова, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Саша Черный, Игорь Северянин, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, все дружно прогавкали стихи молодого юнкера.

Георгий Иванов вспоминает: «Бродячая собака» была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители, от флигель-адъютанта до ветеринарного врача. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись». Поэт-футурист Бенедикт Лившиц более точен: «Основной предпосылкой «собачьего» бытия было деление человечества на две неравные категории: на представителей искусства и на «фармацевтов», под которыми разумелись все остальные люди, чем бы они ни занимались и к какой бы профессии они ни принадлежали ».

В "Бродячей собаке"
Литераторов и артистов пускали бесплатно, а с «фармацевтов» драли за вход солидные суммы, доходившие иногда до 25 рублей. До 200 евро по теперешнему курсу.
За что брали такие деньги?
А где еще простые смертные могли, предположим, живьем, не на сцене, увидеть гениальную балерину Тамару Карсавину, танцующую прямо на зеркале в двух шагах от них номер, поставленный для нее самим Михаилом Фокиным?!

Тамара Карсавина
Ну, а подешевле, всего за три рубля можно было, напоминает Иванов, лицезреть такую картину:
«Комнат в «Бродячей собаке всего три.
Буфетная и две «залы» — одна побольше, другая совсем крохотная.
Это обыкновенный подвал, кажется, в прошлом винный погреб.
Теперь стены пестро расписаны Судейкиным, Белкиным, Кульбиным.
В главной зале вместо люстры, выкрашенный сусальным золотом обруч.
Ярко горит огромный кирпичный камин.
На одной из стен большое овальное зеркало.
Под ним длинный диван — особо почетное место.
Низкие столы, соломенные табуретки.»

В артистическом кафе.
Н.Н. Евреинов так вспоминал о кабаре: «Вся роспись стен, задорная, таинственно-шуточная, если можно так выразиться, являла, разумеется, не «декорации» в узком смысле этого слова, но как бы декорации, переносящие посетителей подвала далеко за пределы их подлинных места и времени. Здесь сказывались полностью те чары «театрализации данного мира», какими Судейкин владел как настоящий гипнотизер. И под влиянием этих чар, путавших жизнь с театром, правду с вымыслом, «прозу» с «поэзией», посетители «Бродячей собаки» как бы преображались в какие-то иные существа, в каких-то в самом деле фантастичных и сугубо вольных, «бродячих», «бездомных» собак из «царства богемы. «…И стены, и камин были расписаны именно что «зверски». Поверхность стен в одной из комнат — а их было две — ломала кубическая живопись Н. Кульбина, дробившие ее плоскость разноцветные геометрические формы хаотически налезали друг на друга. Другую комнату от пола до замыкающих сводов расписал Судейкин фигурами женщин, детей, арапчат, изогнувшимися в странном изгибе, невиданными птицами, прихотливо переплетенными с фантастическими цветами. Их болезненно-избыточная роскошь, сталкивающая лихорадочно-красное с ядовито-зеленым, вызывала в памяти образы «Цветов зла» Бодлера».

Судейкин
«О, богемными преданиями воспетая «Бродячая собака»! — вспоминал один из постоянных посетителей этого кафе Анатолий Шайкевич — как обольстителен, как полон неоспоримой, убогой прелести был твой чадный уют, твоя в свиную кожу переплетенная и входы охранявшая книга,
твои от чуть-чуть перепитого вина всегда казавшиеся покривившимися своды.
И сколько сейчас забытых, неписанную историю творящих слов было в тебе произнесено в те быстро сгоревшие ночи, когда по твоим склизким и снегом занесенным ступенькам спускались наряду с лоснящимися бархатными тужурками и косоворотками чрезмерно громко смеявшиеся дамы в декольте и своими моноклями игравшие безукоризненно скроенные фраки...
Крошечная, из теса наскоро сколоченная эстрада твоя посвящена была музам. На ней читали свои еще не напечатанные стихи Блок, Гумилев, Мандельштам, Кузмин. На ней Карсавина танцевала под музыку Куперена и Люлли, ...а петербургская Форнарина, Олечка Судейкина распевала лукавые песенки писательницы Тэффи...».

Ольга Судейкина
Анна Ахматова писала о ночах в « Собаке..»
..Да, я любила их, те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки...

Анна Ахматова
Есть еще и не менее знаменитое четверостишие Кузмина...
Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Михаил Кузмин
«Действительно, — подтверждает и Георгий Иванов, — сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть «из сказок Гофмана».
На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль.
Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви...
Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку.
О.А. Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно - механической грацией танцует «полечку» — свой коронный номер.
Сам мэтр Судейкин, скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах, мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян — решить трудно...».

Владимир Маяковский
Легко узнать "Бродячую собаку" в стихах Ахматовой:
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.
Навсегда забиты окошки.
Что нам, изморозь иль гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
1 января 1913

Анна Ахматова
Но лето 1914 г. явилось роковым не только для страны, но и для «подвала». В отсутствие некоторых «мэтров», в состоянии стремительного падения общественного духа , с увеличением притока «фармацевтов» в кабаре «власть захватывают» футуристы.
Последней подготовленной программой стал вечер, посвященный литературно-художественному сборнику «Стрелец» 25 февраля 1915 г. Через неделю кабаре «Бродячая собака» было закрыто. С. Судейкин с горечью вспоминал об этом эпизоде: «…Только не осенью нас зарезали, а ранней холодной весной. С утра шатаясь по городу, мы пришли в «Бродячую собаку» — Маяковский, Радаков, Гумилев, Толстой и я. Была война… Карманы пучило от наменянного серебра. Мы сели в шляпах и пальто за круглый стол играть в карты. Четыре медведеподобных, валенковых, обашлыченных городовых с селедками под левой рукой, сопровождаемые тулупным дворником с бляхой, вошли в незапертые двери и заявили, что Общество интимного театра закрывается за недозволенную карточную игру. Так «Бродячая собака» скончалась».
|
Метки: история серебрянный век |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Tango Animation - En Tus Brazos (In Your Arms) |
|
|
Всё, я нашла сокровище..Варя Панина, Анастасия Вяльцева, Алла Боянова, Вадим Козин.. |
Yaroslavna Golovanova "Jasmine"
Варя Панина " Нищая"
Варя Панина " Я пережил свои желанья.."
Анастия Вяльцева "Ласточка"
Изабелла Юрьева "Только раз..."
Алла Боянова " Танго"
Вадим Козин " Нищая"
Изабелла Юрьева "Он уехал"
|
Метки: песенка видео романс |
Аудио-запись: Евгений Дога - Вальс из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь" |
Музыка |
|
|
Комментарии (0)Комментировать |
В огне брода нет... |

Святой Антоний прославился тем, что стал одним из первых, кто вел аскетическую жизнь в пустыне, будучи полностью оторваным от цивилизации. Поэтому, его по праву считают основателем монашества, нового духовного движения того времени…

Согласно традиции, 16 января местные пастухи прыгают на лошадях через костры, размещенные вокруг деревни, чтобы очистить животных с огнем и дымом после получения благословения от священника.

По всей стране в этот день священники благословляют домашний скот, который хозяева приводят к церкви…


В храмах устраивают праздничные процессии, на которых прихожане в сопровождении своих собак, кошек, лошадей, ослов, красочно украшенных лентами, плюмажами и колокольчиками, ходят вокруг храма перед тем, как священник с паперти благословит их…

Прежде такие праздники устраивались только 17 января…

Сейчас они растягиваются на несколько дней, так как настоящее время в Испании не хватает католического духовенства и священникам требуется время, чтобы объездить все приходы и благословить всю «живность».

Празднества сопровождаются «братскими пиршествами»…

Усталые, но довольные прихожане ни в чем себе не отказывают...

via top news
|
Метки: фотографии |
От романтической любви - к законному браку. Эволюция. |
Брунетто советовал молодым людям вступать в брак с партнерами одного с ними происхождения, телосложения и возраста — эта короткая, безобидная с виду фраза, вероятно, показалась революционной в те времена, когда девушек часто выдавали замуж за мужчин, которые были старше их вдвое-втрое.
Тогдашние брачные обычаи не поощряли постоянство и уж тем более, верность до гроба.Братья или отцы выдавали женщин — вдов или девиц - замуж, сообразуясь со своими феодальными или финансовыми интересами, а не с желаниями самих дам. Яркий пример того, какой неожиданностью был иногда подобный брак , описан в романе «Garin de Lorain». Два брата приезжают к себе в замок с компанией рыцарей, и один из них, Бодуэн, зовет сестру-вдову. Как только она появляется, гости встают, все как один любуются ее красотой и аристократическим изяществом ее фигуры. Затем Бодуэн берет сестру за руку и отводит в сторону. «Моя прекрасная и дражайшая сестра,— говорит он,— мне нужно сказать тебе пару слов с глазу на глаз. Кстати, как ты поживаешь? (поинтересовался все-таки, забооотливый! :)) » — «Благодарение Богу, весьма неплохо».— «Прекрасно. Что ж, завтра у тебя будет новый муж».— «Что ты говоришь, брат? Я только что потеряла моего господина; всего месяц, как тело его предано земле, и у меня от него прелестный малыш, который, дай-то Бог, станет когда-нибудь богатым человеком. Мне надлежит думать о том, как приумножить его наследство. Что скажут люди, если я выйду за другого барона так скоро?» — «Ты сделаешь это, милая сестра. Муж, которого я привез тебе, богаче первого, а кроме того молод и хорош собой». Когда же Бодуэн называет сестре имя ее жениха — Фроман (по-видимому, этот рыцарь пользуется хорошей репутацией), дама начинает колебаться: «Мессир брат,— отвечает она,— я сделаю так, как ты захочешь».
По-видимому, дамы эпохи феодализма были приучены исполнять молча выполнять повеления мужчин. Большинство из них в течение жизни имели нескольких мужей, с женами по самому пустячному поводу расходились, а следовательно, безнадежно запутанные вопросы разделения и приумножения имений и наследств были причиной непрекращавшихся сражений и судебных процессов. В этих обстоятельствах тот факт, что сердца многих красавиц были «склонны к измене» и они были рады обзавестись кавалером, представляется вовсе не удивительным. Общество, в котором жили эти женщины, толкало их на поиски любви и сентиментального утешения вне семьи. Века идут, общество не меняется :) Мужчины тоже:)

Изольда
Четкая грань между ухаживанием и супружескими отношениями всегда существовала и, возможно, сохранится в будущем, но в средние века она была подчеркнуто грубой. Даже судя по выдержке из романа «Amadis de Gaul» , написанного в более позднее время, это, похоже, воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Рыцарь спрашивает свою возлюбленную, только что согласившуюся выйти за него замуж: «О госпожа, как я могу услужить тебе, дабы вознаградить за твое согласие на то, чтобы наша любовь стала известной?» На это героиня Ориана дает своеобразный ответ: «Мессир, то время, когда вы должны были оказывать мне такие знаки внимания, а мне полагалось их принимать, прошло. Теперь я должна повиноваться вашей воле и следовать ей с той покорностью, какую жена обязана выказывать мужу».
Контраст между любовью и супружескими чувствами был именно таким, как это показано в воспитательном трактате, который написал шевалье де ла Тур-Ландри для обучения двух своих дочерей в конце четырнадцатого века. «Ваше поведение не должно быть чересчур поощряющим,— наставляет он девочек.— Недостаток сдержанности имеет свойство вызывать отвращение у мужчин. Вашей главной целью должно быть удачное замужество, которое к любви имеет весьма отдаленное отношение».
Затем он приводит спор со своей супругой на тему «прилично ли любить по собственному выбору?. В определенных случаях и всегда «в надежде на брак», считает шевалье, «девице дозволено честно влюбиться», однако его супруга не разделяет этого мнения, полагая, что много лучше для девушки не влюбляться вообще, дабы не нанести урона приличиям, «ибо я слышала, как многие женщины говорили, что они влюблялись в юности и, приходя в церковь, больше думали и мечтали о своих возлюбленных, чем слушали мессу».
С нравоучительными историями, которыми нашпигована эта довольно скучная книга, нынешние родители не сразу решились бы ознакомить своих подрастающих чад. Например, желая показать дочерям, к каким дурным последствиям приводит прелюбодеяние, шевалье рассказывает о парочке влюбленных, забывших о супружеской верности, которые, чтобы предаться распутству, встретились в Божьем храме. Слившись в экстазе, они были не в силах разомкнуть объятия и в результате предстали в этой щекотливой позе взорам всех прихожан. Вместе с другими моралистами своего времени шевалье увещевает дочерей не отказываться от воспитания детей, которых их мужья могут иметь от других женщин.

Трудно, должно быть, было управляться с этими средневековыми мужьями. Слишком очевидно, что они были жестоки, своенравны и отличались вспыльчивым характером. Шевалье и другие говорят дамам, что учтивостью и послушанием они легче добьются от своего seigneur того, чего хотят. С женами, дерзающими возражать мужу или делать ему замечания в присутствии посторонних, следует обходиться сурово. Шевалье приводит не менее трех примеров, когда разъяренный муж повергал даму на пол ударом в лицо ( а изящное выражение, правда? ) У всех трех дам в результате были сломаны носы, и женщины были обезображены на всю жизнь, ведь пластической хирургии тогда не существовало.

Бронзовый акваманил (акваманил — рукомой, франц. aquamanile от лат. «aqua» — вода и «manus» — рука), 13 в., Британский музей
С помощью таких вот штук богатые лорды мыли руки во время трапезы. Мыть руки перед и во время еды было необходимо, тк в Средние века люди ели в основном руками.
В этот рукомой вода заливалась через отверстие в шлеме всадника, а выливалась через дырочку на лбу лошади. Акваманил был найден в 1853 г. в реке Тайн неподалеку от Хексхема и позже приобретен Британским музеем. Первоначально рыцарь держал в руках копье и щит. (А еще ему отломали ногу.) ( :()
Лишь в редких случаях читателю попадается упоминание о муже, который внимателен к жене, но мало кто был таким понимающим и нежным, как безымянный буржуа, парижский купец, написавший между 1392 и 1394 годами для своей молодой жены очаровательную книгу наставлений. Он составил ее для жены, потому что «вам пятнадцать лет, и на той неделе, когда мы обвенчались, вы просили меня иметь снисхождение к вашей юности и дать вам время увидеть и узнать больше, просили меня смиренно, как я помню, в нашей постели, чтобы я ради Господа не поправлял вас грубо ни перед посторонними, ни перед слугами, а только в нашей комнате».
Какое отличие от звероподобных мужей, описанных благородным шевалье! Но в этой буржуазной среде также не знали таких глупостей, как «не любить своих мужей». Напротив, этот буржуа говорит жене, что она должна «крепко любить мужа, уделять лишь немного любви членам его семьи и полностью отдалиться от всех мужчин, особенно от тех молодых бездельников, которые транжирят деньги и, не обладая ни богатством, ни знатностью, становятся танцорами, а также от придворных и других, о ком говорят, что они ведут распутную жизнь». Супруг сознавал, что он в любом случае умрет намного раньше жены, когда она будет еще достаточно молода, чтобы выйти замуж вторично. Более всего он был озабочен тем, чтобы она, живя со вторым мужем, делала честь его имени. Какое пятно будет на его памяти, если (когда она пойдет с его преемником в церковь) у нее будет измят воротник платья, как это очернит его доброе имя, если она не будет знать, как заказать ужин для приема двенадцати или пятнадцати гостей во время Великого поста! (Блохи докучали ему, и он приводит шесть разных способов, как от них избавиться. Кровати в те времена застилались меховыми покрывалами, так что многие, должно быть, проводили ночи без сна.)
В то же время он ожидает от жены, что она будет любящей, скромной, заботливой, послушной и внимательной к нему, не станет разглашать его секреты (Жан де Мен полагал, что желать этого — значит требовать от женщин невыполнимого) и проявит терпение, если он будет столь глуп, что позволит своему сердцу увлекаться другими женщинами. По улице она должна ходить, подняв голову и опустив веки, никогда не разглядывая мужчин и не останавливаясь, чтобы с кем-то поговорить (этому придавали огромное значение все средневековые моралисты).
По мнению того замечательного милейшего автора, хорошего мужчину из дома гонят три вещи: сварливая жена, протекающая крыша и дымящий камин. «Позаботься о том, чтобы зимой у него был хороший очаг без дыма, и дай ему хорошо отдохнуть, прикрывай ложбинку меж грудей и таким образом очаровывай его. Обрати внимание,— подчеркивает он,— чтобы муж снимал башмаки перед жарким огнем, чтобы ему вымыли ноги (проделывала ли его жена эту операцию сама — об этом он говорит не совсем ясно), чтобы у него были чистые башмаки и чулки, хорошая еда и питье, удобная постель с чистыми простынями, покрытая хорошим мехом, а на голову надет ночной колпак. Ублажай его другими развлечениями и забавами, ласками и участием, секретами, о которых я должен умолчать... ибо, во имя Божие,— пишет он,— я верю, что когда два хороших и честных человека обвенчаны, все прочие привязанности уходят прочь, рушатся и забываются. Когда влюбленные вместе, они обмениваются нежными взглядами, знаками и прикосновениями, а когда расстаются, то говорят себе: «Когда я ее (его) увижу, я скажу то, я сделаю это», и их взаимное удовольствие в том, чтобы доставлять друг другу наслаждение».
Однако, прежде всего он хочет быть уверен, что его воображаемый преемник будет обеспечен всеми необходимыми жизненными благами и хорошей едой. (Фактически в книге так много места отведено хитростям садоводства и рецептам всяких вкусных блюд, что удивленный критик-реалист может счесть мягкий тон автора просто литературным приемом; но, возможно, мне не следовало об этом упоминать: это лишает рассказ его очарования.)
Буржуа и его супруга были, должно быть, очень гостеприимны. Он любил, чтобы дом был украшен цветами, и давал жене полезные советы, как сохранять розы на зиму в бочке, опущенной в протекавший позади их дома ручей. Поскольку этот метод, по-видимому, приносил хорошие результаты, интересно, можно ли его использовать в современных садах?
Наиболее полная и продуманная книга такого рода была написана женщиной (замечательной женщиной!) Кристиной де Пизан в начале пятнадцатого столетия. Вслед за своим отцом, знаменитым итальянским астрологом, Кристина появилась при дворе Карла V, где собрала достаточно материала, чтобы написать интересную книгу о его царствовании. Там она познакомилась с французским дворянином Этьеном дю Кастелем и вышла за него замуж, однако вскоре овдовела и начала испытывать нужду в деньгах. Тогда Кристина взялась за перо и стала, по-видимому, первой профессиональной писательницей, зарабатывая достаточно, чтобы содержать свою мать и воспитывать детей, прежде чем удалиться в монастырь. «Разум, честность, преданность» — единственное из ее произведений, которое нас занимает, так как содержит сведения об обязанностях жен, принадлежавших к разным общественным классам, в понимании чрезвычайно интеллигентной средневековой дамы, получившей прекрасное воспитание.

Прежде всего, Кристина обращается к принцессам и другим дамам высокого ранга, которые должны поддерживать свое положение в обществе, полагая, что они играют важную политическую роль посредницы и миротворицы. Благородные дамы, говорит писательница, должны прилагать все усилия, чтобы восстановить согласие между враждующими баронами. Им надлежит быть осведомленными о всех событиях религиозной и светской жизни. Дамы должны рано вставать, заботиться об управлении своими владениями, говорить вежливо «даже» со слугами, во второй половине дня заниматься шитьем и разбираться в делах своих мужей, чтобы давать им советы касательно всего, что они планируют. Кристина советует дамам не предаваться лени, обжорству и высокомерию (из других произведений поэтессы видно, что эти пороки были обычными для ее современниц), самим проверять свои счета и, по возможности, читать больше благочестивых книг.
Как должны были вести себя эти гордые дамы перед лицом своих мужей? Всегда — как подобает скромным и послушным спутницам жизни. Жена должна была заботиться о мужнином здоровье (часто обсуждая его болезни с лекарем) и тактично отваживать от дома дурно влияющих на благородного господина друзей. Жене надлежало быть покорной мужу, даже в том случае, если у нее не оставалось никаких иллюзий на его счет, поскольку Кристина признает, что многие из них «не отличаются хорошим поведением и не делают ничего, что позволяло бы думать, будто они любят свою жену — хоть умеренно или даже немного». Овдовев, принцесса должна удалиться в свои владения, которыми ей надлежит управлять лично, и там принимать у себя помещиц, крестьянских женщин и посещать больных.
Познания жен баронов и мелкого дворянства должны быть, по мнению Кристины, еще более разносторонними. Эти женщины должны быть способны заменять своих мужей, пока те воюют, и в совершенстве разбираться в феодальных и военных законах. Женам нетитулованных дворян полагалось знать все о сельском хозяйстве и подборе работников. Они должны были объезжать поля и смотреть, чтобы никто из работников не лодырничал, надзирать за пастухами, уметь ухаживать за скотиной и договариваться о ценах на зерно. И, наконец, им надлежало заботиться о том, чтобы во дворе замка было чисто, дабы гости не запачкали свои чулки.
К женам торговцев-горожан Кристина проявляет не столь благожелательное отношение; они, с ее точки зрения, живут чересчур зажиточно и платят недостаточно высокие налоги. Работающие женщины не должны часто посещать таверны, им надлежит отдавать своих детей в школы и обучать какому-либо ремеслу. Дети работников были, похоже, чем-то вроде сельскохозяйственных вредителей, поскольку Кристина советует их матерям следить, чтобы ребятня не проделывала дыр в живых изгородях, не обчищала сады и не воровала фрукты. «И не разоряйте себя тяжбами» — предостерегает Кристина женщин (от этой привычки их не удавалось отучить никогда и никому). В общем и целом, Кристина де Пизан была самой умной и здравомыслящей женщиной, хотя и немного суровой.
Автор «Жалобы Майо» — человек веселый и абсолютно приземленный — много написал против брака и женщин. Он утверждал, что мужчине должна быть предоставлена законная возможность испытать свою невесту, прежде чем он окажется связанным с ней на всю жизнь; в конце концов, ни один покупатель не станет приобретать товар без того, чтобы как следует не разглядеть и не ощупать его; с другой стороны, монашеские обеты произносятся людьми только после того, как они год побудут послушниками. Так почему бы не распространить этот обычай и на брачные узы?
Зачем толкать, как в омут, в брак,
Не дав узнать, что там и как?
Ведь прежде чем тонзуру брить,
Дают послушником побыть!
В воображаемом диалоге со Всевышним автор дерзко обвиняет Господа в том, что Он навязал человечеству заповеди, которых сам, будучи холостяком, не придерживается, однако Господь уверяет своего собеседника, что, по Его мнению, брак — сущее мучение, а следовательно — самый верный из способов заслужить венец небесный. Мужьям — поскольку страданий на их долю выпадает больше — на Небесах будут отведены лучшие места, нежели служителям Божиим, и Господь чрезвычайно любезно предоставляет автору возможность увидеть счастливую компанию мужей, освободившихся от брачных уз и наслаждающихся в своем кругу небесными радостями.
|
Метки: средние века брак |
Майерлинг. Кронпринц Рудольф |

Кронпринц Рудольф
Мария Вечера была юной, свежей, красивой и ....как бы это сказать...не очень умной, зато восторженной девушкой.

Мария Вечера
Заморочив бедной девице голову, кронринц удалился вместе с ней

Они покончили с собой,надеясь, что рыдающие родственники похоронят дорогих усопших в одной могиле, и на ней вырастет алая роза, и тогда все поймут, что любовь сильнее смерти, и они будут лежать в гробу прекрасные, спокойные и счастливые.
В принципе, Рудольфу лежать именно так удалось ( он кажется улыбающимся на посмертной фотографии).
Что касается Мари, я убеждена, если бы она знала, что жет ее тело после смерти, она ни за что не согласилась бы на уговоры принца и ,вообще, обходила бы его за километр.
Сначала, чтобы скрыть ее присутствие в замке, обнаженное тело Марии запихали в бельевую корзину и убрали в чулан. Графы Георг Штокау и Александр Балтацци — дядья Марии — под вечер 31 января прибыли в Майерлинг; выполняя наказ не привлекать к себе внимания, они добирались окольными путями, в простой черной карете графа Штокау.

Александр Балтацци
Полчаса не могли они достучаться в запертые наглухо ворота замка, пока наконец из столицы не прибыли представитель придворной канцелярии барон Слатин и доктор Аухенталер — им Цвергер открыл ворота. Управляющий провел их вместе со старшим инспектором бароном Горупом к опечатанному чулану. Барон Слатин сорвал печати, которые он же сам и наложил прежде, и с несколько встревоженной совестью (а также и с досадливой мыслью, как пишет он в своих мемуарах, что именно на него, самого молодого из присутствующих, взвалили — и, разумеется, безо всякого письменного указания — это щекотливое дело, которое может обернуться бог весть какими неприятностями) впустил господ в темный чулан, где Мария Вечера вот уже тридцать восемь часов в бельевой корзине с носовым платком в окоченелых пальцах ожидала своего воскресения. Теперь ей оставалось ждать недолго.
Только не привлекать внимания! — такой напутственный приказ был дан барону Горупу, и это навело его на гениальную идею. Лишь обстоятельства повинны в том, что осуществить ее удалось с пятого на десятое.
— Одеть ее/ — приказывает он графам, которые, скорей всего, беспомощно и испуганно застыл над мертвой племянницей. — Но чтобы выглядела, как живая!
Позднее сыщется и свидетель (об этом позаботится Горуп), который подтвердит, если у кого-либо возникнут сомнения, что баронесса удалилась из замка живая, на своих собственных ногах! Не зря назначат потом Горупа шефом венской полиции.
Ну а теперь, как достойное завершение благоухающего духами представления, следует безумная, жуткая гротескная сцена, которая так и просится в роман ужасов. Оба графа не протестуют, не взывают к милосердию, не ссылаются на приличия — они подчиняются старшему инспектору и принимаются обряжать племянницу.

Закроем на минуту глаза и попытаемся представить себе эту невероятную, ошеломляющую сцену. Мы бы не поверили, если бы сам барон Слатин не утверждал, что именно так оно и было. (Хотя все равно сомневаешься.)
Длинные волосы Марии закалывают в пучок, затем слегка отмывают засохшую на лице кровь, но вот при чьем-то неосторожном движении с глаза (граз был выбит выстрелом)Марии спадает импровизированная повязка, наложенная доктором Видерхофером, и поскольку больше под рукой ничего не находится, ее наспех заменяют шелковым галстуком графа Штокау. На девушку надевают белье, корсет, шелковые чулки и изящные туфельки, красивое оливково-зеленое платье, в котором она ушла из дому, все это проделывают при тусклом (уместно будет сказать: призрачном) свете фонаря, который держит Цвергер, а барон Слатин тем временем в коридоре перед апартаментами наследника тщетно пытается побороть дурноту. Работа подвигается медленно, ибо у графов нет сноровки, к тому же они наверняка нервничают — понапрасну их все время подгоняет Горуп, которому предстоит еще ночью провернуть похороны. Наконец Марии нахлобучивают на голову ее модную охотничью шляпку с пером, прикалывают вуаль и выносят девушку в холл. И тут, при желтом, теплом свете газовых ламп, силы вдруг оставляют обоих графов. Им приходится опустить свою ношу — вернее, усадить Марию в кресло. Несколько придя в себя, они набрасывают племяннице на плечи ее котиковое манто, затем, взяв ее под руки с обеих сторон, слегка приподнимают и несут — сопровождают! — к карете. Но голова покойницы неестественно склонена на грудь (запрокинута назад?); в таком виде ее нельзя дальше нести — не производит впечатления жизненной достоверности. Горуп посылает Цвергера за метлой (или за тростью), засовывает ее сзади под корсет как подпорку и собственным носовым платком привязывает шею девушки к палке, чтобы голова держалась прямо.
К тому времени уже настала глухая тьма, в замке находились лишь те, кому и без того все было известно, — непостижимо, для кого разыгрывалась комедия. Остается предположить, что Горуп отрежиссировал ее для самого себя: выполнение обязанностей должно подкрепляться внутренней удовлетворенностью.
Покойницу усадили на заднем сиденье в карете графа Штокау, а оба ее родственника разместились напротив. По рассказу графа Штокау, от тряски труп Марии все время падал на них. За погребальной каретой (то бишь «закрытым транспортным средством») следовала другая, где ехали официальные лица. Барон Слатин держал на коленях узел: в простыню было завернуто окровавленное постельное белье, а также пропитанные кровью и подлежащие списанию в расход ковры (19-й и 20-й пункты инвентарного перечня). Их увозили для сожжения.
Погода стояла холодная, ветреная, шел дождь с градом, луна была скрыта тучами, окна кареты подернуты изморозью — графы не могли определить, куда их везут. Наконец карета остановилась у темных кованых ворот, которые тотчас же отворились. Вышли два монаха с фонарями. Мари больше не было нужды изображать живого человека. Часы на башне аббатства — с тех пор, как Горуп взял дело в свои руки, все события должны были разворачиваться по дешевым шаблонам душераздирающей романтики, — как раз пробили полночь.
|
Метки: кронпринц рудольф |
Процитировано 1 раз
Жена адмирала Колчака. |
Она родилась на Украине — в старинном городке Каменец-Подольске, в тех краях, где был пленен прадед ее будущего мужа — турецкий генерал Колчак-паша. Брал его в плен брат ее пращура по материнской линии - фельдмаршал Миних. Со стороны матери, Дарьи Федоровны Каменской, числился еще один воинственный предок — генерал-аншеф М.В. Берг, громивший войска Фридриха Великого в Семилетнюю войну. По отцу же, Федору Васильевичу Омирову, начальнику подольской Казенной палаты, предки были куда более мирные — из духовного сословия.
Софья Омирова блестяще закончила Смольненский институт. Любила читать, изучала философию. Знала семь языков. Причем английским, французским и немецким владела в совершенстве...
Где и как они познакомились? Думаю, на одном из балов в Морском корпусе или в Смольненском институте. Ухаживание длилось несколько лет, и перед отбытием лейтенанта Колчака в северную экспедицию барона Толля они уже были помолвлены.
Чудом сохранилось одно из писем, адресованное ей женихом из похода: «Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая, и так жива передо мной вся картина нашей встречи, так мучительно и больно, как будто это было вчера. Сколько бессонных ночей я провел у себя в каюте, шагая из угла в угол, столько дум, горьких, безотрадных... без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Все мое лучшее я нес к Вашим ногам, как к божеству моему, все свои силы я отдал Вам...»
Свадьбу сыграли в Иркутске в 1904 году. Невеста примчалась к любимому в Якутию с острова Капри — на пароходах, поездах, оленях, собаках, — чтобы встретить его полуживого после полярной экспедиции. Она привезла с собой провизию для всех участников того отчаянного похода. Венчались в Градо-Иркутской Архангело-Михайловской церкви скоропалительно - разразилась война с Японией и муж, лейтенант, уже выхлопотал назначение в Порт-Артур. И уже на второй день после венчания в иркутской Архангело-Михайловской церкви Софья провожала суженого — на Дальний Восток, в Порт-Артур, на войну...
Так и было в их жизни… Всегда….
С первых же часов начавшейся в августе 1914 года германской войны капитан 2-го ранга Колчак был в море. А Софья, квартировавшая в прифронтовой Либаве с двумя детьми, поспешно паковала под канонаду немецких батарей чемоданы. Все говорили, что Либаву сдадут, и семьи русских офицеров осаждали вагоны поезда, идущего в Питер. Бросив все нажитое за десять лет, жена Колчака с детьми на руках и жалким дорожным скарбом все же выбралась из прифронтового города.
Она честно несла крест офицерской жены: переезды с места на место, чужие квартиры, болезни детей, бегство из-под обстрела, соломенное вдовство и вечный страх за мужа — вернется ли из похода... И не было ей за это никаких государевых наград и почестей. Муж получал ордена и боевые кресты. А она ставила кресты на могилах своих дочерей. Сначала умерла двухнедельная Танечка, потом — после бегства из осажденной Либавы — и двухлетняя Маргарита. Выжил лишь средний — Славик, Ростислав.
В центре ее мира были сын и муж. Только о них она думала и беспокоилась.Софья писала Колчаку:
«Дорогой мой Сашенька! Пыталась писать тебе под Славушкину диктовку, но, как видишь, получается все одно и то же: Мыняма папа гм цыбыбе канапу (конфету). У нас тут все по-старому. У Славушки прорезались два коренных зуба... Разбирая вещи, я осмотрела твое штатское платье: оно в порядке, кроме смокинга, попорченного молью. Сколько прекрасных вещей за бесценок отдали по твоему желанию татарину».
Она писала ему в Либаву с дачи своих друзей под Юрьевом, где проводила с детьми лето.
«2 июня 1912 года. Дорогой Сашенька! Славушка начинает много говорить, считать и поет себе песни, когда хочет спать... Как твои дела? Где ты теперь? Как прошли маневры и цел ли твой миноносец? Я рада, что ты доволен своим делом. Я боюсь, не было бы войны, тут об этом много говорили. Читала роман о генерале Гарибальди по-итальянски. Вышиваю и считаю дни. Пиши про себя. Переменилось ли к тебе начальство, получив полмиллиарда на флот?
Твоя любящая Соня».
Чуть больше года пробыла она адмиральшей, женой командующего Черноморским флотом, первой дамой Севастополя. Потом — почти отвесное падение в ад подпольной жизни, эмигрантского безденежья, увядания на чужбине... В Севастополе она не барствовала — организовала санаторий для нижних чинов, возглавила дамский кружок помощи больным и раненым воинам. А муж, если не уходил в боевые походы, то до полуночи засиживался в штабе. Черноморский флот под его командованием господствовал на театре военных действий.
«...Несмотря на невзгоды житейские, — писала она ему, — я думаю, в конце концов обживемся и хоть старость счастливую будем иметь, а пока же жизнь — борьба и труд, для тебя особенно...» Увы, не суждено им было иметь счастливую старость...
Последний раз она обняла мужа на перроне севастопольского вокзала. В мае 1917 года Колчак уезжал в Петроград, в командировку, которая не по его воле превратилась в кругосветку, закончившуюся расстелом в Сибири. Перед смертью Колчак сказал: «Передайте жене в Париж, что я благословляю сына». Из Иркутска эти слова и в самом деле достигли Парижа... Но тогда, в Севастополе, они прощались ненадолго...
Софья ждала его в Севастополе, даже тогда, когда оставаться там стало небезопасно; она пряталась по семьям знакомых моряков. И хоть муж ее — Александр Васильевич Колчак — еще не совершил ничего такого, чтобы ему наклеили ярлык «врага трудового народа», в городе нашлось бы немало людей, которые бы охотно подсказали чекистам — вон там укрывается жена командующего Черноморским флотом. Даром, что бывшего... Все это она прекрасно понимала, а потому еще летом 17-го отправила сына, десятилетнего Ростика, в Каменец-Подольский, к подругам детства.. А она осталась в Севастополе - ждать мужа и испытывать судьбу.
В декабре по городу прокатилась первая волна расстрелов. В ночь с 15 на 16 декабря были убиты 23 офицера, среди них — три адмирала. Софья Федоровна с ужасом прислушивалась к каждому выстрелу, к каждому громкому возгласу на улице, радуясь, что муж сейчас далеко, и сын — в тихом и надежном месте. Она бы и сама давно бы уехала туда, но верные люди сообщили, что Александр Васильевич снова в России, что он едет по Сибирской магистрали и что скоро будет в Севастополе. Первой мыслью было — немедленно ехать к нему навстречу, предупредить, что в город нельзя — схватят и расстреляют, не посмотрят, что сын севастопольского героя, что сам герой двух войн, георгиевский кавалер...
Теперь, как 13 лет назад, она снова была готова мчаться ему навстречу, через чекистские кордоны и партизанские засады... Она ждала его из этой чудовищно затянувшейся служебной командировки. Она ждала его из полярных экспедиций. Она ждала, когда он вернется с войны, она ждала его из японского плена. Но это севастопольское ожидание было самым безнадежным. Она почти знала, что он не вернется, и все-таки ждала, рискуя быть узнанной, арестованной, «пущенной в расход».
Она перестала его ждать лишь тогда, когда из Омска пришло известие: с Колчаком в поезде — Она. Анна. Жена его однокашника по Морскому корпусу — капитана 1-го ранга Сергея Тимирева. Молодая, красивая, страстная, любимая… А как холоден и жесток мог быть Колчак к женщине, которую любил когда-то, к своей жене! Забыто все, что связывало их - остался только отстраненный, ледяной тон. Вот фрагменты письма, отправленного Колчаком в октябре 1919 года Софье Федоровне, где он требует от жены не касаться своих взаимоотношений с Анной Тимиревой. Честно говоря, оно просто ужасающе, не дай Бог ни одной женщине получить такое:
«Перед отъездом моим из Омска в Тобольск я получил твое письмо от 4-У1, а в пути в г. Тара встретился с В.В. Романовым, передавшим мне твое письмо от 8-У1. Я возвращаюсь после объезда Северного фронта из Тобольска в Омск на пароходе по Иртышу. Почти 21/2 месяца, с начала августа, я провел в разъезде по фронту. С конца августа армии начали отступление и после упорных и тяжелых месячных боев отбросили красных на реку Тобол. Война приняла очень тяжелый и ожесточенный характер, осложняемый осенним временем, бездорожьем и усиливающимися эпидемиями сыпного и возвратного тифа...
Мне странно читать в твоих письмах, что ты спрашиваешь меня о представительстве и каком-то положении своем как жены Верховного правителя. Я прошу тебя уяснить, как я сам понимаю свое положение и свои задачи. Они определяются старинным рыцарским девизом... «Ich diene» («Я служу»). Я служу Родине своей Великой России так, как я служил ей все время, командуя кораблем, дивизией или флотом.
Я не являюсь ни с какой стороны представителем наследственной или выборной власти. Я смотрю на свое звание как на должность чисто служебного характера. По существу, я Верховный главнокомандующий, принявший на себя функции и Верховной Гражданской Власти, так как для успешной борьбы нельзя отделять последние от функций первого.
Моя цель первая и основная — стереть большевизм и все с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить его. В сущности говоря, все остальное, что я делаю, подчиняется этому положению. Я не задаюсь решить вопроса о всем том, что должно последовать за выполнением первой задачи; конечно, я думаю об этом и намечаю известные операционные направления, но в отношении программы я подражаю Суворову перед Итальянским походом и, перефразируя его ответ гофкригсрату, говорю: «Я начну с уничтожения большевизма, а дальше как будет угодно Господу Богу!»
Вот и все. Таким образом, я прошу тебя всегда руководствоваться этими положениями в отношении меня...
Ты пишешь мне все время о том, что я недостаточно внимателен и заботлив к тебе. Я же считаю, что сделал все, что я должен был сделать. Все, что могу сейчас желать в отношении тебя и Славушки, чтобы вы были бы в безопасности и могли бы прожить спокойно вне России настоящий период кровавой борьбы до Ее возрождения. Ты не можешь ни с какой стороны, кроме уверенности моей в безопасности и спокойной жизни твоей за границей, помочь мне в этом деле. Ваша будущая жизнь и в переносном, и в прямом смысле зависит от исхода той борьбы, которую я веду. Я знаю, что ты заботишься о Славушке, и с этой стороны я спокоен и уверен, что ты сделаешь все, что надо, чтобы воспитать его до того времени, когда я буду в состоянии сам позаботиться о нем и постараться сделать из него слугу Родины нашей и хорошего солдата. Прошу тебя положить в основание его воспитания историю великих людей, т. к. примеры их есть единственное средство развить в ребенке те наклонности и качества, которые необходимы для службы, и особенно так, как я ее понимаю. Я много говорил с тобой об этом и полагаю, что ты знаешь мои на этот предмет суждения и мнения.
Относительно денег я писал, что не могу высылать более 5000 фр. в месяц, т. к. при падении курса нашего рубля 8000 фр. составят огромную сумму около 100 000 руб., а таких денег я не могу расходовать, особенно в иностранной валюте.
Из моего письма ты усмотришь, что никакой роли в смысле представительства и приемов не только не требуется исполнять, но, по-моему мнению, она недопустима и может поставить тебя в очень неприятное положение. Прошу быть крайне осторожной во всех случаях, разговорах и встречах с иностранными и русскими представителями...
Прошу не забывать моего положения и не позволять себе писать письма, которые я не могу дочитать до конца, т. к. я уничтожаю всякое письмо после первой фразы, нарушающей приличие. Если ты позволяешь слушать сплетни про меня, то я не позволяю тебе их сообщать мне. Это предупреждение, надеюсь, будет последним.
Пока до свидания. Твой Александр».
Я бы немедленно умерла от ужаса и горя, но Колчаку везло на сильных женщин.
Письмо А.В. Колчака сыну:
«20 октября 1919 г.
Дорогой милый мой Славушок.
Давно я не имею от тебя писем, пиши мне, хотя бы открытки по нескольку слов.
Я очень скучаю по тебе, мой родной Славушок...
Тяжело мне и трудно нести такую огромную работу перед Родиной, но я буду выносить ее до конца, до победы над большевиками.
Я хотел, чтоб и ты пошел бы, когда вырастешь, по тому пути служения Родине, которым я шел всю свою жизнь. Читай военную историю и дела великих людей и учись по ним, как надо поступать, — это единственный путь, чтобы стать полезным слугой Родине. Нет ничего выше Родины и служения Ей.
Господь Бог благословит Тебя и сохранит, мой бесконечно дорогой и милый Славушок. Целую крепко Тебя. Твой папа».
В апреле большевики спешно покинули Крым и в Севастополь вступили войска кайзера. И снова пришлось прятаться. Немцы вряд ли оставили бы в покое жену русского адмирала, нанесшего им столь ощутимые удары в Балтийском и Черном морях. К счастью,на нее никто не донес. Этот самый страшный год в ее жизни окончился для жены адмирала только с приходом англичан. Софью Федоровну снабдили деньгами и с первой же оказией переправили на «корабле ее Величества» в Констанцу. Оттуда она перебралась в Бухарест, куда выписала из самостийной Украины сына Ростислава, и вскоре уехала с ним в Париж. Севастополь—Констанца—Бухарест—Марсель—Лонжюмо... Начиналась другая жизнь — без мужа, без родины, без денег... Все ценное из уцелевшего: столовое серебро, яхт-призы мужа и даже чарочки, поднесенные кают-компаниями кораблей, на которых он служил, — пошло в ломбард. Она сдавала туда золотую медаль мужа, полученную от Географического общества за полярные экспедиции, и серебряные чайные ложки, которые удалось вывезти из Севастополя
Благо, она не была барыней-белоручкой; многодетная семья, Смольненский институт, кочевая военная жизнь научили ее многое делать своими руками. И она перешивала, перелицовывала старые вещи, вязала, огородничала. Но денег катастофически не хватало. Однажды из спасло от голода чудо: сын адмирала Макарова, воевавший под знаменами Колчака в Сибири, присылает бедствующей вдове из Америки 50 долларов — все, что смог наскрести из своих доходов. В ее полунищенской жизни это стало грандиозным событием. Вот письмо Софьи Федоровны Ф. Нансену, у которого в 1900 году в Норвегии А.В. Колчак проходил подготовку перед своей первой полярной экспедицией. В эмиграции Софья Федоровна шла на многие унижения, чтобы выучить сына и выжить самой. Подобные письма она писала и другим людям, вежливо-просительную интонацию она вынуждена была усвоить прекрасно.
«Дорогой сэр, все еще надеясь без надежды, я взяла на себя смелость обратиться к Вам... До сих пор нам оказывали помощь несколько скромных, чаще желающих остаться неизвестными, друзей, однако более многочисленные враги, беспощадные и жестокие, чьи происки сломали жизнь моего храброго мужа и привели меня через апоплексию в дом призрения. Но у меня есть мой мальчик, чья жизнь и будущность поставлены сейчас на карту. Наш дорогой английский друг, которая помогала нам последние три года, не может больше оказывать поддержку; и сказала, что после 10 апреля сего года она для него ничего не сможет сделать. Молодой Колчак учится в Сорбонне... с надеждой встать на ноги и взять свою больную мать домой. Он учится уже два года, осталось еще два или три года до того, как он получит диплом и выйдет в большую жизнь. В мае начнутся экзамены, которые полностью завершатся к августу. Но как дожить до этого момента? Мы только на время хотели бы занять немного денег, чтобы перевести ему 1000 франков в месяц — сумма, достаточная для молодого человека, чтобы сводить концы с концами. Я прошу у Вас 5000 франков, на которые он может жить и учиться, пока не сдаст экзамены...
Помните, что мы совсем одни в этом мире, ни одна страна не помогает нам, ни один город — только Бог, которого Вы видели в северных морях, где также бывал мой покойный муж и где есть маленький островок, названный островом Беннетта, где покоится прах Вашего друга барона Толля, где северный мыс этих суровых земель назван мысом Софьи в честь моей израненной и мечущейся души — тогда легче заглянуть в глаза действительности и понять моральные страдания несчастной матери, чей мальчик 10 апреля будет выброшен из жизни без пенни в кармане на самое дно Парижа. Я надеюсь, Вы поняли наше положение и Вы найдете эти 5000 франков как можно быстрее, и пусть Господь благословит Вас, если это так. Софья Колчак, вдова Адмирала».
Ростислав в 1931 году поступит на службу в Алжирский банк, женится на дочери адмирала Развозова. Софья Федоровна скончается в 1956 году... На карте России остался ее почти неприметный след. В далеком Восточно-Сибирском море вмерзает в льды остров Беннетта. Юго-восточный мыс его носит имя Софьи — невесты отчаянного лейтенанта.
Как сложилась судьба А.Н. Тимирева после ухода жены?
С 3 мая 1918 года он состоял в Белом движении Владивостока. Когда осенью А.В. Колчак занял пост Верховного правителя России, Тимирев с 23 ноября 1918 года по 15 августа 1919 года служил в городе помощником Верховного главнокомандующего по морской части, а до весны 1919 года — командующим морскими силами на Дальнем Востоке.
В китайской эмиграции адмирал Тимирев плавал капитаном торгового флота Шанхая, в начале 1930-х годов был активным членом «Объединения Гвардейского экипажа» — «Кают-компании», собиравшейся на его квартире, когда он первые два года председательствовал в этом отборном сообществе. Тимирев написал в 1922 году интересные мемуары: «Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции (1914—1918 гг.)». Они опубликованы в Нью-Йорке в 1961 году. В них на почетном месте рассказы о его гардемаринском однокашнике А.В. Колчаке. Умер С.Н. Тимирев 31 мая (13 июня) 1932 года в Шанхае.
Он не узнал, что его единственный сын расстрелян большевиками.
|
Метки: колчак |
Процитировано 2 раз
Адмирал Колчак. Вечная любовь. Всё в жертву памяти твоей..... |

Почти весь февраль 1919 года Верховный правитель адмирал А.В. Колчак провел в поездке по городам Урала и прифронтовым районам. Для того чтобы иметь представление о его неустанной деятельности не только в омской Ставке, но и в местах боев, уточним маршрут поезда Колчака и главные пункты его остановок: Омск — Курган (9 февраля) — Челябинск (10-11 февраля) - Златоуст (12 февраля) — прифронтовые районы (13—14 февраля) — Троицк (15 февраля) — Челябинск (15 февраля) — Екатеринбург (16—18 февраля) — Нижний Тагил (18 февраля) — Пермь (19 февраля) — прифронтовые районы (20 февраля) — Мотовилиха (21 февраля) — ... - Екатеринбург (23-24 февраля) - Тюмень (25 февраля) — Омск.
В тот буранный февраль Анна впервые надолго осталась ждать Александра Васильевича в Омске. А метели бушевали так, что на Урале и в Зауралье даже срывало кресты с церквей, между Омском и селами и деревнями Омского и Тобольского уездов то и дело рвалась связь, телеграммы с фронта и с поезда адмирала Колчака приходили с опозданием. И снова - письма...
Омск 14 февр[аля] 1919 г.
Надеждинская, 18
Дорогой мой, милый Александр Васильевич, какая грусть! Мой хозяин(хозяин дома, в котором снимала комнату А.Т.) умер вот уже второй день после долгой и тяжкой агонии, хоронить будут в воскресенье. Жаль и старика, и хозяйку, у которой положительно не все дома,хотя она и бодрится. И вот, голубчик мой, представьте себе мою комнату,покойника за стеною, вой ветра и дикий буран за окном. Такая вьюга, что я не дошла бы домой со службы, если бы добрый человек не подвез, - ничего не видно, идти против ветра - воздух врывается в легкие, не дает вздохнуть. Домишко почти занесен снегом, окна залеплены, еще нет 5-ти, а точно поздние сумерки. К тому же слышно, как за стеною кухарка по складам читает псалтырь над гробом. Уйти- нечего и думать высунуть нос на улицу. Я думаю: где Вы, уехали ли из Златоуста и если да, то, наверно, Ваш
поезд стоит где-нибудь, остановленный заносами. И еще - что из-за этих заносов Вы можете пробыть в отъезде дольше, чем предполагали, и это очень мало мне нравится. За Вашим путешествием я слежу по газетам уже потому, что приходится сообщения о нем переводить спешным порядком для телеграмм, но, Александр Васильевич, милый, они очень мало говорят мне о Вас, единственно моем близком и милом, и этот "Gouverneur Supreme" [Верховный правитель (фр.).] кажется мне существом, отдельным от Вас и имеющим только наружно сходство с Вами, бесконечно далеким и чуждым мне.
Кругом все больны, кто лежит вовсе, кто еле ходит. Я пока еще ничего, хожу от одной постели к другой. Говорят, что с наступлением ветров это общее правило в Омске, но одна мысль заболеть здесь приводит в панику. Дорогой мой, милый, возвращайтесь только скорее, я так хочу Вас видеть, быть с Вами, хоть немного забыть все, что только и видишь кругом, - болезни, смерть и горе. Я знаю, что нехорошо и несправедливо желать для себя хорошего, когда всем плохо, но ведь это только теория, осуществимая разве когда уляжешься на
стол между трех свечек, как мой хозяин. Но я же живая и совсем не умею жить,когда кругом одно сплошное и непроглядное уныние.
И потому, голубчик мой, родной Александр Васильевич, я очень жду Вас, и Вы приезжайте скорее и будьте таким милым, как Вы умеете быть, когда захотите, и каким я Вас люблю. Как Вы ездите? По газетам, Ваши занятия состоят преимущественно из обедов и раздачи Георгиевских крестов - довольно скудные сведения, по правде говоря. А пока до свидания. Я надеюсь, что Вы не совсем меня забываете, милый Александр Васильевич,- пожалуйста, не надо. Я раза 2 была у Вас в доме, Михаил
Михайлович поправляется, совсем хорошо, это так приятно. Ну,
Господь Вас сохранит и пошлет Вам счастья и удачи во всем.
Анна

Резиденция Колчака.
15 февр[аля] [1919 г.]
Сегодня утром еле откопали наш дом, столько навалило снегу.После вчерашней вьюги мороз, а дом нельзя весь топить из-за покойника... Поэтому собачий холод, но и это не помогает, третий день со смерти, и воздух тяжелый. У меня открыты все дыры в комнате и, вероятно, никакого запаха нет, но мне все кажется, как он проникает во все щели, как я ни закрываю двери.
Это приводит меня в невозможное состояние. Сплошной холодный ужас. Кажется,я не выдержу и - сбегу куда-нибудь, пока его не похоронят. Жалко только и совестно немного оставлять старушонку, но не могу больше. Ну, все равно с утра до ночи толкутся какие-то старые девы, читальщицы, чужие горничные, просто знакомые - похоронное оживление. Шибко худо есть, Сашенька, милый мой, Господи, когда Вы только вернетесь, мне холодно, тоскливо и так одиноко без Вас.
Позорно сбегаю - не знаю даже куда - может быть, к Вам, не могу оставаться.
Александр Васильевич,милый, вот второй день, что я на основании
захватного права пользуюсь Вашей комнатой, койкой и даже блокнотом с заголовком "Верховный Правитель". Я сбежала из дому, не выдержав похорон со всеми атрибутами. Эти дни правда были похожи на какой-то кошмар.Сегодня возвращаюсь к себе обратно. Опять буран, но солнце все-таки светит, т[ак] ч[то] хочу сейчас идти на службу - надеюсь, не занесет. Снегу на набережной намело горы, то круглые холмы, то точно замерзшие волны. Снег набился между
рамами, вся Ваша терраса завалена. Ну и климат... Я все время думаю о заносах на жел[езных] дорогах. Теперь ведь везде они должны быть. Насколько это Вас еще задержит, Александр Васильевич, милый? А я так хочу, чтобы Вы скорее приезжали. Сегодня, когда начался буран, я лежала и все думала, как было бы хорошо, если бы Вы были здесь теперь. Выйти никакой возможности - и к Вам никто ни по каким делам не явится - force majeure, по крайней мере я могла бы повидать Вас при дневном свете. Что же делать, если для такой простой вещи надо стихийное безобразие.
Милый, дорогой мой, я опять начинаю писать невозможную галиматью - но ведь я пишу Вам "для того, чтоб доказать мое расположение, а вовсе не затем, чтоб высказать свой ум" (если Вы мне преподносите письмо из Шиллера, почему я не могу Вам отвечать Шекспиром? - на одном диване вместе лежат и тот и другой). Я кончаю; как я служака, то, несмотря на метель и поздний час, все-таки пойду. Итак, до свиданья, Александр Васильевич, дорогой мой. Я очень жду Вас и хочу видеть, а Вы хоть бы строчку мне прислали - ведь ездят же от Вас курьеры?
Господь Вас сохранит, голубчик мой милый. Не забывайте меня.
Анна
Красные наступали. Оставаться в Омске было невозможно. Белая армия начала покидать город.
В начале декабря главнокомандующим оставшихся белых войск стал 36-летний генерал-лейтенант В.О. Каппель. Он сумел сплотить разлагающиеся части. За Красноярском Каппель свернул с дороги и повел войска по реке Кан. Это был небывалый в военной истории 120-верстный переход по льду реки, тянущейся среди непроходимой тайги.
Морозы доходили до 35 градусов. Трупы умерших от ран, тифа, простуды оставляли в штабелях на льду. В конце путь преградил горячий источник, бьющий поверх льда. Его с обозами было не обойти из-за отвесных берегов. Воинство, перенося поклажу, форсировало преграду поодиночке. Последние десять верст шли в промокших валенках. На том переходе раненный еще под Красноярском в руку генерал В.О. Каппель теперь получил рожистое воспаление ноги, затем легких и умер.
Этот легендарный Ледяной Сибирский поход колчаковцев не случайно сравнивают с Ледяным походом Добровольческой армии зимой 1917—1918 годов.
Анна Васильевна Тимирева вспоминала об этом времени:
«Из Омска я уехала на день раньше Александра] Васильевича] в вагоне, прицепленном к поезду с золотым запасом, с тем чтобы потом переселиться в его вагон. Я уже была тяжело больна испанкой, которая косила людей в Сибири.
Его поезд нагнал наш уже после столкновения поездов, когда было разбито несколько вагонов, были раненые и убитые. Он вошел мрачнее ночи, сейчас же перевел меня к себе, и началось это ужасное отступление, безнадежное с самого начала: заторы, чехи отбирают на станциях паровозы, составы замерзают, мы еле передвигаемся. Куда? Что впереди — неизвестно.
Да еще в пути конфликт с генералом Пе-пеляевым, который вот-вот перейдет в бой. Положение было такое, что А[лександр] Васильевич] решил перейти в бронированный паровоз и, если надо, бой принять. Мы с ним прощались как в последний раз. И он сказал мне: «Я не знаю, что будет через час. Но Вы были для меня самым близким человеком и другом и самой желанной женщиной на свете».
Не помню, как все это разрешилось на этот раз. И опять мы ехали в неизвестность сквозь бесконечную, безвыходную Сибирь в лютые морозы».
Так писал потом в Харбине об этой последней дороге адмирала Колчака колчаковский офицер, талантливый поэт Арсений Несмелое в стихотворении «В Нижнеудинске»:
И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг, на миг, в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.
Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них — Его черта,
Та складка боли, напряженья,
В которой роковое есть...
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.
И этот жест в морозе лютом,
В той перламутровой тиши, —
Моим последним был салютом,
Салютом сердца и души!
И он ответил мне наклоном
Своей прекрасной головы...
И паровоз далеким стоном
Кого-то звал из синевы...

Вместе с Анной была и отчаянная генеральша М.А. Гришина-Алмазова, ухаживавшая за больной подругой.
В Нижнеудинске (нынешнем Улан-Удэ) поезд главковерха был задержан чехословаками. Они под видом охраны Колчака взяли его состав под негласный арест. Верховному правителю России вручили телеграмму генерала Жанена, командовавшего в Сибири союзническими подразделениями, в том числе — чехословаками. Француз требовал, чтобы адмирал Колчак оставался на месте до выяснения обстановки. Это означало, на деле, союзники предательски отдали адмирарала в руки большевиков, на верную расправу.
Так пмсал об этих днях начальник колчаковского штаба Занкевич:
"«Чехами была получена новая инструкция из Иркутска из штаба союзных войск, а именно: если адмирал желает, он может быть вывезен союзниками под охраной чехов в одном вагоне, вывоз же всего адмиральского поезда не считается возможным. Относительно поезда с золотым запасом должны были последовать какие-то дополнительные указания...
Адмирал глубоко верил в преданность солдат конвоя. Я не разделял этой веры... На другой день все солдаты, за исключением нескольких человек, перешли в город к большевикам. Измена конвоя нанесла огромный моральный удар адмиралу, он как-то весь поседел за одну ночь...
Когда мы остались одни, адмирал с горечью сказал: «Все меня бросили». После долгого молчания он прибавил: «Делать нечего, надо ехать». Потом он сказал: «Продадут меня эти союзнички»... Я самым настойчивым образом советую ему этой же или ближайшей ночью переодеться в солдатское платье и... скрыться в одном из проходивших чешских эшелонов... Адмирал задумался и после долгого и тяжелого молчания сказал: «Нет, не хочу я быть обязанным спасением этим чехам»..."
Верховный правитель еще не знал, что союзники продали его. Большевики предложили им сделку - Колчак и золотой запас в обмен на свободный выезд из Росси ( и, конечно, часть золота). Сделка оказалась выгодной.
Около Иркутска эшелон остановился. В вагон заглянул чехословак : "Господин адмирал, вы будете переданы местным властям"
Алекандр Васильевич устало провел рукой по лицу : " Где же гарантии генерала Жанена?"
Адмирал взял вставшую с ним рядом Анну за руку. Он прощался так, робея поцеловать ее при всех в последний раз. Но она вдруг она сказала своим певучим голосом:
— Я желаю разделить участь Александра Васильевича.
Чехословацкий офицер изумленно взглянул на Анну, смущенно пояснил:
— Адмирала Колчака, очевидно, ждут всевозможные последствия.
Тимирева сказала еще громче, сжимая адмиральскую руку:
— Это не имеет для меня никакого значения, я хочу быть с ним до конца.
Так они и ушли с адмиралом рука об руку из своей последней общей «каюты».
В здании вокзала их вместе с Пепеляевым провели в бывшую «царскую» комнату для именитых особ. Здесь представители иркутского Политцентра объявили А.В. Колчаку и В.Н. Пепеляеву, что они арестованы. Чехословацкий офицер доложил о желании А.В. Тимиревой. Заместитель заведующего войсками Политцентра Нестеров недоуменно взглянул на Анну, с усмешкой пожал плечами и кивнул.
Так в протоколах ареста появилось удивительное слово " самоарестовалась", а в большевистских газетах кричащие заголовки "Арестована куртизанка - сожительница Колчака".
В составленном здесь протоколе обыска значилось:
«...У адмирала Колчака на руках имеется наличных денег десять тысяч рублей, у гражд. Пепеляева с точностью не установлено, сколько у него имеется на руках денег. Вещи гражданки Тимиревой не осматривались, денег взято тридцать пять тысяч рублей, и на руках осталось приблизительно восемь тысяч рублей. Гражданин Пепеляев заявил, что у него на руках имеется шестнадцать тысяч рублей».
Подпись уполномоченного Политцентра, затем:
«В. Пепеляев адмирал Колчак А. Тимирева».
Те незначительные вещи, что перечислялись выше, и эти небольшие по тем временам денежные суммы были всем добром, которое нажил на своей должности Верховный правитель России, Верховный главнокомандующий, Георгиевский кавалер. А вот перечень "богатого" « имущества А.В. Колчака и А.В. Тимиревой, оставшегося после ареста в вагоне»
Адмирала:
«Морской штандарт, черное шелковое знамя, английский флаг, три Андреевских флага, японский подсвечник, деревянный лакированный; серебряный кинжал, коробка с 7-ыо орденами, открытки — 228 штук, четыре штуки часов поломанных, одна часовая цепочка, три рюмки, два бокала, 27 серебряных монет, 21 медная монета, пенсне, печать медная, звезда наградная, футляр для мундштука, мелочь (запонки, булавки и т. п.) в коробке, выжженная коробка, коробочка, лакированная яйцом; деревянная коробка с рисунком большая, портрет неизвестной женщины, каталог автомобильный, картины, микроскоп, физический прибор, 29 икон и одна лампада, два портрета, седло, восемь картин разных» .
И " куртизанки":
«Полотенце с вышитой надписью, саше для вязания, грелка для чайника, ермолка для платков, две вышитые бисером полоски, палитра с красками, семь штук разных альбомов, Святое Евангелие, с собственной надписью; два кошелька вышитых, чехол для ручки, вышит бисером; чайный сервиз, деревянный, лакированный из 16-ти предметов; модель из кости — куска хлеба с двумя мышами, четыре штуки вееров, гребенка дамская, маленький резной ножик слоновой кости, костяные бусы, брошь костяная, одна каменная коробка, один карандаш, связка кожаных пуговиц, блюдечко фарфровое, солонка, бисерная ермолка, альбом для стихов, три штуки спиц с клубком, грелка с салфеткой, японская шпилька головная, кубики китайские, семь штук яиц пасхальных, стеклянная чашка».
В тюрьме их разлучили. Маленьким утешением для было увидеть во дворике колчаковскую голову, ставшую совсем серебряной. Анне так пригодились адмиральские заветы, которые он настойчиво повторял в Омске: «Ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты», «Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно».
Анне было жутко в мешке камеры. Ведь после восьми часов вечера освещение в камере отключали, все проваливалось в кромешную темноту, свечей Анне так никто и не осмелился принести. Прежде чем удавалось заснуть, нужно было молитвами и памятью о любимом избавиться от ощущения, что ты уже в могиле, похоронена в кирпичном застенке заживо. Потом Анна Васильевна рассказывала:
«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:
— Я думаю — за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за Вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».

Камера Иркутского СИЗО, в которой сидел адмирал Колчак
30 января 1920 года каппелевцы под командой генерала Войцеховского, израненные и обмороженные, прорвались на оперативный простор из Ледяного Сибирского похода. Они уже прошли не огонь, а лед ада. Воины шли в атаки, как истинная белая смерть.
Вымели советских со станции Тайга, ринулись на Иркутск. Среди этих шести тысяч бойцов не было здоровых, большинство харкало кровью или заходилось до судорог в кашле, но генерал Войцеховский написал на подступах к городу негнущимися пальцами ультиматум о сдаче Иркутска. «Ледяной» генерал потребовал освободить адмирала Колчака и передать его представителям союзников для отправки за рубеж.
Об этом первой узнала эту новость Анна и сумела записку в камеру Александру Васильевичу. И адмирал тоже сумел переправить Анне свой ответ:
«Дорогая голубка моя, я получил твою записку, спасибо за твою ласку и заботы обо мне. Как отнестись к ультиматуму Войцеховского, не знаю, скорее думаю, что из этого ничего не выйдет или же будет ускорение неизбежного конца.
Не понимаю, что значит «в субботу наши прогулки окончательно невозможны»? Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я только думаю о тебе и твоей участи — единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь — ибо все известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки единственная радость, какую я могу иметь.
Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя... До свидания, целую твои руки».
Это была последняя записка адмирала Анне в тюрьме, перехваченная охранниками. И главные слова: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».
В свои последние дни на тюремных прогулках адмирал был светел ликом, а не бледен от тюремной духоты, словно вместе со своими отрядами только что вышел из геройского Ледяного похода. Он утешал Анну своими рассказами, как плавал по Атлантике из Англии в Америку:
— Да, милая, было прекрасное, солнечное, тихое и теплое утро и огромная зыбь, идущая с запада. Представьте: один за другим, без конца идут огромные отлогие голубые валы, движимые силой инерции колебательного движения... Когда-то я много думал о теории волнения и вел наблюдения над его элементами. Теперь смотрю на него довольно равнодушно, хотя удивляет, что возникающая зыбь столь величественна. Так вот, огромная «Саптюша» наклонялась вся между двумя соседними вершинами волн и временами уходила до палубного полубака в воду. А ведь высота носовой части этого корабля не меньше тридцати — тридцати пяти футов...
Анна слушала его, боялась поднять взгляд, чтобы он не увидел ее слез. И не было страха,только любовь и восхищени Александром Васильевичем.
Адмирал охрипшим от простуды голосом (Анна утеплила ему еще в Омске шинель, да недостаточно!) вдруг нежно сказал об их медовом месяце:
— А что? Неплохо мы с вами жили в Японии! — Помолчал,прищурил глаза, широко улыбнулся: — Есть о чем вспомнить.
Много лет спустя Анна Тимирева будет вспоминать о своем рыцаре:
«Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи — это ли не уважение к человеку?»
В ночь на 7 февраля затопали по тюремным коридорам «тепло одетые красноармейцы» вот главе с начальником гарнизона Бурсаком.
Когда в камере адмиралу А.В. Колчаку объявили о предстоящем расстреле, он обратился с просьбой о последнем свидании с Анной. Тюремщики в ответ расхохотались.

Люди, судившие Колчака.
Крайний слева – палач адмирала Чудновский
«Волчки» камер, мимо которых нужно было вести смертников Колчака и Пепеляева, заклеили бумажками, но Гришина-Алмазова продырявила свою бумажку шляпной булавкой, которая уцелела у нее после ареста:
«Толпа двинулась к выходу. Среди кольца солдат шел адмирал, страшно бледный, но совершенно спокойный. Вся тюрьма билась в темных логовищах камер от ужаса, отчаяния и беспомощности».
Из «Списка вещей по «описи», изъятых у А. В. Колчака в камере и снятых с него после расстрела», составленного 7 февраля 1920 года, вычленим то, что, должно быть, осталось в камере:
«Два носовых платка, две щетки, электрический фонарь, банка вазелина, чемодан с мелкими вещами, машинка для стрижки волос, четыре куска мыла, именная печать, часы с футляром, бритва с футляром, кружка, чайная ложка, губка, помазок, мыльница, одеяло, чай, табак, дорожная бутылка, полотенце, простыня, зубная щетка, чайная серебряная ложка, банка консервов, банка сахара, белье: три пары носок, две простыни, две рубахи, три носовых платка, платок черный, две пары кальсон; стаканчик для бритья, ножницы, подушечка».
На расстрел Александр Васильевич пошел так:
«Шуба (утепленная Анной мехом шинель), шапка, френч, кожаные перчатки, один платок носовой, расческа, портсигар серебряный, кольцо золотое, Георгиевский офицерский крест».
Анна Тимирева:
«И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.
И все. И луна в окне, и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики.
Полвека не могу принять,
Ничем нельзя помочь,
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь...
Но если я еще жива...
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе».
Охрану в тюрьме, где сидел Колчак, сменили за день до его расстрела. Дело было рано утром. В камеру к Колчаку пришли ровно в четыре часа и сказали, что есть постановление местного революционного комитета о том, чтобы его расстрелять. Он спокойно спросил: "Что, без суда?" Ему ответили, что без суда. Потом оставили адмирала в камере, а сами пошли к председателю его правительства Пепеляеву. Тот, когда узнал о казни, сразу бросился на колени и стал просить прощения, умолять о пощаде.
Сначала вывели из камеры Пепеляева, потом вывели Колчака и повели их на Ушаковку. ...Стояла морозная, очень тихая ночь. Жертвы и исполнители расстрела остановились на берегу, где речка Ушаковка впадает в Ангару. Сильно светила полная луна. Неподалеку, словно прощаясь, сиял куполами, крестами Знаменский женский монастырь.

В пятидесяти метрах от тюрьмы была прорубь, где обычно полоскали белье. Из семи сопровождавших Колчака только один был с карабином. Он освободил прорубь ото льда. Колчак все время оставался спокойным, не сказал ни одного слова. Его подвели к проруби.

Место расстрела.
Адмирал молча бросил шинель на меху около проруби. Все это время он смотрел на небо в сторону севера, где ярко горела звезда. Приговор, конечно, никому не зачитывали. Самый главный у них сказал: "Давай так шлепнем — что церемонию разводить?"
Сначала расстреляли Колчака. К его затылку все семь человек приставили револьверы. Тело столкнули в прорубь. Ушел навсегда в ледяное плавание его адмиральское высокопревосходительство Колчак-Полярный....

Знает лишь вольный ветер
Что захоронен нигде
Молившийся перед этим
Своей заветной звезде-
Как в минуту расстрела
Был он спокоен и тверд:
А вечность в глаза смотрела,
Построив звездный эскорт
Олег Столяров
О следующем дне рассказала Анна Васильевна:
«А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:
— Скажите, он расстрелян?
И он не посмел сказать мне «нет»:
— Его увезли, даю Вам честное слово. Не знаю, зачем он это сделал, зачем не
сразу было суждено узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал».
И лишь в далеком-далеком от той страшной ночи 1969 году Анна Васильевна смогла написать стихотворение «Седьмое февраля»:
И каждый год Седьмого февраля
Одна с упорной памятью моей
Твою опять встречаю годовщину.
А тех, кто знал тебя, — давно уж нет,
А те, кто живы, — все давно забыли.
И этот, для меня тягчайший день, —
Для них такой же точно, как и все.
Анну Тимиреву не расстреляли. Ее выпустили, чтобы почти сразу арестовать снова. Ее арестовывали 40 раз! Вся жизнь по тюрьмам и лагерям как плата за несколько месяцев счастья. Ее сын, талантливый художник - был расстрелян.
Все, что у нее было - это любовь, единственная,вечная..Звезда..
И сомкнулось Время, словно бездна,
Над моей погасшею звездой.
А душа в глуби небес исчезла,
Словно в море кортик золотой...
Сергей МАРКОВ

|
Метки: колчак |
Процитировано 2 раз
Адмирал Колчак. Вечная любовь. ч.4 |
Едва приехав в Японию, Анна написала мужу о необходимости расставания.
Какой груз свалился с ее плеч. Все! Не надо больше таиться, страдать, лгать, метаться, предугадывать настроение мужа. Свободна!
Ответное письмо Тимирева было классическим воззванием брошенного мужа. Который уж раз он доказывал: Анна не понимает, что делает. Адмирал Тимирев упирал на то, что Колчак женат. В итоге восклицал: «Я не могу жить без тебя, я потеряю себя, вернись!» Колчак
не вмешивался в ее переживания, не давал советов и не уговаривал, потому что обещал ей это в Харбине. Анна поняла: без прощальной встречи с мужем не сможет начать новую жизнь. Она решила «покончить все» во Владивостоке. Спустя годы она раскаивалась:«Я была молода и прямолинейна до ужаса. Александр Васильевич не возражал, он мне очень верил. Конечно, все это было очень глупо — какие объяснения могут быть, все ясно. Но иначе я не могла».
Снова был поезд, теперь несущийся к морю. Ее вагонное место отгорожено от коридора занавеской, которая трепетала от сквозняка как живая. За окном угрюмо плыла мутная-мутная ночь, где маячил силуэт Фудзиямы и туман полз по равнинам у подножия горы....
Сама Анна Васильевна вспоминала то время:
«Вот я пишу — что же я пишу, в сущности? Это никакого отношения не имеет к истории тех грозных лет. Все, что происходило тогда, что затрагивало нашу жизнь, ломало ее в корне, и в чем Александр Васильевич принимал участие в силу обстоятельств и своей убежденности, не втягивало меня в активное участие в происходящем. Независимо от того, какое положение занимал Александр Васильевич, для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правдивым до конца, любящим и любимым. За все время, что я знала его — пять лет, — я не слыхала от него ни одного слова неправды, он просто не мог ни в чем мне солгать. Все, что пытаются писать о нем — на основании документов, — ни в какой мере не отражает его как человека больших страстей, глубоких чувств и совершенно своеобразного склада ума».
Во Владивостоке Анна Васильевна поставила точки над 1. За минувший месяц, в который они не разлучались с Колчаком, она «провела в тесном общении с Александром Васильевичем», «привыкла к полной откровенности и полному пониманию», а тут «точно на стену натолкнулась». Муж казался ей чужим человеком, обиженным, нелюбящим. Он только и знал что заклинал ее:
— Ты не понимаешь, что делаешь... Ты теряешь себя, ты погибнешь...
Расставание было мучительным.
Но Анна не могла не вернуться в Японию, к своей химере, ставшей реальностью, к своему Александру Васильевичу....
Причудливо вились над головами легкие бамбуковые водопроводы, всюду шелестела струящаяся вода.
Александр Васильевич смеялся, обнимал ее:
— Мы удалились под сень струй.
Теперь, когда Анна была, наконец, свободна, Колчак счел себя вправе относиться к ней как к своей невесте, сблизиться с ней. Впервые они жили не в разных гостиницах. Расположились «молодожены» в смежных комнатах. Потом в бетонных мешках камер, на досках ГУЛаговских нар, она вспоминала те дни:
«И кругом горы, покрытые лесом, гигантские криптомерии, уходящие в небо, горные речки, водопады, храмы красного лака, аллея Ста Будд по берегу реки. И мы вдвоем. Да, этот человек умел быть счастливым...»
В Москве на самом склоне трагического века она писала о тех временах их «медового месяца» в Японии:
«Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по городу. И все так же было: светло сквозь облака просвечивало солнце и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата. И впереди только встреча, и сердце полно до краев. Не могу отделаться от этого впечатления».
О том, как долгожданное и казавшееся почти несбыточным счастье вдруг пришло, и все встало на свои места у «молодоженов» А.В. Колчака и Анны Тимиревой, как «похоронились тревоги» и ее душа обрела столь шаткий, но светлый покой, она написала в стихах осенью 1918 года:
Я крепко сплю теперь; не жду за воротами,
Когда в урочный час
За поворотом в лес вдруг грянет бубенцами
Почтовый тарантас.
На самом дне души, похоронив тревогу,
Живу, и дни идут,
И с каждым днем трудней размытая дорога,
И все чернее пруд.
У этих серых дней душа моя во власти,
У осени в плену...
Эти строки довольно точно описывают настроение Анны в новой жизни. Уже не надо, как долгие минувшие месяцы, ждать почты от адмирала, — мечты сбылись. Но в этом , казавшеся безоблачным, хрупком счастье была скрыта угроза, кроющаяся , дремлющая в образах «чернеющего пруда» и души, "плененной осенью". Весенней пасхальной радостью было бы освобождение Отчизны от большевиков гением ее возлюбленного рыцаря.
16 сентября 1918 года Колчак из Токио уехал во Владивосток на итоговые переговоры о действиях Белого движения. Анна Васильевна оставалась в Японии, ожидая окончательных решений адмирала, чтобы присоединиться к нему на новом, более или менее постоянном месте службы в России. Благодаря этому мы имеем два ее письма, превосходно описывающих чувства и двадцатипятилетней Анны Тимиревой.
17 сент[ября] [1918 г.]
Милый мой, дорогой Александр Васильевич, это письмо до некоторой степени faire-part [Письмо с извещением (фр.).]; приготовьтесь выслушать торжественную новость, я таки заказала шубу.
Вы навели на меня такую панику, что, проснувшись сегодня утром, я сломя голову бросилась в Токио ее искать.... Как Вы едете, милый? Я надеюсь, что на пароходе не пассажирки, а старые ведьмы, все классические и у всех слоновья болезнь, что Вы вошли в алианс с
Reynault, как подобает, и Вам не скучно. Мне как-то глупо быть
без Вас, и я умучена от шубы, но потребности в постороннем обществе не ощущаю. Сижу у себя, шлепаю картами и почитываю Dumas pere'а. Но это не "Trois mousquetairs" - и мало меня утешает. Пока Вы были здесь, я как-то мало обращала внимания на
здешнюю публику, но это ведь сплошь наши за границей. Гвалт и разговор - как перед кофейней Зазунова в Харбине: иена - рубль, иена - рубль...
Маленький кошмар...
Вот, голубчик мой, Александр Васильевич, все, что имею Вам сообщить за то долгое время, что мы не видались, - со вчерашнего вечера.
Милый Александр Васильевич, я буду очень ждать, когда Вы напишете мне,что можно ехать, надеюсь, что это будет скоро. А пока до свиданья, милый,будьте здоровы, не забывайте меня и не грустите и не впадайте в слишком большую мрачность от окружающей мерзости. Пусть Господь Вас хранит и будет с Вами.
Я не умею целовать Вас в письме.
Анна

18 сент[ября] [1918 г.]
Милый, дорогой мой Александр Васильевич, вот я и в Атами. Вечер темный,и сверху сыплется что-то, а море шумит как-то мрачно - точно сосны при ветре. Сижу я одна, читать Dumas pere'а как-то мне не хочется, что мне делать? Поставила с горя на стол добрый иконостас из Ваших фотографий и вот снова Вам пишу - испытанное на долгой практике средство против впадения в чрезмерную мрачность.

Голубчик мой, Александр Васильевич, я боюсь, что мои письма немножко в стиле m-lle Тетюковой, но Вы примите во внимание, что я до некоторой степени в одиночном заключении, т[ак] ч[то], понятно, приходится говорить все больше о себе.
Да, сегодня я, наоборот, провела часа два в очень оживленном и симпатичном обществе, а именно, решив, что автомобиль для missis only жирно будет, я на нем доехала только до Одавары, а оттуда на поезде....у одной японки появился в руках краб с паука величиной примерно - тут уж восторгу не было границ: все его рассматривали,дали и мне. Потом на станции поймали кузнечика - поиграли и отпустили. Чисто дети - а половина седых стариков. На станции купила леденцов на двугривенный и скормила добрым соседям. Расстались лучшими друзьями.
Меня в отсутствие [Вас] перевели в Вашу комнату, не знаю почему, т[ак]к[ак] No 8 стоит пустой. Верно, решили, что будет с меня и маленькой койки.
Я не протестую, все равно терраса [Над словом надписано А.В. Тимиревой: Как пишется - одно "с" или 2?] вся в моем распоряжении и места довольно.Завтра утром Вы во Владивостоке. Милый мой, дорогой, я знаю, Вам очень тяжело будет теперь и трудно, и это глупое письмо о крабах и кузнечиках совсем не может соответствовать, но Вы не будете сердиться за этот вздор, не правда ли?
Голубчик мой милый, до свидания пока. Пусть Господь Вас хранит всегда на всех путях, я же думаю о Вас и жду дня, когда опять увижу и поцелую Вас.
Анна
После занятия поста Верховного правителя России адмирал сначала переехал в здание штаба, занимавшего бывший дом генерал-губернатора, а 15 декабря переселился в особняк на берегу Иртыша, принадлежавший в прошлом семье Батюшкиных.
4 ноября приехала из Японии в Омск Анна Васильевна. Жить ей вместе с адмиралом было неприлично, Анна поселилась в частном доме № 18 вдали от центра на Надеждинской улице. Однако по-семейному встречались они обычно у Колчака в уютной резиденции.
Анна заняла должность переводчицы Отдела печати при Управлении делами Совета министров и Верховного правителя. Инициативная дама, она вскоре еще и организовала мастерскую пошива одежды, белья для солдат, а также ее нередко можно было видеть в госпиталях на раздаче пищи больным и раненым воинам. Анна как общественная деятельница и переводчица часто бывала у адмирала в Ставке, находившейся в здании управления Омской железной дороги. Иногда она присутствовала под тем или иным видом на официальных и неофициальных встречах. Но, как дружно пишут исследователи об этом периоде публичных взаимоотношений Анны Тимиревой и адмирала Колчака, «своих близких отношений они напоказ не выставляли».
Все. Оставалось так недолго до конца.
|
Метки: колчак |