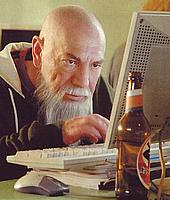-Рубрики
- КОМПЬЮТЕР (13)
- МИРЕЙ МАТЬЕ (13)
- МУЛЬТФИЛЬМЫ (11)
- ВИДЕО (10)
- ФРАНЦИЯ (8)
- РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ПОСТОВ (4)
- БАЛЕТ (4)
- BALLET RUSSE В ПАРИЖЕ (4)
- ДЕТСКИЕ ФОТОГРАФИИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ (1)
- Немного юмора и хорошей музыки!!! (1)
- ПЕРЕВОДЧИК (1)
-Музыка
- Моцарт - Песня ангелов
- Слушали: 4322 Комментарии: 2
- ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА.
- Слушали: 81675 Комментарии: 0
- Ф. Шопен - Secret Garden 'Adagio'
- Слушали: 17248 Комментарии: 2
- Поль Мориа. История любви.
- Слушали: 30755 Комментарии: 0
- Bruno Lorenzoni - Melodie d`amour. Аккордеон- мировая бессмертная мелодия из песни "Любовь"
- Слушали: 65443 Комментарии: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
МИРЕЙ МАТЬЕ - "Петербург" |
Перевод песни "Pétersbourg"- Петербург
Петербург, твои церкви покрыты позолотой.
Петербург, ты похож на Венецию в северном одеянии.
Петербург, у тебя единственный покров, он белого цвета,
Петербург, запечатленный в Неве
серебряными отражениями.
Твои скрипки звучат в рвущемся небе
И тянутся вереницы воспоминаний.
Как бы ты ни назывался,
Главное – никогда не разучись смеяться.
Петербург, ты согреваешь дымкой зябнущие корабли,
Которые засыпают в гаснущем солнце твоих белых ночей.
Петербург
Петербург
Петербург
|
Понравилось: 27 пользователям
МИРЕЙ МАТЬЕ "Над Невой может пойти снег" |
Над Невой может пойти снег,
Или над лодками Одессы.
Сегодня вечером зима не задевает меня,
Потому что ты меня любишь.
Ветер может обрушиться на долины
Или на степи Украины,
Он принесёт с собой майораны,
Потому что ты меня любишь.
От леса может остаться
Только спящий скелет.
Сегодня вечером моё сердце поёт июль,
И каждая ветка цветёт.
Над Невой может пойти снег,
Или над лодками Одессы.
Все туманы на свете не помешают
Чтобы ты меня любил.
В холодном небе могут пролетать
Тысячи стай потерянных птиц.
Никакое счастье не запретно,
Потому что ты меня любишь.
Я могу гореть, побежденная,
В тысяче языков пламени, со связанными руками.
Но набаты больше не звенят,
Потому что ты меня любишь.
Когда люди называют себя «ты и я»,
Они больше не знают страха.
Ни знамёна, ни кресты
Не восторжествуют над нашими сердцами.
Над Невой может пойти снег,
Или над лодками Одессы.
Никакой туман не помешает,
Чтобы ты меня любил,
Чтобы ты меня любил,
Ты меня любил...
|
Понравилось: 1 пользователю
Брижит Бардо и Жан Рошфор в фильме" Две недели в сентябре. (1967)" |
|
Понравилось: 1 пользователю
Без заголовка |
Это цитата сообщения Галина_Викторова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пусть день начнётся с доброты,
Не с маяты ,не с суеты.
Пусть будет больше теплоты,
Пусть день начнётся с красоты!!!
Пусть день наполнится делами,
Прибудет новыми друзьями,
И важно быть самим собой,
Ведь завтра будет день другой...!!!
|
|
Аудио-запись: Моцарт - Песня ангелов |
Музыка |


4406 слушали 76 копий |
Element_Of_Fire

|
|
|
|
Комментарии (2)Комментировать |
Без заголовка |
Это цитата сообщения ЕЖИЧКА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Услышать записи юного итальянского певца Робертино Лоретти, буквально покорившего в начале 60-х годов слушателей многих стран удивительным по красоте голосом и редкой музыкальностью, хотели многие.
|
|
Аудио-запись: ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА. |
Музыка |


95805 слушали 2039 копий |
chajkina21

|
|
|
|
Комментарии (0)Комментировать |
Mireille Mathieu - "La chanson de mon bonheur" - Песня моего счастья |
Перевод песни - "La chanson de mon bonheur" - Песня моего счастья
Птица на ветке
Поёт на рассвете о любви,
Камыши склоняются,
Шепча слова над водой ручья.
И я хочу также петь для тебя,
Послушай меня:
Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю,
Моя песня всегда та же самая,
Она идёт прямо из моего сердца.
Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю,
Моя песня всегда та же самая,
Это песня моего счастья.
Мать, бодрствующая ночью, поёт нежно
Песню над колыбелью ребёнка,
Старушка с улыбкой напевает
Мелодию своих двадцати лет.
И я хочу также петь для тебя,
Послушай меня:
Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю,
Моя песня всегда та же самая,
Она идёт прямо из моего сердца.
Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю,
Моя песня всегда та же самая,
Это песня моего счастья.
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
МИРЕЙ МАТЬЕ - Je ne suis rien sans toi - Я ничто без тебя |
Перевод песни - Je ne suis rien sans toi - Я ничто без тебя
Несколькими словами ты все разрушил,
Мои скромные мечты слишком малы для того, чтобы быть истинными.
Сегодня все кончено,
Так как в твоей жизни уже
Другая любовь, более сильная, чем я.
Но я, я не ничто без тебя,
Но я, я так нуждаюсь в тебе!
Моя жизнь, я ее сохранила для тебя,
Тем не менее, я не ничто без тебя.
Всего лишь ребенок, это была игра,
Нужно теперь уехать и нам проститься,
И отпустить прошлое,
Время все сотрет,
Мир огромный, для того, чтобы забыть.
Но я, я не ничто без тебя,
Но я, я так нуждаюсь в тебе!
Моя жизнь, я ее сохранила для тебя,
Тем не менее, я не ничто без тебя,
Без тебя...
|
Понравилось: 1 пользователю
МИРЕЙ МАТЬЕ - Un Homme Et Une Femme - Мужчина и женщина |
ПЕРЕВОД ПЕСНИ - Un homme et une femme - Мужчина и женщина
Как наши голоса,
Напевающие тихо,
Наши сердца это видят
Как шанс, как надежду.
Как наши голоса,
Наши сердца в это верят.
Еще раз
Все начнется заново, жизнь исправится.
Столько радости, достаточно драм – и вот,
это долгая история
Мужчина и женщина созданы замыслом случая.
Как наши голоса,
Наши сердца это видят
Еще раз
Как шанс, как надежду.
Как наши голоса,
Наши сердца радуются -
Они выбирают
Романс, произошедший здесь.
Удачу, которая здесь прошла
|
Mireille Mathieu - J'ai peur d'aimer un souvenir - Мне страшно, что я люблю воспоминание |
Фонтан, каменная стена,
Немного плюща поднимается до самой крыши —
В этой самой комнате я поклялась
Любить тебя как в первый
И в последний раз...
После потрясений и стольких лет забвения,
Мои странствия возвратили меня сюда,
Но, подводя итог, я уже сожалею об этом,
Я боюсь этой двери, что приведет меня к тебе...
Мне страшно, что я люблю воспоминание,
Я боюсь тебя, боюсь себя.
Боюсь, что нам будет нечего сказать друг другу
Или же, напротив, будет слишком много слов…
Мне не следовало возвращаться,
У меня была лишь твоя фотография...
Мне страшно, что я люблю воспоминание —
И вот ты передо мной…
Я жду, что ты заговоришь со мною,
И голос твой будет прежним, глаза почти не изменились,
А я боюсь за нас обоих
Мне страшно, что я люблю воспоминание,
Я боюсь тебя, боюсь себя.
Но тебе довольно сказать лишь слово,
И я упаду в твои объятия!
Я хочу полюбить воспоминание,
Я хочу любить тебя как прежде,
«Как хорошо, что ты вернулась!» —
Я ждала этих слов от тебя...
Мы способны так полюбить воспоминание,
Что можем воплотить его в жизнь!
Сегодня я даже готова умереть,
Ведь ты тоже любишь меня,
Я готова сегодня умереть,
Я полюбила воспоминание...
|
Без заголовка |
Это цитата сообщения Душица [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Как очень быстро сделать свою собственную схему:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post206816458/
Как быстро сделать свой бесшовный фон:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post212235775/
Как поменять шрифт в уже сделанной кем-то схеме:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post161537360/
Как добавить картинку в эпиграф дневника:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post207214702/
Как форматировать текст в сообщении:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post221133891/
Коллекция бесшовных фонов:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post177991796/
Еще одна коллекция фонов (фон, а к нему еще и прозрачный фон на сообщения):
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post144177217/
Как убрать сообщение под кат:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post218767670/
Как сделать, чтобы картинки в сообщении прокручивались:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post221195798/
Как легко вставить картинку из Интернета в ваше сообщение:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post137347894/
Как сделать баннер самостоятельно:
http://www.liveinternet.ru/users/2670115/post136343258/
|
|
ОКРОШКА С КУРИЦЕЙ |
Это цитата сообщения Владимир_Шильников [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
 Ингредиенты:
Ингредиенты:
куриный бульон
курица из этого же бульона
3-4 яйца вареных
3-4 шт. картофеля отварного
3 свежих огурца
дайкон
лук зеленый
укроп
сметана
Способ приготовления:
Все ингредиенты для окрошки мелко нарезать, залить охлажденным бульоном, заправить сметаной.
Окрошка получается гораздо вкуснее, если настоится пару часов холодильнике.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
|
|
Телевизор на компьютер или видео онлайн комбайн |
Это цитата сообщения Владимир_Шильников [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Здравствуйте! Я давно пытался найти подобную программу! Чтоб и фильмы с сериалами смотреть онлайн (без скачивания) и телевизор! А чтоб ещё и радиостанции с аудио сказками слушать, плюс телепрограмма на сотни каналов-даже не мечтал!
|
Три богатыря и шамаханская царица |
|
Без заголовка |
Это цитата сообщения Кирми [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
|
|
Mireille Mathieu - Vis ta vie - Живи своей жизнью |
Живи своей жизнью
Я знаю, что она красивее, чем я,
Что она мечтает о том, о чем я не мечтаю,
Что у нее улыбка мадонны,
Которая заставляет плакать мужчин,
Я знаю, что у тебя
Взгляд влюбленного человека,
Я знаю
Я знаю, что спустя несколько лет
Есть желание убежать,
Я знаю, что она ничего не сделала для этого,
Что всё это твоя ошибка,
Я знаю, что порой ты не будешь вспоминать обо мне,
Но я тебя прошу об этом не говорить,
Я знаю
Живи своей жизнью, но не уходи,
Даже если твоё сердце не здесь,
Нужно, чтобы ты вернулся ко мне,
Живи своей жизнью, но не покидай меня,
Я сделаю тебя счастливым,
Ты увидишь, все забудется
Я знаю, что не должна говорить о ней,
И мне очень больно,
Проводить ночи, ожидая тебя,
Ты никогда не спрашиваешь меня,
Спала ли я, плакала ли,
Хотелось ли мне кричать,
Ты знаешь
Живи своей жизнью, но не уходи,
Даже если твоё сердце не здесь,
Нужно, чтобы ты вернулся ко мне,
Живи своей жизнью, но не покидай меня,
Я сделаю тебя счастливым,
Ты увидишь, все забудется
Я знаю, что любовь очень сильна,
Я знаю это ещё лучше тебя,
Я знаю, что у нас уже не тот возраст,
Что ее духи, будто буря,
Но ты должен вспомнить,
Что для тебя я была самой красивой,
Подожди
Живи своей жизнью, но не уходи,
Даже если твоё сердце не здесь,
Нужно, чтобы ты вернулся ко мне,
Живи своей жизнью, но не покидай меня,
Я сделаю тебя счастливым,
Ты увидишь, все забудется
Живи своей жизнью, но не уходи
|
MIREILLIE MATHIEU - "Nous on s aimera" Мы будем любить друг друга |
Мы будем любить друг друга
Земля вертится, вертится,
И пока она будет вертеться,
Мы будем любить друг друга, будем любить.
Я говорю тебе это с первого дня,
И буду говорить всегда.
Потому что время идёт, идёт и будет идти,
И мы будем любить друг друга, будем любить.
Ты и я, мы примем всё, что принесёт нам жизнь,
Но ничто нас не разлучит.
Земля вертится, вертится,
И пока она будет вертеться,
Мы будем любить друг друга, будем любить.
И если я плачу сейчас в твоих руках,
То это слезы счастья.
Будущее поёт, поёт, поёт.
Оно будет петь, и мы будем любить друг друга.
Пока твоё сердце бьётся,
Пока моё сердце бьётся,
Не будет ничего, кроме тебя и меня.
Пока Земля вертится, любовь моя,
Мы будем любить друг друга.
|
БРИЖИТ БАРДО "ПАРИЖАНКА" (1957) ФРАНЦИЯ |
|
Брижит Бардо "Доктор на море" (1955) США |
|
МИРЕЙ МАТЬЕ - "МИР С ВАМИ" |
Наш мир с тобой
День за днём
Я ковала из нашей любви
Наш мир с тобой,
Где законы были бы для нас одинаковы
Невероятный и
Неделимый
Наш мир с тобой,
Созданный из радости и любви
Наше небо было бы светлым и несравнимым ни с чем,
Даже пыль на наших ногах казалась бы золотой
Малейший свет был бы солнцем для нас,
Но эта мечта была не по твоим силам
И вот каждую ночь
Моя тоска вновь его строит
Наш мир с тобой
Где твой голос кричит «Я тебя люблю!»
Наше небо было бы светлым и несравнимым ни с чем,
Даже пыль на наших ногах казалась бы золотой
Малейший свет был бы солнцем для нас,
Но эта мечта была не по твоим силам
И вот каждую ночь
Моя тоска вновь его строит
Наш мир с тобой
Где твой голос кричит «Я тебя люблю!»
День за днём
Я ковала из нашей любви
Наш мир с тобой
|
СЕРГЕЙ ЛИФАРЬ - «ДОБРЫЙ ГЕНИЙ БАЛЕТА XX СТОЛЕТИЯ» (ЧАСТЬ 1) |
![0f29d1305893[1] (580x408, 47Kb)](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/776/88776869_0f29d13058931.jpg)
Серж Лифарь вошел в историю балетного театра не только как выдающийся танцовщик, известный хореограф и руководитель балетной труппы Парижской Оперы; но и как преданный любовник главы Русского балета Сергея Дягилева. Именно Сергей Лифарь прожил и посвятил этому великому человеку 3 книги : «Дягилев с Дягилевым», «С Дягилевым» и «Мемуары Икара». Лифарь мирился с деспотизмом Дягилева, умел быть терпеливым и не рассориться, не убежать от него, как некоторые другие протеже Сергея Павловича. И даже когда их интимные отношения закончатся и Дягилев будет дарить свое внимание другим юношам, Лифарь это стерпит, сохранив верность Дягилеву до конца его дней. А после смерти любовника и наставника станет едва ли не главным по части того, что имело отношение к имени и художественному наследию Сергея Павловича Дягилева.
Сам автор пишет в предисловии: «Писать такие мемуары мне было легко — они сами писались, одно воспоминание вызывало в памяти другое: все это было недавнее, ещё не отошедшее прошлое; к тому же у меня под рукой были мои дневники, письма Сергея Павловича и его личный архив. Я глубоко убежден в том, что в писаниях о великих людях, о людях, принадлежавших истории, не должно быть ничего, кроме правды, не должно быть никаких прикрас, никакой ретуши и никаких умолчаний. Все же я надеюсь, что когда-нибудь, может и не при моей жизни, мои мемуары будут напечатаны полностью».
Сергей Михайлович Лифарь родился 2 апреля 1904 г. в Киеве в дворянской семье.
Лифари были зажиточными помещиками. Имели дом на Софийской набережной; да еще усадьбу под Киевом и в самом городе. Дом, весной и летом окруженный зеленью, — как оазис посреди пятиэтажек. Своим положением семья была обязана деду, крепкому хозяину. Сергей с братьями, Василием и Леонидом, и старшей сестрой Евгенией проводили в поместье деда каждое лето. Старик играл с ними, устраивал праздники. Был у деда даже свой театр, где все роли исполняли местные крестьяне.
«Cлушая народные песни и наблюдая цветастые обряды-празднования, подолгу живя в усадьбе рядом с крестьянами, я притрагивался к чистому источнику древней вековой культуры и, сам того еще не зная, вбирал в себя древнейшую правду, трепетно прикасался к живому прошлому и привыкал любить и уважать народ».
Дом деда украшали старинные грамоты, данные Лифарям украинскими гетманами и атаманами Великого войска Запорожского. По семейной легенде, предков Лифарей занесло в Запорожскую Сечь из далекой Индии. Вместе с татарскими ордами они прошли через Азию, пустыни Туркестана, Уральские горы, волжские равнины и добрались до берегов Борисфена, как тогда называли Днепр. «От этих неизвестных всадников, говорит наша семейная легенда,— и ведут свой род Лифари, осевшие в Запорожской Сечи». В его семье сохранялись не только предания о прошлом Украины, о чубатых запорожцах и их боевых делах, но и «пожелтевшие, выцветшие грамоты с восковыми печатями, данные Лифарям украинскими гетманами и кошевыми атаманами большого Войска Запорожского».
«Только тот, кто был в Киеве, кто смотрел из Царской площадки на широкий, торжественно-величавый, спокойно сияющий своим серебром на солнце Днепр и на безграничное, необъятное пространство зеленой заречной дали, кто бывал в Выдубицком монастыре, на высоком, крутом зеленом берегу и оттуда смотрел на поля и леса, которым нет конца и края, — только тот поймет, почему для киевлянина нет ничего дороже за Киев с его Днепром, который с детства входит во все твое естество».
![LeonidBasilEvgeniaSerge[1] (600x330, 14Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/281/88281652_LeonidBasilEvgeniaSerge1.jpg) Леонид, Василий, Евгения, Серж
Леонид, Василий, Евгения, СержОтец — Михаил, служил канцелярским чиновником в Департаменте водного и лесного хозяйства, и следить за огненной стихией была его работа. Маленького Сережу отец часто возил смотреть на лесные пожары - чтобы воспитывать в сыне смелость. Сережа, эти опасные поездки любил. Рядом с отцом ничего не было страшно. «Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами».
Михаил Яковлевич был воплощением спокойствия и порядка. Он любил порядок во всем - и в книгах, аккуратно расставленных по шкафам в его рабочем кабинете, и в одежде, и в манерах. Даже в речи он не терпел неряшливости. Сам стремился и детей приобщал к совершенству во всем.
Лифарь теплыми словами вспоминает своего отца, который любил красивые вещи и придавал большое значение внешнему виду, форме и страдавшему от всякой фальшивой ноты и от всякой безвкусицы и неопрятности. «Я не помню случая, — чтобы он когда-нибудь кричал на нас, своих детей, с которыми он разговаривал скорее как с младшими друзьями, чем с маленькими детьми. У него было драгоценное, редчайшее свойство: он умел уважать юность. Но воспитанием нашим мало занимался».
Центром семьи Лифарей была мать Софья Васильевна Марченко - дочь крупного землевладельца, собственника имения в Каневском уезде Киевской губернии. Она занималась воспитанием четырех детей, была набожной женщиной и очень одаренная, особенно - в музыке. Более всего Сергей любил мать, «дорогую мамочку». Ее стараниями Сережа еще до школы освоил скрипку, потом - рояль, пел в Киевской придворной капелле. Ее регент Калишевский приходил в восторг от чистого альта мальчика и говорил: «Куда прославленным папским кастратам Сикстинской капеллы до голоса моего Сережи».

В Киеве Лифари жили в собственном доме на улице Тарасовской, неподалеку от Ботанического сада. Ребенком Сергей Лифарь любовался садом: «Помню очень хорошо цветы в нашем большом саду перед входной террасой: я любил цветы и любил подходить к ним и смотреть, но мне всегда было как-то больно, когда их срезали и делали из них букеты.» Праздники и каникулы проводили в родовом имении на Каневщине. Там, играя с крестьянскими детьми, маленький Сережа приобщался к украинской культуре, участвовал в сельских праздниках и народных гуляниях. На всю жизнь он запомнил свой первый театр в имении деда и огромное впечатление от любительских юмористических спектаклей, в которых участвовали крестьяне-артисты.
Детство Сережи Лифаря было счастливыми безмятежным. «Сквозь наслоения прожитых лет воспоминания о детстве многим помогают вернуть утешительную гармонию. Моя безмятежность была недолгой, быстро замутилась. … Я рос счастливым ребенком в дружной семье, и тем не менее уже в те времена жил в обособленной среде, не то чтобы изолированной от других, но в иной, отличной даже от мирка товарищей по детским играм». Восстание на броненосце «Потемкин», капитуляция Порт-Артура и кровавые мятежи в России - все это было далеко от Киева. Память ребенка сохранила только одно тревожное воспоминание: отец вошел в спальню, закутал сына в одеяло и вынес на балкон. Показал в небо, где сверкала звезда с серебристым хвостом, и сказал: « Вот, посмотри на эту звезду и запомни ее». Это был 1910 год, когда комета Галлея напугала обывателей и ученых людей. Об этом знамении много писали газеты, но потом все забыли. Вспомнили, когда началась война ...
В школу Сергей пошел в 1911 г., когда ему исполнилось шесть лет. Через два года поступил в Первую Императорскую Александровскую Киевскую гимназию. «Товарищи любили меня за то, что я не был выскочкой, за то, что всегда стоял горой за класс, а ещё больше за шалости. Я истреблял в учительской письменные работы всего класса, спасал класс от трудных уроков тем, что жёг в классе остатки снарядов, привезенных дядьями с фронта...» .
Однако он с радостью поменял бы свой новенький мундир гимназиста и синюю фуражку на военную форму Петербургского кадетского корпуса. Очень хотел продолжить семейную традицию, ведь в семье уже было двенадцать военных и он мог стать тринадцатым. К сожалению, в корпус принимали с десяти лет, а Сергею было только девять.
Осенью 1914 г. Сергей перешел в Восьмую мужcкую гимназию и каждое утро спешил на Николаевскую площадь, к зданию 8-й Киевской гимназии. Кто бы мог подумать, что в конце века стену этого сооружения (на теперешней площади Ивана Франко — Фокус) украсит мемориальная доска в его честь.

Oдновременно занимался в Киевской консерватории. Вначале учился игре на скрипке в классе профессора Воячека, позже — на рояле. Но больше всего ему нравилось петь. У Сергея был великолепный альт, и мать привела сына в церковный хор Святой Софии.
«Это была также пора, когда в моем сердце бушевала музыка. Я посещал одновременно университет и консерваторию. Именно тогда сформировался мой музыкальный вкус. Музыку я любил всегда. Одной из самых больших моих радостей было часами сидеть за фортепиано, нанизывая друг на друга любимые музыкальные отрывки. Я находил в этом то полное упоение, которого мне не давала жизнь. Я долгое время мечтал о карьере виртуоза».
Ничто, казалось бы, не предвещало беды. Война, которая незаметно переросла в революцию, перевернула все планы...
![c6a3fdb752f0[1] (371x580, 43Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/777/88777090_c6a3fdb752f01.jpg)
Февральские события 1917 г. отозвались и в Киеве, который стал ареной борьбы между разными политическими силами. Власть в городе менялась много раз. Эти смутные времена затронули каждую семью, в том числе и Лифарей. Приход каждой сопровождался разрывами снарядов, грабежом, арестами и расстрелами населения, страшный крик ужаса...
«Я подошёл к раскрытому окну, посмотрел вниз и то, что я увидел – никогда в жизни не забуду: на дворе чекисты бесстрастно, деловито- словно поленья дров, укладывали на грузовик окровавленные тела…» на улице Садовой, где размещалась ЧК.
Деда забрали, и Сергей с матерью каждый день носили ему передачи. Через месяц дед вернулся, за которого вступились крестьяне его деревни и Американский Красный Крест. Ушёл он мощным, крепким, как дуб (в 80 лет!), а вернулся надломленным, поседевшим и почти ослепшим стариком.
«Времена были трудные и тяжкие, а нравы пещерные... В душе моей они остались на всю жизнь: я насыщался драматизмом.»
Сережа Лифарь в те годы чудом остался жив. Как-то пьяные революционные солдаты едва не растерзали его на улице за то, что он отказался сорвать с гимназической шинели «николашкины побрякушки». А отказался он потому, что ненавидел «революционеров» - дом Лифарей в Киеве экспроприировал комиссар с чекисткой. Родовую усадьбу разорили и, когда красноармейцы выводили лошадей, расстреляли бабушку.
«Мне выпала судьба быть представителем того поколения огромного славянского края, которое вырастало в голоде и потоках крови, — крови, что с ней унесено сотни тысяч моих ровесников, побежденных жестокой необходимостью». В другой раз его спас брат Василий - их обоих вместе с пятьюдесятью другими гимназистами генерал Драгомиров отправил защищать Киев от «красных».
«Белые армии были вынуждены отступить. Но генерал Драгомиров решил бросить в бой пятьдесят воспитанников гимназии, включая и меня. Я был зачислен в 34-й сибирский полк, который был удостоен чести получить из рук генерала Бредова крест Святого Георгия - наш военный орден. Мы одурели, сражаясь одни вопреки очевидности. Большевистские пулеметы трещали. Дождь свинца сметал все живое. Вдруг рядом с нами с чудовищным грохотом разорвался крупнокалиберный снаряд. Оглушенный мощью взрывной волны, я с трудом осознал, что оказался заваленным песком, сыпавшимся со всех сторон. Я почувствовал сильную боль в правой руке и увидел, что она вся в крови. Мой брат Василий спас меня из этой бойни, а большинство моих товарищей погибло...
"Моя рука! Как я буду играть на рояле? Останусь ли я калекой на всю жизнь?" Разглядывая шрамы, оставшиеся от этой операции по сей день, я возвращаюсь мыслью к тому дню, когда бесповоротно определилось все мое будущее: я должен был отказаться от мечты стать музыкантом... Я готов был окончательно упасть духом. Целыми днями я курил. Скручивал цигарки из раздобытого табака и курил, курил до одурения».
В балетный класс Сергей попал случайно... «В тот день, - я шатался по улицам Киева в сопровождении случайного товарища. "Не пойти ли нам, - предложил он, - в балетную студию Брониславы Нижинской?.. Там, кажется, прелестные девочки. И ты увидишь, как танцует моя сестрa". Поскольку ничего лучшего он предложить не мог, я согласился.»
![bronislava_nijinska_ii_by_olgasha-d31o1j1[2] (401x660, 301Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/88/296/88296326_bronislava_nijinska_ii_by_olgashad31o1j12.png)
(Бронислава Нижинская, сестра знаменитого танцовщика Вацлава Нижинского ). Кроме собственной студии, Нижинская преподавала также в Киевском экспериментальном театре -- «Центростудии».
«Это было потрясением. Передо мной под музыку Шопена и Шумана танцевали ученики Нижинской. На исходе сломанного мира, где были только грохот и ярость, я открывал порядок и гармонию, дисциплину, которых жаждали мой ум и сердце. Когда я возвращался, мысли толклись в моей голове, но одно было мне ясно: я хочу поступить в студию Нижинской».
На фоне тогдашних революционных событий это стало настоящим открытием.«Кого только не было в этой государственной студии! Молодые рабочие и деревенские девушки, поступившие туда неизвестно зачем... "Мадемуазели" с Крещатика... Изголодавшиеся интеллектуалы, приманенные надеждой,- смутной, как блуждающий огонек. Ничего подобного этой мешанине не было ни в каком другом месте».
С этого мгновения для него открылся новый волшебный мир — мир красоты и грации. «Я нашел свою возлюбленную, я полюбил её, только её одну, все вокруг уже не существовало, померкло перед этой великой радостью любви, — и чувствовал, что всегда желал этой любви, этой возлюбленной — танца, танца — музыки, танца — любви... В молодости, когда жизнь еще скрыта, мечта находит иные пути». С первой минуты он понял, что обязательно будет танцевать и даже стал уже считать себя учеником Нижинской. «Сердце моё забилось трепетно и взволновано, душа проснулась от своего мертвящего сна, мною овладел такой восторг, что слёзы подступили к горлу. Я полюбил. Я стал танцором, ещё не умея танцевать, ещё не зная танцевальной техники, но я знал, что я овладею ею, и что ничто, никакие препятствия не остановят меня на этой моей дороге».
На следующий день Лифарь пришел в «Школу движения» (так называлась школа Нижинской )... и получил отказ.
Приняли его лишь после того, как за Сергея попросил бывший дирижер киевской оперы Штейман.
«- Будьте спокойны, товарищ Лифарь,- сказал мне Штейман.- Даже если она не примет вас в студию, вы еще лучше будете работать здесь. Ведь мадам Нижинская руководит и балетом моей оперы».
После просмотра Нижинская написала на экзаменационном листке Лифаря: «Горбатый!»
«Безжалостное словечко плясало перед моими глазами еще долго после того, как я раздобыл медицинское свидетельство, удостоверявшее, что я держался совершенно прямо».
В студию его взяли, нo на занятиях Нижинская его упорно не замечала - считала непригодным для балета. «Мадам Нижинская словно умышленно игнорировала меня, тем не менее я работал со страстью и упорством. Нижинскую я боялся, но и уважал, даже благоговел перед ней, когда понял, что она владеет сокровищем, которым я стремился овладеть во что бы то ни стало.»
И тем не менее, Лифарь был благодарен ей: «Именно Бронислава Нижинская – первая – соединила в своем творческом методе форму с эмоцией. Жест стал у нее знаком, символом… Именно Бронислава – первая – дала мне напиться из священного источника Красоты... Я это понял еще лучше через несколько месяцев, когда среди учеников распространились слухи, передаваемые шепотом. Нижинская готовилась уехать со всей семьей, чтобы уйти от советского ярма и устроиться где-нибудь вдали от России, в свободном мире. Она уехала, предоставив нас самим себе. Не угрожало ли это вновь моему намерению стать танцовщиком? Но я от него не отрекся. И то, что я не отрекся, скрепило навсегда мой союз с танцем.»
Нижинская приняла предложение знаменитого театрального мецената Сергея Дягилева, открывшего миру А. Павлову и В. Нижинского, работать в его труппе. Балетная студия пришла в упадок, но Лифарь продолжал заниматься самостоятельно. «Я работал как одержимый. Пятнадцать месяцев я прожил в страхе, предавшись жестокому аскетизму, работая без передышки. Один перед зеркалом я состязался со своим двойником, поочередно то, ненавидя его, то восхищаясь им. Он был учителем, а я всегда учеником. Еще до того, как я встретился с Кокто, а потом стал его другом, я освоил уже тему зеркала, дорогую ему, тему художника и его двойника. Я все же замечал, что делаю успехи». Жить на грани риска и драматизма, не видя будущего, Сергей не хотел. После отъезда Нижинской он полностью изолировался от окружающей жизни и неистово занялся балетом. На 15 месяцев он превратился в затворника. «Эта пятнадцатимесячная аскеза, пятнадцатимесячная келья как будто была послана судьбой перед вступлением в новую жизнь, как будто меня кто-то готовил для этой новой жизни.»
Воистину, как сказал один мудрец, "хорошие дни достаются хорошим людям, но лучшие -- тем, кто посмеет быть безумным". И в жизнь Сергея Лифаря ворвался Его Величество случай !
В один прекрасный день студия закипела. «Мадам Нижинская только что прислала телеграмму, которую я сохранил: "С. П. Дягилев просит для укомплектования своей труппы пять лучших учеников мадам Нижинской".»
Эта новость ошеломила Сергея — он решил во что бы то ни стало воспользоваться шансом. Лифаря в списке Нижинской не было. Четырех танцовщиков нашли, но один из приглашенных учеников уезжать побоялся, и Сергей мгновенно решил ехать вместо него. Это было заманчивое и одновременно рискованное предложение. Лифарь живет одной мыслью: как добраться в Париж? Страна тогда была уже заперта на замок, никого за границу не выпускали, а нелегальное пересечение границы каралось смертью.
первый побег был неудачным. Лифаря тогда чудом не расстреляли. Но посадили в камеру, где лежали умирающие от тифа. Весь пол был буквально усеян вшами. Сергей решил, что единственное спасение — стоять. И простоял четыре дня и четыре ночи, голодный (ему ничего не давали есть)! В отчаянии думал выпрыгнуть из окна — камера находилась на втором этаже. «Одна мысль остановила меня, а что если я переломаю себе ноги и останусь на всю жизнь калекой? Танцор без ног…»
В то время его уже призвали в армию и выдали шинель краскома (красного командира). —Вскоре после первого побега его вызвали в «органы». — ГПУ размещалось на улице Екатерининской (нынешней Липской).
«Мы знаем, что вы хотите нас покинуть, — сказал ему чекист. — Что же, поезжайте за границу к вашему Дягилеву. Мы окажем вам всемерное содействие».
В обмен на это Лифарю предлагалось наблюдать за эмигрантами и сообщать об их настроениях. Он отказался. Его предупредили: «Не вздумайте бежать! Мы будем следить за каждым вашим шагом».
И все-таки не уследили!
«О моем отъезде я известил только мою мать, которую видел тогда в последний раз. В минуту прощания она благословила меня, и я увидел в ее глазах такой испуг, что этот взгляд постоянно преследует меня. Ее взгляд - такой чистый, такой скорбный, такой волнующий - до странности напомнил мне взгляд той лани, которую я, совсем еще мальчишка, убил стянутым у отца ружьем, когда она пришла напиться и стояла вблизи от меня. То была единственная жизнь, которую я когда-либо отнял, и я не могу забыть, как, умирая, она с глазами, застланными слезами, лизнула мне руку».
Мама, с которой он простился в день отъезда из Киева 3 декабря 1923 года, больше уже не увидел.
О, сколько в его жизни было минут -- до этого и после -- когда он мог сказать: "Меня Бог спас".
«Я не буду описывать испытанные мной муки, страхи, опасности, когда я пересекал границу под пулями, цепляясь за вагон. Руки так свело холодом, что это даже помогло мне не сорваться. Подробности моего бегства не так уж важны, потому что у меня была цель...
13 января 1923 года я уже был в Париже».
|