-Метки
a bit of genrai alive and kicking (english) brian kinney/justin taylor gale/randy gay movie in the club ino/sakura itachi itachi/sasuke jason jiraiya/orochimaru joe dallesandro kakairu kakashi/iruka kisaita kisame/itachi mad tv gay gangster fight my aniki naruto naruto "i kissed a girl" ))))) naruto/sasuke peter berlin queer as folk rammstein “liebe ist für alle da” rammstein_amour rip sasu/naru sasu/naru саске/итачи sasuke sasuke/itachi sasuke/naruto single “pussy” skuliy sounds from the ground - rye usa when i lost you again yaoi yuri видео прикол по наруто вуайеризм гаара/наруто гай/ рок ли гай/хатаке какаши гей-видео гей-рассказы генма/райдо генма/рэйдо гинм яойщиков джирайя джирайя/орочимару дневник гомосексуалиста изнасилование ино/сакура ино/хината инцест ирука/итачи ирука/какаши итачи итачи/наруто итачи/наруто/саске итачи/саске кабуто/орочимару какаши какаши/ирука кисаме/итачи ли/гаара ли/саске. мои фики наруто/гаара наруто/сакура/саске наруто/саске орочимару орочимару/джирайя/сай орочимару/кабуто петр i/александр меншиков полицейский/сай сай/нара сай/резиновая ино сай/сам себя саске/гаара саске/итачи саске/нара саске/наруто саске/чоджи саске; itachi сасори/дейдара стёб тату учихацест фанфик december фугаку/итачи хината/ино хьюга чоджи чоджи/дэй; нара/шлюха чоджи/итачи шикамару шино/киба юри яой картинки nc-17
-Рубрики
- Naruto (127)
- Мои фики и стихи (43)
- стёб (39)
- Браво или Любимые Авторы (36)
- За жизнь (14)
- Первый поцелуй (12)
- Queer As Folk (9)
- Мои переводы (6)
- Личное (6)
- Параллели (6)
- Гей-рассказы (3)
-Музыка
- Eminem_Superman
- Слушали: 1164 Комментарии: 3
-Я - фотограф
-Стена
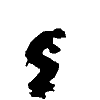
| through_the_dark написал 28.04.2009 15:43:43: Здесь был ЯОЙ!
Есть ЯОЙ!
И будет ЯОЙ всегда!
|
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
Сентябрь I |
Название: "December"
Автор: crimsoncourt
Разрешение: полученоне мной
Размещение: запрещено
Перевод: through_the_dark
Сентябрь.
I. Мама когда-нибудь учила тебя не разговаривать с незнакомцами?
Я ненавижу, что лето такое короткое. Да, оно жаркое, но лето всегда обозначает Наруто, мороженое и велосипедные прогулки. Лето короткое, но оно счастливое. Зима - грустный сезон, и хотя лето не заканчивается, когда начинается школа, чувствуется, как будто оно закончилось.
Как бы то ни было, я не большой поклонник школы. Мне не нравится сидеть за одним и тем же столом целый день, решать задачи на сложение. Пять плюс шесть - равно одиннадцать, это я уже знаю. Какаши обучил меня оперировать деньгами в книжном магазине. Я могу считать крупные суммы денег, и еще он научил меня вычислять налог с продаж на калькуляторе и бумаге. Кэш регистр делает это для меня, но Какаши - сторонник концептуального изучения. Он говорит, я должен понять сам процесс последовательности операций, выучить, что делает калькулятор. Это, как он объяснил, единственный путь реального освоения чего-либо.
Пока, мистер Умино записывает задачи на доске, я рисую птицу на задней стороне тетради и думаю о том, что друг Какаши, Генма, сказал насчет причуд. Мне нравится идея обладания чем-то, что делает меня отличным от других людей. У Какаши их больше, чем я могу сосчитать. Все его причуды заключены в его молитвах. Если Какаши внезапно прекратит посещать кладбище по субботам и постоянно варить кофе, он станет для меня незнакомцем.
У птицы, которую я рисую, аномально большой клюв. Я стараюсь сбалансировать изображение, добавляя больше перьев к ее затылку. Я не представляю, что за птицу рисую, пока меня не осеняет, что это совершенно новая разновидность, гибрид эволюции.
У Итачи тоже есть свои причуды. Он принимает холодный душ зимой. После него ванная комната пахнет льдом. Он запирается в спальне в некоторые ночи, заставляя меня спать на диване. Он проводит долгие часы на пожарной лестнице, уставившись в никуда. Его глаза обычно пусты, но я не думаю, что пустой взгляд можно назвать причудой.
Что важно, я не думаю, что Генма был прав насчет моих волос. Я посмотрел слово "причуда" в одном из словарей Какаши, это что-то, что ты делаешь, а не что-то, чем ты обладаешь. Так что я могу сказать, что не обладаю причудами. Я спросил об этом Какаши, и он ответил, что я должен быть счастлив от того, что у меня нет их столько, сколько есть у него.
Счастье. Счастье - это то, что обходит нас с Итачи стороной последние годы. Итачи настолько занят работой, что едва выкраивает время, чтобы поспать и щелкнуть меня по лбу, как он привык это делать. Мое несчастье в том, что мистер Умино смотрит прямо на меня, а я рисую птицу вместо того, чтобы обратить на него внимание.
Грезить в классе. Это может стать одной из моих причуд.
***
Рутина в школе с лета не меняется. После школы я по нескольку часов бываю в книжном магазине, пока Итачи не уйдет в кафе, а я не уйду с Какаши. Иногда я думаю, что это Какаши растит меня. Я вижусь с ним больше, чем с братом, и разговаривает он больше, чем мой брат.
Я не возражаю, что Какаши воспитывает меня. По крайней мере, он уделяет мне внимание. Он кормит меня ужином, играет со мной в шахматы и учит вещам, которые я понимаю только наполовину, но о которых люблю слушать. Какаши обращается со мной, как с личностью. Для Итачи я - обязательство. Это я в нем ненавижу. Я не ненавижу его. Он мой брат. Но некоторые вещи в нем ненавижу. Все маленькие причуды, которые мне нравятся в Какаши - его периодически странное настроение, его молчание, его загадочная внешность, манера смотреть над моей головой, когда он обращается ко мне - в Итачи я ненавижу. Забавно, что одинаковые причуды срабатывают по-разному: то, что делает Какаши эксцентричным, Итачи делает странным. Отдаленным, как недостижимая мечта, о которой не можешь забыть.
- Что-то не так, птенчик? - праздно спросил Какаши. Он уделил мне столько же внимания, сколько книге, которую читал, и это внимание было полным. Какаши поражает меня способностью уделять внимание всем вещам одновременно, как никто доселе мной встреченный. Он может готовить, читать и платить по счетам в одно и то же время.
- Нет, - лениво отвечаю я. Хотя все вентиляторы включены на полную мощность, температура в доме Какаши выше оптимальной. Я лежу на спине на мягкой синей софе Какаши с канареечно желтой заплаткой на подушке. В шве есть разрыв, мне нравится засовывать в него палец и ощущать набивку. Заплатку сделал друг Какаши, Ирука. Я никогда не встречал Ируку до начала школьных занятий, но все лето смотрел на его фотографию на подоконнике в кухне. Это маленькая фотография, едва ли больше моей ладони. На ней он улыбается и краснеет, глядя на что-то вне зоны объектива. Ирука Умино, мой учитель. Эта его фотография, увиденная в доме Какаши, заставляет меня чувствовать себя плохо - я не могу сосредоточиться на математике.
Заплатка сделана из полотенца, и больше ни с чем в гостиной не гармонирует. Кажется, Какаши не знает, что такое цветовое сочетание. Диван синий, с желтой заплаткой, его стул - белый, с коричневыми нашивками, покрывало, драпированное по спинке дивана - мятно-зеленого цвета, будто детское одеяльце.
У него куча восточных ковриков различных образцов и расцветок. Его шторы фиолетовые, размытые, а стены покрашены в светло-серый. Каждый отдельный предмет мебели в комнате не соответствует дубовому журнальному столику, журнальным столикам красного дерева, современной черной книжной полке. Стулья на кухне все разные, некоторые с закругленными вершинами, некоторые с квадратными вершинами, одни - с ручками, другие - без. Эта обстановка навевает мне мысли о старой леди-кошатнице, которая скупила все по дешевке на распродаже домашних вещей. Все не к месту и выглядит, как будто выбрано случайно, хотя чисто. Все в доме Какаши ничему не соответствует, но, в то же время, уместно. Вещи, смешанные подобным безвкусным образом, не имеют права выглядеть настолько смело и вызывающе.
Какаши такой же, как и его мебель. Я иногда задаюсь вопросом, откуда он, на самом деле, потому что я не думаю, что с 522 Торео-Стрит. Какаши принадлежит сборнику рассказов, загадочный человек с еще более загадочным прошлым. И, в то же самое время, его трудно представить где-либо еще, а не здесь. Он, как Дороти, потерявшаяся в стране Оз, но без желания вернуться в Канзас. Он вписывается, потому что не соответствует. - Ты выглядишь заскучавшим, - говорит Какаши в своей обычной манере. Он не ходит вокруг да около сегодня, не разговаривает, как река, которая извивается в течение нескольких миль, прежде чем, наконец, сольется в океан. Сегодня он доступен и понятен мне с начала.
Мне скучно. Дом Какаши – дом холостяка. Шахматы – единственная игра здесь, телевидения нет. Какаши читает, так что я не могу включить радио. Он ничего не скажет, но посмотрит на меня поверх своей книги, а этот короткий взгляд будет выразительнее любых слов. Я пожимаю плечами в ответ.
Он смотрит на меня поверх книги. Японские письмена на обложке дразнят меня. – Это не ответ, птенчик.
Как будто он имеет право читать мне лекции об ответах, не являющихся ответами. Он сам на таком специализируется. Чтобы досадить ему, я снова пожимаю плечами.
Он выгибает бровь в изумлении, удлиняя шрам, проходящий от середины его щеки к тонкой надбровной дуге. Его брови темнее, чем волосы, что только усиливает тайну их мистического серого. Я не знаю, где он получил шрам. Какаши Хатаке, хранитель тайн отныне и навсегда. - Чувствуешь желание мстить сегодня?
Он снова говорит поверх моей головы. Все еще чувствую желание мстить. Я не знаю точно, что это значит, но это походит на сильное чувство. Это походит на злость. Я пожимаю плечами.
Какаши захлопывает свою книгу. - Что ты взъерошил перья? – Поскольку он оторвался от книги, мне кажется, что он удивлен. Его любимое настроение, когда он со мной - удивление, любимое выражение лица - кривая полуусмешка. Это только полуусмешка, потому что вторая половина думает, как противостоять мне и показать мою принадлежность в этом мире. Я развлекаю Какаши.
Если я буду жаловаться Какаши на мою школу и нехватку причуд, мне это ничего не даст, поэтому я ничего не делаю и только поправляю воротничок моей рубашки на шее. - Просто здесь жарко. - я не хочу расстраивать его. Это совсем не походит на жалобу.
Он потирает заднюю часть шеи. - Не могу помочь погоде. Но, - говорит он, откладывая книгу. - Есть способ победить ее.
- Разве это не то, что вентиляторы должны делать?
- Ну, когда одна попытка неудачна, мы должны попробовать другую, - говорит он, вставая. - Интересуешься, как перехитрить мать природу?
Если метеорологи не могут перехитрить мать природу, я не представляю, как Какаши сможет сделать это, но я киваю и встаю. Независимо от того, что он собирается делать, это обещает быть интересным. Я иду за ним через прихожую и черный ход. Его задний двор увядает от жары. Я могу видеть подсыхающие капельки пота. Все потеет здесь. - Какаши, - это звучит почти жалобно, потому что я рассматриваю его крошечный задний двор. Клочья травы увядают на коричневом дворе. Паккун, старый толстый мопс, разленился от жары и лежит под старым деревянным столом для пикника, задыхаясь и игнорируя нас. Кажется, что стол, провисший по середине, готов развалиться в любой момент.Я опасаюсь за жизнь Паккуна. Паккун переворачивается и возвращается ко сну. - Здесь еще хуже, чем внутри.
Какаши скидывает свою обувь и указывает мне сделать то же самое. Принято снимать обувь в доме, но у Какаши всегда все задом наперед, так что я не удивлен. Я делаю, что он просит. Древесина теплая под моими босыми ступнями, слишком теплая, чтобы это было комфортно, но недостаточно, чтобы назвать ее горячей. - Стой здесь, - инструктирует он.
Я знаю, что спрашивать бессмысленно, но, все-таки, делаю это. - Что ты делаешь?
Я вздыхаю. Жара превращает меня в липкого и раздражительного. Я жду, пока Какаши делает что-то ниже уровня глаз, так, что я не могу это видеть. Наконец, когда все затягивается дольше, чем на пять минут, я разочаровываюсь в этой игре и спускаюсь проверить лично, что он делает. Я не могу оставаться в неведении и при нормальной температуре, а жара делает меня вдвойне нетерпеливым.
Мое нетерпение приветствуют холодным шоком, раз в десять холоднее воздуха вокруг. Мокрая. Вода. Холодная вода. Какаши держит садовый шланг в руке, размахивая им радостно, делая вид, что это не он только что облил меня водой без моего разрешения. - Рад, что ты, наконец, спустился, - говорит он, прежде чем окатить меня ледяной струей снова.
Я не могу помочь себе. Я ору от удивления. Сквозь брызги воды я вижу, что Какаши смеется надо мной. Я хочу разозлиться, но настолько странно видеть его смеющимся, что мой гнев затмевает изумление. Какаши обычно хихикает. Но это не хихиканья. Это - смех Наруто с распахнутым ртом. До этого момента я никогда не видел, чтобы Какаши так смеялся. - Ты похож на утопшего котенка, - выдавливает он сквозь смех. Я вижу, что он не привык так смеяться, ему трудно, он хватается руками живот, безуспешно пытаясь сдержать приступы хохота.
С этим комментарием мой гнев возвращается. Он мог бы предупредить меня, прежде чем окатывать водой и так смеяться. Я свирепо смотрю на него, но это вызывает в нем новый приступ смеха. Его смех хорош, недовольно решаю я. Мне он не слишком нравится, но он приятен на слух. - Как ты собираешься объяснять это Итачи? - Спрашиваю я, чтобы осадить его.
Он возвращается к хихиканьям. - Не волнуйся о своем брате, я умею с ним обращаться. Какаши собирается принять наказание вечером. Эта мысль заставляет меня почти смириться с моей мокрой одеждой. - Тебе придется принять наказание, - говорю я ему с шипением.
- О, котенок набрался мужества.
- Моя одежда вся мокрая.
- Ты звучишь также, как твой брат. Слишком много беспокоишься. - Он улыбается мягко, демонстрируя такое выражение лица, которого я никогда раньше у него не видел. И внезапно я пугаюсь. Честно, я пугаюсь этого улыбающегося, смеющегося мужчины, даже не знаю, почему. У него приятная улыбка и хороший смех.
Я думаю, он чувствует мой страх. Он разбирается в чувствах других людей. Я считаю это странным, потому что он слишком плох в выражении своих собственных чувств. Печаль на секунду вспыхивает на его лице. - Ты можешь зайти внутрь, если хочешь. - Ничего печального в его голосе не звучит, но та вспышка чувствуется в нем. Меня это потрясает. Я причинил ему боль?
Я встряхиваю головой. Я не хочу причинять ему боль, даже если я не узнаю его прямо сейчас. - Просто мне холодно. - Да, мне холодно. Я дрожу, хотя и не уверен, что это от воды.
- Это побочный эффект холодной воды, - говорит он, как будто дрожит сам. – Эта дрожь, разве она не сука?
Несмотря на мой страх, я насмехаюсь над ним, не способным помочь мне, раздосадованным моим страхом. Мне нравится, когда Какаши ругается при мне. Итачи ненавидит, когда он это делает, а мне нравится все, что хоть сколько способно разозлить брата. И еще я радуюсь, что я мокрый, потому что Итачи это тоже не понравится. Кроме того, мне больше не жарко. И я уже не напуган. Ругающийся Какаши – это Какаши, которого я знаю, с которым мне нравится проводить время. Смех Какаши пугает больше, чем кладбище Какаши, его смех слишком реален для моего Какаши. Слишком реален и слишком незнаком. Я никогда не хочу снова услышать, как он смеется.
Он поднимает шланг над своей головой и заливает себя водой. Она каскадом льется на его лицо, руки, ноги, оставляя грязную лужу в затопленной траве вокруг его босых стоп. Он такой же мокрый, как и я.
По крайней мере, он не смеется.
*^*^
Я официально решил, что борьба доктора Хошигаки бессмысленна. Теперь я идеально разобрался в его тактике. Он прививает мне ложное чувство безопасности, чтобы заставить меня доверять ему достаточно, и чтобы я согласился слить ему все мои глубокие тайные темные чувства. И это работает. Дискомфорт, который я испытывал вначале, прошел, сменившись удовольствием от книги на моих коленях.
Доктор Хошигаки, кажется, вычислил мою слабость. Я даже не могу припомнить, когда последний раз читал что-то для развлечения, или делал что-то для развлечения. Я не имею времени, работая на двух работах. Какаши итак заботится о Саске столько, что, я думаю, Саске он нравится больше. Как я могу просить его о чем-то еще для себя? Я не могу, и знаю это. Мы - приговор его доброму характеру. Капризный пятнадцатилетний подросток и девятилетний любознательный, постоянно окружающие его. Конечно, для Какаши есть лучшие занятия, чем работа няньки.
Конечно, Какаши нравится Саске. Ему только девять, но Какаши обращается с ним, как с маленьким взрослым. Как с другом. Доктор Хошигаки проворачивает то же самое дерьмо со мной. Я не верю этому. Однажды, когда я уйду из его жизни, он забудет все обо мне и моих проблемах ради других молодых обеспокоенных пациентах, которые на самом деле придут искать помощи. Я - его работа, а не его друг, даже если он дает мне книги и позволяет хранить молчание.
Это заставляет меня задаваться вопросом, это офис психиатра – или публичная библиотека.
Добрый доктор напевает что-то шепотом, поскольку работает над еще одним кроссвордом. Ему, должно быть, это действительно нравится. Он разгадывает один каждый день, или только по четвергам в семь, пока ждет, когда мое отношение к нему потеплеет? Трудно сказать. Ни то, чтобы я много о нем знал. У него внешность рок-звезды, и, я уверен, в его голове находится радио, проигрывающее классику постоянно, с момента его подъема до того, как он засыпает. Он умнее, чем я представлял себе. А я не из тех, кто игнорирует факты. Кроме того, я в замешательстве. Мне не нужно узнавать что-то еще об этом человеке. Это точно не то, в чем я нуждаюсь. Но, в соответствии с моей натурой, я не могу побороть любопытство, которое чувствую. Я прямо как Саске в своем любопытстве. Ребенком я хотел знать все. Я спрашивал обо всем в стремлении к знаниям. Простые детские вопросы. Как луна узнает, когда всходить? Мама, откуда появляются дети? Затем я начал задавать неправильные вопросы. Что случилось с твоим глазом, мама? Почему папа все еще не дома? Почему он спит, если сейчас только пять часов? Она пыталась уберечь меня, но я не знал, что так будет лучше. Глупый, глупый Итачи, совал свой нос, куда не следует.
- Что ты делаешь, папа?
- Иди сюда, дай мне показать тебе.
Я научился не задавать вопросов. Вопросы только добавляют проблем, а мне больше не нужны проблемы в моей жизни. Один вопрос убил меня. Изменил меня. Сделал меня параноиком, осторожным, подозрительным, чувствующим себя некомфортно среди людей. Преждевременно постаревшим.
И все-таки, у меня есть вопросы, больше, чем за долгое время. Я думал, что научился подавлять свое любопытство, но, полагаю, кошка все еще не сдохла. Четыре года ночей, полных ужаса, должны были добиться цели, но вот я здесь со всеми этими вопросами, распирающими меня изнутри. Я почти умираю от желания узнать о нем больше, и только и заверяю себя, что придержать язык – это лучшее, что можно сделать. Я не хочу открывать ящик Пандоры снова. Я не могу пройти через это снова, я не могу столкнуться с этим снова в офисе психиатра, где все будет даже ярче, чем в моих воспоминаниях. По этой причине я никогда не спрашиваю о шраме, пересекающем глаз Какаши. По этой причине я сразу же ухожу от него, забрав моего брата. Меньше знаешь - крепче спишь.
Так что я не задаю вопросы, но задаюсь вопросами. В какой группе вы играли? Вы пишете музыку? Такую же великолепную, как вы сами? Вы представляете, как сильно я ненавижу вас за то, что вы заставили меня задаваться вопросами?
Если бы только книга не была так хороша. Если бы меня не заботили ее герои. Я бы мог положить ее на место и вернуться к неуютной тишине и громкому тиканью его часов. Мне комфортно в дискомфорте. Дискомфорт обозначает, что стена, которая меня защищает, не пропустит нежелательное вторжение. Эта книга проскользнула сквозь стену, прямо бойницу. Нет, она была доставлена ко мне через парадные ворота. Коробейник с легкой улыбкой продал ее мне ради моего удовольствия.
- Время закончилось на сегодня, - говорит доктор Хошигаки, когда часы бьют восемь. Я свободен, но разочарован. И я зол, потому что, так или иначе, разочарованию удалось вкрасться и отравить то, что должно быть настоящим экстазом. Убирайся, убирайся. Убирайся, пока еще не слишком поздно.
Я быстро киваю головой, но мои руки с предательской радостью сжимают книгу. Я испытываю странное чувство, вероятно, потому что руки не слушаются команды моего мозга. Почему я взял хорошую книгу с его полки? Удачный выбор - и вот, я увлечен чтением. Стоило взять дерьмовую книгу с дерьмовыми описаниями и дерьмовыми клише о моралях. Но мне так давно не удавалось спокойно почитать книгу без необходимости отвлекаться на что-то еще.
.
- Можешь взять ее домой, если хочешь, - любезно предлагает он. Такой добрый самаритянин. - Если пообещаешь не потерять ее.
Я не потеряю книгу. Я никогда не терял ничего материального в своей жизни. Даже ребенком я досконально знал расположение всех своих игрушек. Я знал, где что находилось, потому что не люблю, когда вещи управляют мной. Я был педантичным ребенком. Я не теряю вещи и по сей день. Я стал еще более педантичным подростком.
Я молча бросаю книгу на его стол. Бумаги вокруг нее трепещут вслед. Я не говорю "спасибо за предложение" или "это мило, но нет". Это уже слишком для меня. Он слишком многого просит от меня, и это шаг в правильном направлении. Посмотрев в его глаза, я могу сказать, что он оплакивает мой несостоявшийся прогресс. Ведь дела только что шли так хорошо.
Я никогда ничего не возьму у него снова.
*^*^*
Саске смотрит на кучу мокрой одежды на полу в моей ванной, как на личное оскорбление. Я не видел такого педантичного ребенка с тех пор, как мне самому было девять, и я еще не освоил высокое искусство принятия. Когда я вырос, я быстро обнаружил, что отторжение не помогает забывать. Принятие, поминовение, раскаяние. Это моя мантра. Моя Святая Мария. Мой способ выказать почтение вещам, о которых я не могу забыть.
Он - персонаж с открытки Холлмарка. На нем только полотенце, которое почти поглотило его крошечную фигурку. Утопленный котенок. Мне хочется смеяться над его видом, но он уже раздражается. Так что лучше этого не делать. Это почти заставляет меня захотеть иметь детей. Почти. Бог знает, я бы все испортил. Но все же, сейчас я могу притвориться в течение минуты. Безо всякого вреда.
Я наклоняюсь и вытираю полотенцем его насквозь мокрые волосы. Они черные, как полночь, в противовес его бледной коже. Его необычно темные глаза впиваются в меня взглядом, чтобы понять ситуацию. Он такой симпатичный, когда злится. Забавно, что он думает, что может что-то мне сделать. Он вообще не может заставить меня почувствовать себя плохо. Через десять лет он оглянется на это со смехом. Я всегда смотрю в будущее. Это единственный путь оправдать прошлое, оставляя настоящее, как ступеньку между ними.
- Ты слишком сильно трешь, - жалуется он.
Довольно неблагодарно с его стороны. Я просто стараюсь быть милым. - Не ожидал, что ты такой нежный, - говорю я, ослабляя нажим. Я иногда забываю, насколько он юн. Он напоминает меня в его возрасте, тоже преждевременно повзрослевшего. Есть некоторые тревожащие параллели в наших жизнях, которые вызывают дежавю, и я все еще могу видеть кровь в комнате. Трудно забыть что-то, что впитывалось в мою кожу часами. Вся та красная, красная кровь.
Я сдерживаю дрожь. Чертовы вентиляторы, создающие все эти поперечные бризы. От них покалывает кожу.
- Ты в порядке? - спрашивает Саске с невинным беспокойством ребенка, который ничего не знает. Я не думаю, что моя дрожь была настолько заметна, скорее, осязаема. Вероятно, он почувствовал ее через мои руки.
- Холодно, - отвечаю я. Мой голос безэмоционален. Еще одна вещь, в которой я совершенен - это искусство обмана. Я вру красиво, как Моне, закрашиваю шедевр каждым вероломным словом. Тысяча небольших шедевров с моим именем в Метраполитен.
Он кивает в согласии и расслабляется в своем полотенце. - Я должен положить твои вещи в сушилку, - говорю я ему, несколько последних раз проводя полотенцем по его волосам. - Ты слишком мал для моих штанов, но можешь надеть мою футболку, пока твоя одежда не высохнет. - В моей спальне я переодеваюсь почти мгновенно, прежде чем иду помогать Саске в ванной, только мои волосы остаются мокрыми.
- Хорошо. Он кутается в полотенце, чтобы защитить себя от вентиляторов, когда проходит в мою спальню. Уходя, я замечаю в полотенце дыру. Позже я его выброшу.
Я прилагаю все усилия, чтобы выжать как можно больше воды из его одежды, прежде чем засуну ее в сушилку. Я получил сушилку пару недель назад от друга друга Генмы. Прощайте, прачечные самообслуживания, где матери с детьми награждали меня неодобрительными взглядами, когда замечали книги Ича-Ича. Те же самые взгляды они посылают бомжам на тротуарах, мысленно ругая их за то, что те посмели так низко пасть на глазах их детей. А детям просто любопытно. Они еще не понимают уродливые вещи этого мира.
Возвращаюсь наверх, Саске утопает в одной из моих простых черных хлопчатобумажных футболок. Похоже, что он одел безразмерное платье. Его волосы налипли на лоб и выглядят, как чернильные струйки на фарфоре. Он все еще не кажется счастливым.
- Голоден, птенчик? - спрашиваю я, прежде чем он воспользуется шансом сказать что-то язвительное. Я не нуждаюсь в лекции от девятилетнего.
Его брови морщатся, когда он решает, стоит ли его гнев от ношения хлопчатобумажного вечернего платья урчащего живота. Побеждает голод, Саске кивает, спрыгивает с кушетки и следует за мной на кухню. Пока Саске крутится на стуле, я открываю ящик и начинаю копаться в моих скудных запасах. Мне нужно сделать закупки в ближайшее время. Все, что у меня есть - это суп и хлебные крошки. И я знаю точно, что Саске не любит брокколи, так что суп отпадает.
В холодильнике дело обстоит лучше. Есть большой кусок сыра чеддер, немного пепперони на нижней полке и рогалики. Я так давно перестал готовить из этих ингредиентов, что годы исчисляются двойными цифрами. Это слишком напоминает мне об отце. Но так как я не думаю, что Саске понравятся вчерашние остатки маринованных овощей, рогалики-пицца - мой единственный выбор.
Термин рогалики-пицца не подходит сейчас. Нет соуса, созданного моим отцом, и чеддер - не моцарелла, но что-то еще кажется неверным. Мне было шесть лет, когда он впервые приготовил их для меня. Тогда я был классическим разборчивым едоком, склонным бросать еду недоеденной. Но рогалики-пицца были идеальны для моего упрямого неискушенного вкуса. Отец всегда ел один со мной за столом, и жир капал с его подбородка.
У меня очень немного теплых воспоминаний об ушедшем отце. Я задался целью выбросить все, что напоминало бы о нем после его смерти: часы, рубашки, книги, картины, инструменты - все, что могло оставить о нем хорошую память; я думал, что будет лучше забыть отца, я скучал по тому отцу, каким он был, прежде чем стал настолько потерянным в себе. Я выбросил все его вещи, какие только возможно и оставил его в покое в могиле. Но рогалики-пицца всегда будут напоминать то время, когда он мне нравился, когда мама еще была рядом, и он не был полупьян-полубезумен. Это странно: я избавился от всего его имущества, чтобы помнить лишь плохие дни, и только память не умирает. И эта память заставляет меня скучать по нему порой.
Пять минут спустя я выкладываю два еще пузырящихся рогалика-пиццы на стол. Саске смотрит на них с внимательным интересом. Он не ожидал, что еда будет готова так быстро. Шахматная партия только наполовину закончена. - Что это?
- Рогалик, сыр, пепперони. - По некоторым причинам я не могу заставить себя произнести название. - У тебя есть какие-нибудь возражения?
Он встряхивает головой, вдыхая смешанный аромат хлеба, мяса и сыра. Для меня рогалики-пицца пахнут ленью. Пять минут - и они готовы, еще десять - и с ними покончено. Вы должны приготовить их не раз, чтобы оценить. Они станут особенными.
Дегустация прошла с благодарным кивком. Саске - не разборчивый едок, для чего-то нового у него имеется только два потенциальных ответа. Нравится - или не нравится. В отличие от Саске рогалики-пицца мне не в новинку, и я знаю, что они обладают приятным вкусом. Но мне не нравится их есть. Я ненавижу их есть, я знаю, что, скорее всего, буду чувствовать тошноту после них несколько часов, и я ем их, потому что усовершенствовал искусство лжи настолько, что ее нейроновый путь врезан в мою нервную систему, превосходит рефлексы и стал инстинктом.
Он поглощает еду. Я ем медленно, как всегда, но не потому, что смакую вкус. Это потому, что я борюсь с собой, чтобы не вытолкнуть это из моего горла, очищая тело и память. О чем я, черт подери, думал? Я же мог просто заказать китайскую еду. Должно быть, это проклятие художника - постоянно загонять себя в уныние.
Автор: crimsoncourt
Разрешение: получено
Размещение: запрещено
Перевод: through_the_dark
Сентябрь.
I. Мама когда-нибудь учила тебя не разговаривать с незнакомцами?
Я ненавижу, что лето такое короткое. Да, оно жаркое, но лето всегда обозначает Наруто, мороженое и велосипедные прогулки. Лето короткое, но оно счастливое. Зима - грустный сезон, и хотя лето не заканчивается, когда начинается школа, чувствуется, как будто оно закончилось.
Как бы то ни было, я не большой поклонник школы. Мне не нравится сидеть за одним и тем же столом целый день, решать задачи на сложение. Пять плюс шесть - равно одиннадцать, это я уже знаю. Какаши обучил меня оперировать деньгами в книжном магазине. Я могу считать крупные суммы денег, и еще он научил меня вычислять налог с продаж на калькуляторе и бумаге. Кэш регистр делает это для меня, но Какаши - сторонник концептуального изучения. Он говорит, я должен понять сам процесс последовательности операций, выучить, что делает калькулятор. Это, как он объяснил, единственный путь реального освоения чего-либо.
Пока, мистер Умино записывает задачи на доске, я рисую птицу на задней стороне тетради и думаю о том, что друг Какаши, Генма, сказал насчет причуд. Мне нравится идея обладания чем-то, что делает меня отличным от других людей. У Какаши их больше, чем я могу сосчитать. Все его причуды заключены в его молитвах. Если Какаши внезапно прекратит посещать кладбище по субботам и постоянно варить кофе, он станет для меня незнакомцем.
У птицы, которую я рисую, аномально большой клюв. Я стараюсь сбалансировать изображение, добавляя больше перьев к ее затылку. Я не представляю, что за птицу рисую, пока меня не осеняет, что это совершенно новая разновидность, гибрид эволюции.
У Итачи тоже есть свои причуды. Он принимает холодный душ зимой. После него ванная комната пахнет льдом. Он запирается в спальне в некоторые ночи, заставляя меня спать на диване. Он проводит долгие часы на пожарной лестнице, уставившись в никуда. Его глаза обычно пусты, но я не думаю, что пустой взгляд можно назвать причудой.
Что важно, я не думаю, что Генма был прав насчет моих волос. Я посмотрел слово "причуда" в одном из словарей Какаши, это что-то, что ты делаешь, а не что-то, чем ты обладаешь. Так что я могу сказать, что не обладаю причудами. Я спросил об этом Какаши, и он ответил, что я должен быть счастлив от того, что у меня нет их столько, сколько есть у него.
Счастье. Счастье - это то, что обходит нас с Итачи стороной последние годы. Итачи настолько занят работой, что едва выкраивает время, чтобы поспать и щелкнуть меня по лбу, как он привык это делать. Мое несчастье в том, что мистер Умино смотрит прямо на меня, а я рисую птицу вместо того, чтобы обратить на него внимание.
Грезить в классе. Это может стать одной из моих причуд.
***
Рутина в школе с лета не меняется. После школы я по нескольку часов бываю в книжном магазине, пока Итачи не уйдет в кафе, а я не уйду с Какаши. Иногда я думаю, что это Какаши растит меня. Я вижусь с ним больше, чем с братом, и разговаривает он больше, чем мой брат.
Я не возражаю, что Какаши воспитывает меня. По крайней мере, он уделяет мне внимание. Он кормит меня ужином, играет со мной в шахматы и учит вещам, которые я понимаю только наполовину, но о которых люблю слушать. Какаши обращается со мной, как с личностью. Для Итачи я - обязательство. Это я в нем ненавижу. Я не ненавижу его. Он мой брат. Но некоторые вещи в нем ненавижу. Все маленькие причуды, которые мне нравятся в Какаши - его периодически странное настроение, его молчание, его загадочная внешность, манера смотреть над моей головой, когда он обращается ко мне - в Итачи я ненавижу. Забавно, что одинаковые причуды срабатывают по-разному: то, что делает Какаши эксцентричным, Итачи делает странным. Отдаленным, как недостижимая мечта, о которой не можешь забыть.
- Что-то не так, птенчик? - праздно спросил Какаши. Он уделил мне столько же внимания, сколько книге, которую читал, и это внимание было полным. Какаши поражает меня способностью уделять внимание всем вещам одновременно, как никто доселе мной встреченный. Он может готовить, читать и платить по счетам в одно и то же время.
- Нет, - лениво отвечаю я. Хотя все вентиляторы включены на полную мощность, температура в доме Какаши выше оптимальной. Я лежу на спине на мягкой синей софе Какаши с канареечно желтой заплаткой на подушке. В шве есть разрыв, мне нравится засовывать в него палец и ощущать набивку. Заплатку сделал друг Какаши, Ирука. Я никогда не встречал Ируку до начала школьных занятий, но все лето смотрел на его фотографию на подоконнике в кухне. Это маленькая фотография, едва ли больше моей ладони. На ней он улыбается и краснеет, глядя на что-то вне зоны объектива. Ирука Умино, мой учитель. Эта его фотография, увиденная в доме Какаши, заставляет меня чувствовать себя плохо - я не могу сосредоточиться на математике.
Заплатка сделана из полотенца, и больше ни с чем в гостиной не гармонирует. Кажется, Какаши не знает, что такое цветовое сочетание. Диван синий, с желтой заплаткой, его стул - белый, с коричневыми нашивками, покрывало, драпированное по спинке дивана - мятно-зеленого цвета, будто детское одеяльце.
У него куча восточных ковриков различных образцов и расцветок. Его шторы фиолетовые, размытые, а стены покрашены в светло-серый. Каждый отдельный предмет мебели в комнате не соответствует дубовому журнальному столику, журнальным столикам красного дерева, современной черной книжной полке. Стулья на кухне все разные, некоторые с закругленными вершинами, некоторые с квадратными вершинами, одни - с ручками, другие - без. Эта обстановка навевает мне мысли о старой леди-кошатнице, которая скупила все по дешевке на распродаже домашних вещей. Все не к месту и выглядит, как будто выбрано случайно, хотя чисто. Все в доме Какаши ничему не соответствует, но, в то же время, уместно. Вещи, смешанные подобным безвкусным образом, не имеют права выглядеть настолько смело и вызывающе.
Какаши такой же, как и его мебель. Я иногда задаюсь вопросом, откуда он, на самом деле, потому что я не думаю, что с 522 Торео-Стрит. Какаши принадлежит сборнику рассказов, загадочный человек с еще более загадочным прошлым. И, в то же самое время, его трудно представить где-либо еще, а не здесь. Он, как Дороти, потерявшаяся в стране Оз, но без желания вернуться в Канзас. Он вписывается, потому что не соответствует. - Ты выглядишь заскучавшим, - говорит Какаши в своей обычной манере. Он не ходит вокруг да около сегодня, не разговаривает, как река, которая извивается в течение нескольких миль, прежде чем, наконец, сольется в океан. Сегодня он доступен и понятен мне с начала.
Мне скучно. Дом Какаши – дом холостяка. Шахматы – единственная игра здесь, телевидения нет. Какаши читает, так что я не могу включить радио. Он ничего не скажет, но посмотрит на меня поверх своей книги, а этот короткий взгляд будет выразительнее любых слов. Я пожимаю плечами в ответ.
Он смотрит на меня поверх книги. Японские письмена на обложке дразнят меня. – Это не ответ, птенчик.
Как будто он имеет право читать мне лекции об ответах, не являющихся ответами. Он сам на таком специализируется. Чтобы досадить ему, я снова пожимаю плечами.
Он выгибает бровь в изумлении, удлиняя шрам, проходящий от середины его щеки к тонкой надбровной дуге. Его брови темнее, чем волосы, что только усиливает тайну их мистического серого. Я не знаю, где он получил шрам. Какаши Хатаке, хранитель тайн отныне и навсегда. - Чувствуешь желание мстить сегодня?
Он снова говорит поверх моей головы. Все еще чувствую желание мстить. Я не знаю точно, что это значит, но это походит на сильное чувство. Это походит на злость. Я пожимаю плечами.
Какаши захлопывает свою книгу. - Что ты взъерошил перья? – Поскольку он оторвался от книги, мне кажется, что он удивлен. Его любимое настроение, когда он со мной - удивление, любимое выражение лица - кривая полуусмешка. Это только полуусмешка, потому что вторая половина думает, как противостоять мне и показать мою принадлежность в этом мире. Я развлекаю Какаши.
Если я буду жаловаться Какаши на мою школу и нехватку причуд, мне это ничего не даст, поэтому я ничего не делаю и только поправляю воротничок моей рубашки на шее. - Просто здесь жарко. - я не хочу расстраивать его. Это совсем не походит на жалобу.
Он потирает заднюю часть шеи. - Не могу помочь погоде. Но, - говорит он, откладывая книгу. - Есть способ победить ее.
- Разве это не то, что вентиляторы должны делать?
- Ну, когда одна попытка неудачна, мы должны попробовать другую, - говорит он, вставая. - Интересуешься, как перехитрить мать природу?
Если метеорологи не могут перехитрить мать природу, я не представляю, как Какаши сможет сделать это, но я киваю и встаю. Независимо от того, что он собирается делать, это обещает быть интересным. Я иду за ним через прихожую и черный ход. Его задний двор увядает от жары. Я могу видеть подсыхающие капельки пота. Все потеет здесь. - Какаши, - это звучит почти жалобно, потому что я рассматриваю его крошечный задний двор. Клочья травы увядают на коричневом дворе. Паккун, старый толстый мопс, разленился от жары и лежит под старым деревянным столом для пикника, задыхаясь и игнорируя нас. Кажется, что стол, провисший по середине, готов развалиться в любой момент.Я опасаюсь за жизнь Паккуна. Паккун переворачивается и возвращается ко сну. - Здесь еще хуже, чем внутри.
Какаши скидывает свою обувь и указывает мне сделать то же самое. Принято снимать обувь в доме, но у Какаши всегда все задом наперед, так что я не удивлен. Я делаю, что он просит. Древесина теплая под моими босыми ступнями, слишком теплая, чтобы это было комфортно, но недостаточно, чтобы назвать ее горячей. - Стой здесь, - инструктирует он.
Я знаю, что спрашивать бессмысленно, но, все-таки, делаю это. - Что ты делаешь?
Я вздыхаю. Жара превращает меня в липкого и раздражительного. Я жду, пока Какаши делает что-то ниже уровня глаз, так, что я не могу это видеть. Наконец, когда все затягивается дольше, чем на пять минут, я разочаровываюсь в этой игре и спускаюсь проверить лично, что он делает. Я не могу оставаться в неведении и при нормальной температуре, а жара делает меня вдвойне нетерпеливым.
Мое нетерпение приветствуют холодным шоком, раз в десять холоднее воздуха вокруг. Мокрая. Вода. Холодная вода. Какаши держит садовый шланг в руке, размахивая им радостно, делая вид, что это не он только что облил меня водой без моего разрешения. - Рад, что ты, наконец, спустился, - говорит он, прежде чем окатить меня ледяной струей снова.
Я не могу помочь себе. Я ору от удивления. Сквозь брызги воды я вижу, что Какаши смеется надо мной. Я хочу разозлиться, но настолько странно видеть его смеющимся, что мой гнев затмевает изумление. Какаши обычно хихикает. Но это не хихиканья. Это - смех Наруто с распахнутым ртом. До этого момента я никогда не видел, чтобы Какаши так смеялся. - Ты похож на утопшего котенка, - выдавливает он сквозь смех. Я вижу, что он не привык так смеяться, ему трудно, он хватается руками живот, безуспешно пытаясь сдержать приступы хохота.
С этим комментарием мой гнев возвращается. Он мог бы предупредить меня, прежде чем окатывать водой и так смеяться. Я свирепо смотрю на него, но это вызывает в нем новый приступ смеха. Его смех хорош, недовольно решаю я. Мне он не слишком нравится, но он приятен на слух. - Как ты собираешься объяснять это Итачи? - Спрашиваю я, чтобы осадить его.
Он возвращается к хихиканьям. - Не волнуйся о своем брате, я умею с ним обращаться. Какаши собирается принять наказание вечером. Эта мысль заставляет меня почти смириться с моей мокрой одеждой. - Тебе придется принять наказание, - говорю я ему с шипением.
- О, котенок набрался мужества.
- Моя одежда вся мокрая.
- Ты звучишь также, как твой брат. Слишком много беспокоишься. - Он улыбается мягко, демонстрируя такое выражение лица, которого я никогда раньше у него не видел. И внезапно я пугаюсь. Честно, я пугаюсь этого улыбающегося, смеющегося мужчины, даже не знаю, почему. У него приятная улыбка и хороший смех.
Я думаю, он чувствует мой страх. Он разбирается в чувствах других людей. Я считаю это странным, потому что он слишком плох в выражении своих собственных чувств. Печаль на секунду вспыхивает на его лице. - Ты можешь зайти внутрь, если хочешь. - Ничего печального в его голосе не звучит, но та вспышка чувствуется в нем. Меня это потрясает. Я причинил ему боль?
Я встряхиваю головой. Я не хочу причинять ему боль, даже если я не узнаю его прямо сейчас. - Просто мне холодно. - Да, мне холодно. Я дрожу, хотя и не уверен, что это от воды.
- Это побочный эффект холодной воды, - говорит он, как будто дрожит сам. – Эта дрожь, разве она не сука?
Несмотря на мой страх, я насмехаюсь над ним, не способным помочь мне, раздосадованным моим страхом. Мне нравится, когда Какаши ругается при мне. Итачи ненавидит, когда он это делает, а мне нравится все, что хоть сколько способно разозлить брата. И еще я радуюсь, что я мокрый, потому что Итачи это тоже не понравится. Кроме того, мне больше не жарко. И я уже не напуган. Ругающийся Какаши – это Какаши, которого я знаю, с которым мне нравится проводить время. Смех Какаши пугает больше, чем кладбище Какаши, его смех слишком реален для моего Какаши. Слишком реален и слишком незнаком. Я никогда не хочу снова услышать, как он смеется.
Он поднимает шланг над своей головой и заливает себя водой. Она каскадом льется на его лицо, руки, ноги, оставляя грязную лужу в затопленной траве вокруг его босых стоп. Он такой же мокрый, как и я.
По крайней мере, он не смеется.
*^*^
Я официально решил, что борьба доктора Хошигаки бессмысленна. Теперь я идеально разобрался в его тактике. Он прививает мне ложное чувство безопасности, чтобы заставить меня доверять ему достаточно, и чтобы я согласился слить ему все мои глубокие тайные темные чувства. И это работает. Дискомфорт, который я испытывал вначале, прошел, сменившись удовольствием от книги на моих коленях.
Доктор Хошигаки, кажется, вычислил мою слабость. Я даже не могу припомнить, когда последний раз читал что-то для развлечения, или делал что-то для развлечения. Я не имею времени, работая на двух работах. Какаши итак заботится о Саске столько, что, я думаю, Саске он нравится больше. Как я могу просить его о чем-то еще для себя? Я не могу, и знаю это. Мы - приговор его доброму характеру. Капризный пятнадцатилетний подросток и девятилетний любознательный, постоянно окружающие его. Конечно, для Какаши есть лучшие занятия, чем работа няньки.
Конечно, Какаши нравится Саске. Ему только девять, но Какаши обращается с ним, как с маленьким взрослым. Как с другом. Доктор Хошигаки проворачивает то же самое дерьмо со мной. Я не верю этому. Однажды, когда я уйду из его жизни, он забудет все обо мне и моих проблемах ради других молодых обеспокоенных пациентах, которые на самом деле придут искать помощи. Я - его работа, а не его друг, даже если он дает мне книги и позволяет хранить молчание.
Это заставляет меня задаваться вопросом, это офис психиатра – или публичная библиотека.
Добрый доктор напевает что-то шепотом, поскольку работает над еще одним кроссвордом. Ему, должно быть, это действительно нравится. Он разгадывает один каждый день, или только по четвергам в семь, пока ждет, когда мое отношение к нему потеплеет? Трудно сказать. Ни то, чтобы я много о нем знал. У него внешность рок-звезды, и, я уверен, в его голове находится радио, проигрывающее классику постоянно, с момента его подъема до того, как он засыпает. Он умнее, чем я представлял себе. А я не из тех, кто игнорирует факты. Кроме того, я в замешательстве. Мне не нужно узнавать что-то еще об этом человеке. Это точно не то, в чем я нуждаюсь. Но, в соответствии с моей натурой, я не могу побороть любопытство, которое чувствую. Я прямо как Саске в своем любопытстве. Ребенком я хотел знать все. Я спрашивал обо всем в стремлении к знаниям. Простые детские вопросы. Как луна узнает, когда всходить? Мама, откуда появляются дети? Затем я начал задавать неправильные вопросы. Что случилось с твоим глазом, мама? Почему папа все еще не дома? Почему он спит, если сейчас только пять часов? Она пыталась уберечь меня, но я не знал, что так будет лучше. Глупый, глупый Итачи, совал свой нос, куда не следует.
- Что ты делаешь, папа?
- Иди сюда, дай мне показать тебе.
Я научился не задавать вопросов. Вопросы только добавляют проблем, а мне больше не нужны проблемы в моей жизни. Один вопрос убил меня. Изменил меня. Сделал меня параноиком, осторожным, подозрительным, чувствующим себя некомфортно среди людей. Преждевременно постаревшим.
И все-таки, у меня есть вопросы, больше, чем за долгое время. Я думал, что научился подавлять свое любопытство, но, полагаю, кошка все еще не сдохла. Четыре года ночей, полных ужаса, должны были добиться цели, но вот я здесь со всеми этими вопросами, распирающими меня изнутри. Я почти умираю от желания узнать о нем больше, и только и заверяю себя, что придержать язык – это лучшее, что можно сделать. Я не хочу открывать ящик Пандоры снова. Я не могу пройти через это снова, я не могу столкнуться с этим снова в офисе психиатра, где все будет даже ярче, чем в моих воспоминаниях. По этой причине я никогда не спрашиваю о шраме, пересекающем глаз Какаши. По этой причине я сразу же ухожу от него, забрав моего брата. Меньше знаешь - крепче спишь.
Так что я не задаю вопросы, но задаюсь вопросами. В какой группе вы играли? Вы пишете музыку? Такую же великолепную, как вы сами? Вы представляете, как сильно я ненавижу вас за то, что вы заставили меня задаваться вопросами?
Если бы только книга не была так хороша. Если бы меня не заботили ее герои. Я бы мог положить ее на место и вернуться к неуютной тишине и громкому тиканью его часов. Мне комфортно в дискомфорте. Дискомфорт обозначает, что стена, которая меня защищает, не пропустит нежелательное вторжение. Эта книга проскользнула сквозь стену, прямо бойницу. Нет, она была доставлена ко мне через парадные ворота. Коробейник с легкой улыбкой продал ее мне ради моего удовольствия.
- Время закончилось на сегодня, - говорит доктор Хошигаки, когда часы бьют восемь. Я свободен, но разочарован. И я зол, потому что, так или иначе, разочарованию удалось вкрасться и отравить то, что должно быть настоящим экстазом. Убирайся, убирайся. Убирайся, пока еще не слишком поздно.
Я быстро киваю головой, но мои руки с предательской радостью сжимают книгу. Я испытываю странное чувство, вероятно, потому что руки не слушаются команды моего мозга. Почему я взял хорошую книгу с его полки? Удачный выбор - и вот, я увлечен чтением. Стоило взять дерьмовую книгу с дерьмовыми описаниями и дерьмовыми клише о моралях. Но мне так давно не удавалось спокойно почитать книгу без необходимости отвлекаться на что-то еще.
.
- Можешь взять ее домой, если хочешь, - любезно предлагает он. Такой добрый самаритянин. - Если пообещаешь не потерять ее.
Я не потеряю книгу. Я никогда не терял ничего материального в своей жизни. Даже ребенком я досконально знал расположение всех своих игрушек. Я знал, где что находилось, потому что не люблю, когда вещи управляют мной. Я был педантичным ребенком. Я не теряю вещи и по сей день. Я стал еще более педантичным подростком.
Я молча бросаю книгу на его стол. Бумаги вокруг нее трепещут вслед. Я не говорю "спасибо за предложение" или "это мило, но нет". Это уже слишком для меня. Он слишком многого просит от меня, и это шаг в правильном направлении. Посмотрев в его глаза, я могу сказать, что он оплакивает мой несостоявшийся прогресс. Ведь дела только что шли так хорошо.
Я никогда ничего не возьму у него снова.
*^*^*
Саске смотрит на кучу мокрой одежды на полу в моей ванной, как на личное оскорбление. Я не видел такого педантичного ребенка с тех пор, как мне самому было девять, и я еще не освоил высокое искусство принятия. Когда я вырос, я быстро обнаружил, что отторжение не помогает забывать. Принятие, поминовение, раскаяние. Это моя мантра. Моя Святая Мария. Мой способ выказать почтение вещам, о которых я не могу забыть.
Он - персонаж с открытки Холлмарка. На нем только полотенце, которое почти поглотило его крошечную фигурку. Утопленный котенок. Мне хочется смеяться над его видом, но он уже раздражается. Так что лучше этого не делать. Это почти заставляет меня захотеть иметь детей. Почти. Бог знает, я бы все испортил. Но все же, сейчас я могу притвориться в течение минуты. Безо всякого вреда.
Я наклоняюсь и вытираю полотенцем его насквозь мокрые волосы. Они черные, как полночь, в противовес его бледной коже. Его необычно темные глаза впиваются в меня взглядом, чтобы понять ситуацию. Он такой симпатичный, когда злится. Забавно, что он думает, что может что-то мне сделать. Он вообще не может заставить меня почувствовать себя плохо. Через десять лет он оглянется на это со смехом. Я всегда смотрю в будущее. Это единственный путь оправдать прошлое, оставляя настоящее, как ступеньку между ними.
- Ты слишком сильно трешь, - жалуется он.
Довольно неблагодарно с его стороны. Я просто стараюсь быть милым. - Не ожидал, что ты такой нежный, - говорю я, ослабляя нажим. Я иногда забываю, насколько он юн. Он напоминает меня в его возрасте, тоже преждевременно повзрослевшего. Есть некоторые тревожащие параллели в наших жизнях, которые вызывают дежавю, и я все еще могу видеть кровь в комнате. Трудно забыть что-то, что впитывалось в мою кожу часами. Вся та красная, красная кровь.
Я сдерживаю дрожь. Чертовы вентиляторы, создающие все эти поперечные бризы. От них покалывает кожу.
- Ты в порядке? - спрашивает Саске с невинным беспокойством ребенка, который ничего не знает. Я не думаю, что моя дрожь была настолько заметна, скорее, осязаема. Вероятно, он почувствовал ее через мои руки.
- Холодно, - отвечаю я. Мой голос безэмоционален. Еще одна вещь, в которой я совершенен - это искусство обмана. Я вру красиво, как Моне, закрашиваю шедевр каждым вероломным словом. Тысяча небольших шедевров с моим именем в Метраполитен.
Он кивает в согласии и расслабляется в своем полотенце. - Я должен положить твои вещи в сушилку, - говорю я ему, несколько последних раз проводя полотенцем по его волосам. - Ты слишком мал для моих штанов, но можешь надеть мою футболку, пока твоя одежда не высохнет. - В моей спальне я переодеваюсь почти мгновенно, прежде чем иду помогать Саске в ванной, только мои волосы остаются мокрыми.
- Хорошо. Он кутается в полотенце, чтобы защитить себя от вентиляторов, когда проходит в мою спальню. Уходя, я замечаю в полотенце дыру. Позже я его выброшу.
Я прилагаю все усилия, чтобы выжать как можно больше воды из его одежды, прежде чем засуну ее в сушилку. Я получил сушилку пару недель назад от друга друга Генмы. Прощайте, прачечные самообслуживания, где матери с детьми награждали меня неодобрительными взглядами, когда замечали книги Ича-Ича. Те же самые взгляды они посылают бомжам на тротуарах, мысленно ругая их за то, что те посмели так низко пасть на глазах их детей. А детям просто любопытно. Они еще не понимают уродливые вещи этого мира.
Возвращаюсь наверх, Саске утопает в одной из моих простых черных хлопчатобумажных футболок. Похоже, что он одел безразмерное платье. Его волосы налипли на лоб и выглядят, как чернильные струйки на фарфоре. Он все еще не кажется счастливым.
- Голоден, птенчик? - спрашиваю я, прежде чем он воспользуется шансом сказать что-то язвительное. Я не нуждаюсь в лекции от девятилетнего.
Его брови морщатся, когда он решает, стоит ли его гнев от ношения хлопчатобумажного вечернего платья урчащего живота. Побеждает голод, Саске кивает, спрыгивает с кушетки и следует за мной на кухню. Пока Саске крутится на стуле, я открываю ящик и начинаю копаться в моих скудных запасах. Мне нужно сделать закупки в ближайшее время. Все, что у меня есть - это суп и хлебные крошки. И я знаю точно, что Саске не любит брокколи, так что суп отпадает.
В холодильнике дело обстоит лучше. Есть большой кусок сыра чеддер, немного пепперони на нижней полке и рогалики. Я так давно перестал готовить из этих ингредиентов, что годы исчисляются двойными цифрами. Это слишком напоминает мне об отце. Но так как я не думаю, что Саске понравятся вчерашние остатки маринованных овощей, рогалики-пицца - мой единственный выбор.
Термин рогалики-пицца не подходит сейчас. Нет соуса, созданного моим отцом, и чеддер - не моцарелла, но что-то еще кажется неверным. Мне было шесть лет, когда он впервые приготовил их для меня. Тогда я был классическим разборчивым едоком, склонным бросать еду недоеденной. Но рогалики-пицца были идеальны для моего упрямого неискушенного вкуса. Отец всегда ел один со мной за столом, и жир капал с его подбородка.
У меня очень немного теплых воспоминаний об ушедшем отце. Я задался целью выбросить все, что напоминало бы о нем после его смерти: часы, рубашки, книги, картины, инструменты - все, что могло оставить о нем хорошую память; я думал, что будет лучше забыть отца, я скучал по тому отцу, каким он был, прежде чем стал настолько потерянным в себе. Я выбросил все его вещи, какие только возможно и оставил его в покое в могиле. Но рогалики-пицца всегда будут напоминать то время, когда он мне нравился, когда мама еще была рядом, и он не был полупьян-полубезумен. Это странно: я избавился от всего его имущества, чтобы помнить лишь плохие дни, и только память не умирает. И эта память заставляет меня скучать по нему порой.
Пять минут спустя я выкладываю два еще пузырящихся рогалика-пиццы на стол. Саске смотрит на них с внимательным интересом. Он не ожидал, что еда будет готова так быстро. Шахматная партия только наполовину закончена. - Что это?
- Рогалик, сыр, пепперони. - По некоторым причинам я не могу заставить себя произнести название. - У тебя есть какие-нибудь возражения?
Он встряхивает головой, вдыхая смешанный аромат хлеба, мяса и сыра. Для меня рогалики-пицца пахнут ленью. Пять минут - и они готовы, еще десять - и с ними покончено. Вы должны приготовить их не раз, чтобы оценить. Они станут особенными.
Дегустация прошла с благодарным кивком. Саске - не разборчивый едок, для чего-то нового у него имеется только два потенциальных ответа. Нравится - или не нравится. В отличие от Саске рогалики-пицца мне не в новинку, и я знаю, что они обладают приятным вкусом. Но мне не нравится их есть. Я ненавижу их есть, я знаю, что, скорее всего, буду чувствовать тошноту после них несколько часов, и я ем их, потому что усовершенствовал искусство лжи настолько, что ее нейроновый путь врезан в мою нервную систему, превосходит рефлексы и стал инстинктом.
Он поглощает еду. Я ем медленно, как всегда, но не потому, что смакую вкус. Это потому, что я борюсь с собой, чтобы не вытолкнуть это из моего горла, очищая тело и память. О чем я, черт подери, думал? Я же мог просто заказать китайскую еду. Должно быть, это проклятие художника - постоянно загонять себя в уныние.
| Рубрики: | Naruto Мои переводы |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |












