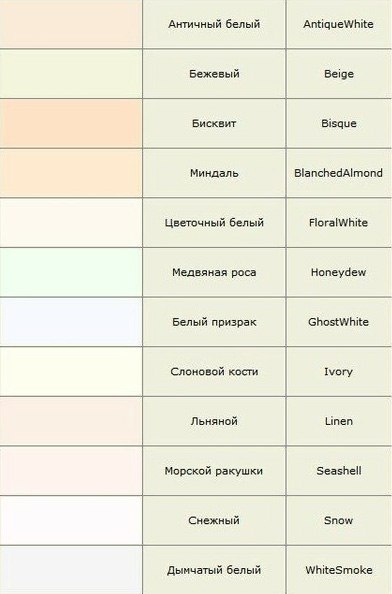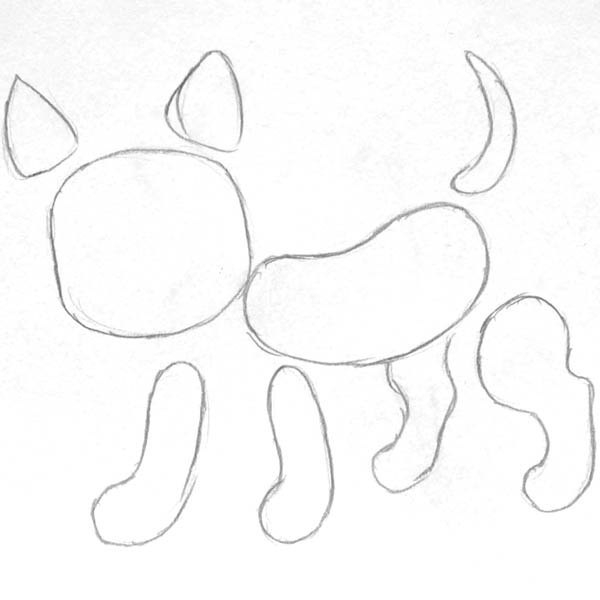-Метки
-Рубрики
- РУКОДЕЛИЕ (418)
- православие (288)
- это нужно знать! (174)
- полезное (141)
- рецепты (113)
- О ЖИЗНИ (103)
- музыка (94)
- интересное (84)
- стихи (75)
- Просьбы о помощи (61)
- История (55)
- ПОДВИЖНИКИ (47)
- ИКОНЫ (44)
- кино (38)
- Хронограф "Веры" (34)
- Рассказы (32)
- О ЧУДЕСАХ (30)
- ЮМОР (27)
- КРАСОТА (25)
- Романовы (25)
- о смерти (25)
- ПРИТЧИ (21)
- СКАЗКИ (17)
- О КОНЦЕ СВЕТА (14)
- МОЛИТВЫ (9)
- Нина Павлова (6)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Печать дракона |
Подобная история могла случиться и в наше время. Она о том, как главный герой пал духом и сдался в плен завоевателю. Страх сковывает невидимыми цепями и не каждому удается с ним справиться...
Прочитать или скачать книгу бесплатно можно здесь:
https://www.litres.ru/elena-valerevna-luhmanova/pe...668dbe7eec7f2d82b89dd0ab351e6b

Серия сообщений "о смерти":
Часть 1 - ДОРОГА НА КЛАДБИЩЕ
Часть 2 - ЖИЗНЬ - ЭТО МИГ...
...
Часть 23 - СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Часть 24 - НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОГО ГРАДА
Часть 25 - Печать дракона
Серия сообщений "Рассказы":
Часть 1 - О ВОЙНЕ
Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!
...
Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)
Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Часть 32 - Печать дракона
Серия сообщений "О ЧУДЕСАХ":
Часть 1 - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
Часть 2 - Три христианские святыни содержат следы одной группы крови
...
Часть 28 - СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа
Часть 29 - ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ!
Часть 30 - Печать дракона
Серия сообщений "СКАЗКИ":
Часть 1 - СКАЗКИ Н. АБРАМЦЕВОЙ
Часть 2 - ВЕДЬМОЧКА
...
Часть 15 - Сказка. Лунный лучик. Прочитать всем и оставить Мише, двенадцатилетнему мальчику комментарии
Часть 16 - ПРОСТО ПОВЕРИТЬ В СКАЗКУ...
Часть 17 - Печать дракона
Метки: сказки волшебство истории драконы приключение |
КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ |
Карина очень любила кофе и могла выпить чашек семь за день, на раз-два. Но только если мама была чем-то занята во дворе или уходила за покупками, тогда появлялась возможность пробраться шустрой мышкой на кухню и заварить пьянящего и возбуждающего напитка. Родные ругали за такое пристрастие, что не бережет свое здоровье. Случись что с ее сердцем, не прилетит никакой волшебник в голубом вертолете, чтобы подарить новое. Карина все прекрасно понимала, но не могла ничего с собой поделать. «Я и так обделена судьбой инвалидностью, будет несправедливо, если перестану замечать и другие радости жизни» - часто думала она.
В голове юной девушки обитал, наверное, дикий улей, со всевозможными мыслями и мечтами. По цвету волос она была, можно сказать, шатенкой, лишь местами проскальзывали светлые прядки, намекая на свое родство с блондинками. Как и многие современные принцессы, Карина любила экспериментировать над собой, и красила волосы во всевозможные цвета. Была даже как-то седовласой. Многим знакомым подобное преображение пришлось по душе, а самой носительнице седины польстило, что наконец-то она выглядит старше своих лет. Такие экзекуции над собой не всегда проходили без последствий. Несколько раз длинные волосы (почти до пояса), приходилось коротко стричь, чтобы удалить поврежденные локоны и дать возможность отрасти новым. Как говорится: красота требует жертв!
Врожденное заболевание у Карины, давало иногда о себе знать слабостью и неуверенностью при ходьбе, поэтому для прогулок использовалась инвалидная коляска, чтобы сэкономить силы. Небольшой дефект во внешности ничуть не делал ее менее очаровательной. Она была мила и обаятельна. Вот только у девушки существовали свои критерии женской красоты, ей обязательно хотелось стать настоящей роковой женщиной-вамп: яркой, сводящей с ума мужчин страстью и сексуальностью. Чужие советы пролетали как шальные пули мимо, наставлений она не любила и не принимала ни от кого. Даже обычный разговор о вере в Бога, вызывал раздражение и заканчивался, не начавшись. Был только один правильный взгляд на жизнь у Карины: ее собственное представление и видение мира.
Родные братья и сестры отсутствовали: родители боялись произвести на свет еще одного больного ребенка. Семейство не бедствовало, глава семьи работал дальнобойщиком, поэтому деньги водились. Жили они в своем доме, на окраине провинциального городка средней полосы России, с населением около двадцати тысяч человек. Держали небольшое хозяйство, в которое входили: куры, кролики, одна коза, собака и черепашка. В детстве Карина обожала кошек, но проявившаяся аллергия заставила переключить свою любовь на лающих питомцев и панцереобразных.
Первая любовь накрыла с головой, погрузив ее в бесконечный океан впечатлений, ей было около двадцати лет...
ОКОНЧАНИЕ ЗДЕСЬ:
https://proza.ru/2021/10/25/1293

Серия сообщений "Рассказы":
Часть 1 - О ВОЙНЕ
Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!
...
Часть 29 - ГЛАВНЫЙ ПОСТУПОК
Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)
Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Часть 32 - Печать дракона
Серия сообщений "КРАСОТА":
Часть 1 - СВЯТАЯ РУСЬ. КУПОЛА РОССИИ
Часть 2 - Самые красивые актрисы отечественного кинематографа
...
Часть 23 - Ольга,Татьяна,Машенька,Настя...
Часть 24 - С Масленице!
Часть 25 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Метки: рассказ проза ожизни девушка жизненно инвалид счастье любовь |
С Масленице! |

Серия сообщений "КРАСОТА":
Часть 1 - СВЯТАЯ РУСЬ. КУПОЛА РОССИИ
Часть 2 - Самые красивые актрисы отечественного кинематографа
...
Часть 22 - Лето - цветут "Анютины глазки"
Часть 23 - Ольга,Татьяна,Машенька,Настя...
Часть 24 - С Масленице!
Часть 25 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Метки: масленица весна блины радость надежда праздник мед икра |
ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ! |
Подарите родным, пусть день будет их ярок!
Торопитесь любить – времена скоротечны;
Оставляйте «цветы» в сердце близких навечно.
Лухманова Елена

Серия сообщений "О ЧУДЕСАХ":
Часть 1 - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
Часть 2 - Три христианские святыни содержат следы одной группы крови
...
Часть 27 - ТАЙНА СТАРОГО САДА (Полтавское чудо)
Часть 28 - СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа
Часть 29 - ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ!
Часть 30 - Печать дракона
Метки: стихи песни автор заказ рождение юбилей даты праздник важно любовь внимание |
ЧУДО |
Можно я сегодня вашим буду чудом?
Голодно и зябко в мире без друзей.
Мне не нужно замков, дорогой посуды:
Полюбить смогу вас с каждым днем сильней.
Чтобы не случилось, мимо не пройдите –
Суету стряхните, как не нужный хлам.
Если зацепило, взгляд не отводите,
Распахните душу – счастье будет вам.
У меня надежды – океан бескрайний!
Нежностью, заботой, я украшу быт.
Прогоню за двери скуку и печали;
Верность в наше время тоже дефицит.
За любовь прощаю, даже если рана.
Не понять мне только трусости игру.
Разве люди звери? Гонят за изъяны?
Не бросайте друга, я в тоске умру…
В карнавале жизни счастье не монета.
Столько разговоров: чудеса кругом!
Вроде верят в чудо, ночью ждут рассвета,
А подходишь ближе – сердце под замком.
Можно я сегодня вашим буду чудом?
Голодно и зябко в мире без друзей.
Мне не нужно замков, дорогой посуды:
Полюбить смогу вас с каждым днем сильней.
© Copyright: Елена Лухманова, 2020
https://stihi.ru/2020/12/15/6175

Метки: чудо друг праздник любовь верность милосердие стихи автор |
КАКАЯ РАЗНИЦА... |
Какая разница – какие оправдания,
У безразличия ведь тысячи имен.
Подобны золоту не пылкие признания:
О многом скажет труд души, когда влюблен.
Так получилось, не везет и не намеренно;
Вот если б щука в руки бросилась в пруду.
И жизнь пускают под откос, живут Емелями –
На печке лежа трудно гнать за дверь беду.
Какая разница чины и положение?
В палатах царских есть предательство и боль.
Любовь не выиграть в рулетку за мгновение;
Сбежав от правды станет голым и король.
Так получилось – получилось же нечаянно!
Безвинным казнь не назначают без суда.
Бывает ложным и Иудино раскаянье,
Когда желанья нет припасть к ногам Христа.
Любил и он казалось, искренне, Спасителя –
Готов был жизнь отдать, чтоб рай был на земле.
Послушал гордость, не сказав Ему: «Прости меня…»
Предпочитая смерть позорную в петле…
Какая разница – какие оправдания,
У безразличия имен не счесть давно.
Режим включается в умах по умолчанию:
На солнце в пропасть превращается пятно.
© Copyright: Елена Лухманова, 2020
https://stihi.ru/2020/12/10/6652

Метки: сти автор романс песня любовь |
ТАЙНА ОСЕНИ |
В каждой осени моя сокрыта тайна –
Синей птицей в листопаде золотом.
Не похожа на другие, уникальна:
Серой птахой станет во дворе чужом.
У нее глаза ванили с кардамоном,
Луч улыбки гонит с неба туч полки.
Выжить сложно по физическим законам,
Моя тайна выживает по любви.
Ее мучили ветра и непогода
Загоняла в щель продрогшего дупла;
Задыхалась от нехватки кислорода –
Подарили боль и ночь антитела.
Для кого-то оживает все весною
И душа парит, испив любви нектар.
Листопадами мечты свои укрою;
Не продам, не променяю сердца дар.
В карнавале ожиданий и надежды
Осень ждет гостей, и пир уже готов.
Я кленовые сошью себе одежды,
Прикреплю любовь на складки рукавов.
В каждой осени моя сокрыта тайна –
Синей птицей в листопаде золотом.
Не похожа на другие, уникальна:
Серой птахой станет во дворе чужом.
© Copyright: Елена Лухманова, 2020
https://stihi.ru/2020/11/01/6398

Метки: осень тайна автор настроение любовь загадка вечное |
ОСЕННИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ |
* * *
Научиться бы нам не терять тепло,
Не смотря на ушедшее лето и непогоду.
Если мир в душе, то не важно число.
А любовь непременно поможет прогнать невзгоды.
* * *
Время горячего чая с молитвой,
Свитер с ворсинкой, да шарф с тишиной.
Во всеоружии, как перед битвой:
С грустью сражаясь осенней, она – как грипп затяжной.
* * *
Рыжею лисицей осень манит тайной;
Россыпь акварели дарит каждый миг.
Я в нее влюбляюсь, будто ложкой чайной
Пью нектар надежды, алый видя бриг...
* * *
Собраны в осени, как в светофоре,
Разные краски: там грусть и мечта.
Пишет мелодию часто в миноре;
Целая жизнь на страницах листа.
* * *
Скоро ляжет на опушки снежный полог –
Берегите, не бросайте тех, кто дорог.
Быстротечно время, с осенью прощаясь,
Я тому, что было счастьем – улыбаюсь!..
© Copyright: Елена Лухманова, 2020
https://stihi.ru/2020/11/02/4708

Метки: стихи автор осень любовь листопад настроение |
Всем доброго времени суток! |
Несколько лет не могла попасть в свой дневник, после смены компьютера это получилось, но не знаю надолго ли...

|
|
Понравилось: 1 пользователю
ПРСЬБЫ О ПОМОЩИ |
152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 142, кв. 9. Меренковой Наталье Владимировне. Тел. 89092568421.
* * *
Дорогая редакция! При нашем храме Вознесения Христова в с. Иб с весны стараемся организовать социальную службу по раздаче гуманитарной помощи в виде одежды-обуви для нуждающихся. Есть договорённость с епархиальным управлением, чтобы там для Иба готовили вещи. Раза три нам удавалось привезти их. Но потом возникли трудности; все, кто помогал нам с доставкой вещей, стали отказываться или просить денег. А где их взять? Батюшка отец Георгий Модянов посоветовал написать в вашу газету, чтобы люди присылали вещи сами, но не на храм, а на мой домашний адрес. И если кто-то едет в Иб, то по возможности забирали бы вещи из епархиального управления.
Нам нужны вещи: одежды, обувь на детей от рождения и старше; мужская, женская, подростковая одежда и обувь; верхняя одежда. Нужны также одежда и обувь на полных женщин (с 52 по 76 размер), мужская обувь д/с и зимняя 45-48 размеров. Заранее благодарим вас!
Мой адрес: 168226, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Захарово, м. Новый Посёлок, д. 31. Томовой Валентине Владимировне. Тел. 89068828351.
* * *
Здравствуйте, дорогие люди доброй воли, все, кто живёт с именем Господа Бога в сердце!
Прежде всего низкий поклон всем, кто не остался равнодушным к нашей трагедии. В рубрику «Просьбы о помощи» осенью обращалась моя жена, Варганова Наталья Ивановна, в связи с тем, что за последнее время у нас произошло два пожара. Если после первого что-то удалось спасти, то второй унёс всё. Как бы ни было нам тяжело, но с Божьей помощью удалось удержаться, выстоять, найти в себе силы нести и дальше этот тяжкий крест. Да и сыновья внесли свою лепту в эту необходимость не падать духом.
А вот с женой произошло непоправимое горе. Второй пожар она не смогла пережить. И вот не стало нашей Наташеньки. Остались мы одни: сыновья, 16 и 8 лет, Наташина мама Клавдия Григорьевна, 80 лет, и я. Свой дом ещё не достроили. А почему решили обратиться вновь – дело в том, что после обращения Наташи в вашу газету за помощью пришла посылка для детей и перевод. Но получить мы их не смогли. Ведь мы с Натальей, хоть и прожили десять лет, брак не зарегистрировали – то одно мешало, то другое. И вот решил обратиться в редакцию вновь: Наташеньку не вернуть, а сыновья растут. Им нужен свой дом, а он ещё не достроен. Ребятам просто необходима крыша над головой, без меня им никто не поможет. Если есть желающие протянуть руку помощи мне и моей семье, мы будем очень рады. С уважением к вам – Дмитрий. Адрес наш тот же:
646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Некрасова, д. 80. Полич Дмитрию Яковлевичу или Варгановой Клавдии Григорьевне.
* * *
Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Вера»! Воспитываю одна троих детей: старшей дочери 14 лет, а мальчикам 10 лет и 2,5 года. Тяжело, конечно, но ни на какое золото мира не променяю своих детей. Есть у нас сад, огород, живность. Дети помогают. Но ведь детство должно быть детством! Детки растут – и потребности тоже. Старшие ездят учиться в городскую школу (нашу закрыли три года назад). Младшего пора отдавать в детский сад. Школа требует много материальных вложений. Я работаю в сельском хозяйстве, в животноводстве. Много ли я могу дать детям... А так хочется их порадовать чем-то. Не судите строго. Будем благодарны и за финансовую помощь, с благодарностью примем одежду, обувь, постельное бельё, продукты и игрушки. С уважением – Елена.
607407, Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Садовая, д. 2, кв. 1. Спиридоновой Елене Александровне. Тел. 89082343195.
* * *
Здравствуйте, дорогие сотрудники моей любимой газеты «Вера». Выписываю её уже около 18 лет, читаю от корки до корки. Старые подшивки отдавала в храм в г. Чердыни. Обращаюсь к читателям за помощью, так как нахожусь в тяжёлой жизненной ситуации. Получилось так, что мы с дочкой Натальей, у которой признали грыжу позвоночника, существуем на одну мою пенсию. Лечили её дорогими препаратами, назначенными врачами, но облегчения не наступало. Временами чувствует ужасные боли. Дали направление в Пермь к нейрохирургу, но не на что ехать. С пенсии деньги нужны ещё на коммунальные услуги да на дрова. Брала кредит на лечение дочки, тоже надо платить. Стыдно писать, но надежда только на вас, люди добрые! Пожалуйста, помогите нам, не оставьте в беде! Буду бесконечно благодарна и буду молиться о вас Богу! Может, кто-то вспомнит меня из одноклассников – Гуляеву Валентину, 1968 г. выпуска. Родилась и училась я в с. Усть-Нем.
Заранее благодарю вас! Р. Б. Валентина.
618604, Пермский край, Чердынский район, пос. Кушмангорт, ул. Центральная, д. 6, кв. 1. Мелкомуковой Валентине Ивановне. Дом. тел. (8-342-40) 2-46-11.
* * *
Здравствуйте! Вновь прошу помочь мне. Очень нужен противопролежневый матрас (стоит он около 2 тыс. руб.), а денег нет, все уходят на лекарства (недавно сделали операцию, но швы разьехались). И дров не хватает, купить не на что, жене Вере приходится ходить за дровами в лес, она совсем выбилась из сил. Умоляю, помогите! Нисковский Сергей.
612020, Кировская область, Шабалинский район, пос. Ленинское, ул. Суворова, д. 36. Нисковскому Сергею Львовичу или Пестовой Вере Павловне. Контактный телефон: 89539495478.
http://www.rusvera.mrezha.ru/700/12.htm
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 50 пользователям
«НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО» |
Он начался с поразительного факта. Учебный комитет Патриархии добился увольнения преподавателя-содомита из Казанской семинарии. Это не скрывалось, но вместо того чтобы поддержать комитет, его... поддержали так, что лучше бы этого не делали. Протодиакон Андрей Кураев начал шумную кампанию по борьбе с содомией, первым делом опубликовав письмо анонима из Петербурга. Тот обвинил в содомии учителя Патриарха Кирилла – митрополита Никодима. Уж в чём только его публично не обвиняли, но в этом – первый раз на моей памяти. Доказательств, разумеется, никаких, да и потребовать не у кого, ведь отец Андрей предложил нам анонимку.
Потом опубликовал ворох новых обвинений – безымянных и подписанных кем-то, но опять же никем не проверенных. А вдруг клевета? Ну так что же, лес рубят – щепки летят. Когда я в блоге Кураева выразил недоумение по поводу случившегося, он довольно спокойно ответил, что вот пусть Патриархия и проверяет, что там правда, что нет. Имелось в виду, что давно пора, а его – отца Андрея – роль скромная, принудить к этому.
С подобными ответами от разных людей приходится сталкиваться всё чаще, и я не понимаю, что происходит. Как можно публично обвинить кого-то в страшном грехе или преступлении, а потом отмахнуться от вопросов с помощью фраз «пусть проверяют», «пусть подают в суд». Это становится обыденностью, в том числе и среди православных. Меня особенно это пугает ещё и потому, что уже приходилось сталкиваться с обвинениями заведомо ложными в адрес очень порядочных людей. Причём выдвигали их тоже люди вполне приличные.
Вот одна ситуация. Обвинён был в содомии игумен N – священник с безупречной репутацией. Заподозрил его один из моих знакомых, человек во многих отношениях столь же замечательный. Начинаю расспрашивать: оказывается, не то что серьёзных доказательств, там вообще ничего нет, никаких поводов для подозрений – морок; бес сплёл картинку буквально из ничего.
Человек поверил, потому что был обижен на отца игумена. Часто так бывает? Да, сплошь и рядом. Например, пустил иеромонах, настоятель прихода, бесприютного человека у себя пожить – и пошёл гулять слух.
И так далее, и тому подобное. Всё это и без шумных кампаний ужасно, а уж когда решат разного рода энтузиасты победить очередное зло, тут хоть святых выноси.
О, эти борцы! Многие не знают, что одной из основных причин Февральской революции стала борьба со шпионами. Начались погромы в Москве, грабили промышленников, купцов с иностранными фамилиями. «Не корысти ради», а изведения супостатов для. Из прифронтовой зоны выселили десятки тысяч евреев, которые, рассеявшись по стране, разорённые, обиженные, стали горючим материалом для будущей революции. Потом вспомнили, что Царица у нас из немцев, добавляя вполголоса, что Царь всецело находится под её влиянием. И погубили Россию основательнее, чем все шпионы на свете, вместе взятые.
Вот какая бывает поддержка правильного вроде начинания, которое не только начинание погубит на корню, но и разрушит всё, что можно разрушить. Когда требуют от Патриархии решительности в борьбе с грехом, вспоминается, куда эта решительность привела нашу страну в 30-е годы XX века. У нас многие верят, что в репрессиях виноваты лишь Сталин и его окружение, решившие извести побольше народу. Это не совсем так. Просто решили как раз проявить решительность, извести всякое зло в СССР. НКВД получило сигнал: усилить борьбу со злом и начало реагировать на миллионы ложных и неложных доносов, не особо разбираясь, – ведь когда решительность главное, не до того. И доносчиками были отнюдь не только негодяи. Скажем, многие учёные, инженеры уничтожили друг друга в борьбе за «лучшее против хорошего».
Так протекают все без исключения кампании по решительному искоренению зла. Вспомним притчу о добром семени и плевелах, где повествуется как раз о подобном. Предложили рабы домовладыке повыдергать сорные травы: «хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы».
Вот о чём забыл протодиакон Андрей Кураев. Он верно сделал, что поддержал Учебный комитет – хоть и немногочисленны содомиты в Церкви, но много зла от них. Что же погубило его инициативу? Мне кажется, недостаток любви. Не к извращенцам – им действительно не место в числе служителей Церкви, а к тем невинным, которые могут пасть жертвой кампанейщины, клеветы. Об этом напомнил ему его друг – архимандрит Тихон (Шевкунов). Он вспомнил историю из Патерика:
«Ученик идёт по полю и вдруг видит своего авву, который вместе с женщиной занимается непотребством. Он подошёл, ударил его ногой, сказал: “Что ты делаешь?” И вдруг увидел, что это два снопа, которые лежат рядом». «Да, мы все, пожившие какое-то время в Церкви, – продолжает о. Тихон, – знаем, что существуют беды в Церкви, в том числе и такая беда, о которой говорит отец Андрей. И это боль всей Церкви, потому что мы все – единое тело. Все прекрасно понимают, что это совершенно нетерпимо. Это необходимо преодолевать. Но здесь есть ещё одна сторона – лжесвидетельство. Не лжесвидетельствуй – это заповедь не чья-то, а Божия! И не надо забывать об этой заповеди...»
Вместо борьбы с содомией, которую обозначил Учебный комитет, мы вынуждены сегодня сдерживать натиск ненавистников Церкви. Тысячи людей в ужасе замерли на её пороге, страшась слухов и сплетен, зато с удовольствием обсуждают скандал безбожники и маловеры, пытаясь изобразить что-то вроде праведного гнева. Правда, получается у них лениво, неубедительно. Им довольно того, что случившееся подтверждает, как им кажется, правильность их отрицания христианства.
Скажу в заключение, что в последнее время часто обсуждается информационная война, которая ведётся против Церкви. Проблема, мне кажется, много глубже. В обмирщении, теплохладности, поразивших даже церковных людей. Чего уж требовать от других. Как, не следуя за Христом, не исполняя Его заповеди, сохранить самоуважение – вот главный вопрос, который мучит сегодня потребительское общество. Скандалы – одна из попыток ответа. Сядет атеист ли, воцерковлённый ли человек перед компьютером и повоюет за «правду» – это даже интереснее, чем компьютерная игра, и вроде что-то хорошее сделал. Несанкционированное добро. Как быстро оно прибывает в нашей жизни.
Владимир ГРИГОРЯН
http://www.rusvera.mrezha.ru/700/2.htm
Серия сообщений "Хронограф "Веры"":
Часть 1 - ЗАЧЕМ?..
Часть 2 - ПЕКЛО
...
Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!
Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН
Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Ажурный комплект |
Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Для тех, кто любит вязать, а так же для тех у кого есть детки этот пост должен понравится.
Нам понадобится:
- Крючок № 3,5;
- акриловая пряжа белая 600 гр;
- сиреневая 80 гр.
1.
2.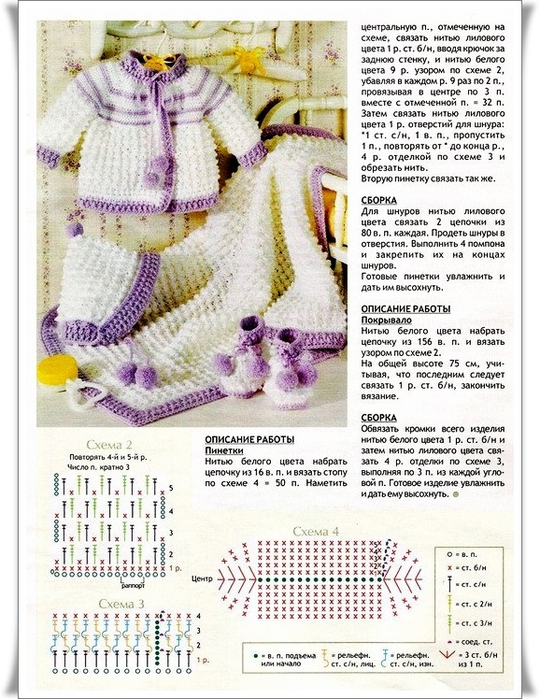
![]() Sonya_kot
Sonya_kot
|
Вязаный Рождественский ангел |
Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Я думаю, что практически каждый уже начал готовится к Новогодним праздникам. Все мы хотим повеселиться, отвлечься и разумеется отпраздновать в хорошей компании близких людей.
Мы думаем о том что одеть, что приготовить, какие блюда понравятся гостям, а так же о том, как украсить квартиру к празднику. Ведь только одной елкой не хочется ограничиваться.
На сегодняшний день в интернете можно найти массу идей, так что не ленитесь. Для тех кто вяжет, я предлагаю простой мастер-класс по созданию рождественского ангела своими руками:
1.
2.
|
ОНИ ВЫБРАЛИ РОССИЮ |
В последние годы всё больше иностранцев из благополучной Европы селятся в России. Почему?
Олег Верещагин
С Олегом Верещагиным, уроженцем и жителем маленького городка Кирсанов на Тамбовщине, мы познакомились по электронной переписке. Есть такой сайт «Самиздат», где самодеятельные авторы выкладывают свои художественные произведения, и вот там можно прочитать его романы и рассказы. В основном они посвящены подросткам. Свой интерес к воспитанию детей Олег Николаевич объяснил тем, что вырос в учительской семье: учителями были его мама, родной дядя, дедушка и бабушка. И сам он преподавал в школе историю, увлечённо занимался с детьми, возродил военную игру «Зарница» – намного раньше того, как этим «озаботилось» государство. На таких людях в переломные годы наша страна и держалась. «В середине 90-х мы с мамой два года жили фактически подаянием, но не бросали работы», – как о само собой разумеющемся говорит он. Тринадцать лет Олег Николаевич отдал сельской школе, покуда её не закрыли в результате «оптимизации», затем работал в другой сельской школе – её недавно также закрыли. Оставшись безработным, учитель продолжает своё дело – в художественных произведениях помогает юным читателям осознать себя частью русской истории, осознать ответственность за свою Родину. В свет уже вышли семнадцать его книг.
А в нынешнем году автор подготовил необычную подборку – запись рассказов поселившихся в России иностранцев.
– Почему вдруг вас иностранцы заинтересовали? – спрашиваю Олега Николаевича.
– Их взгляд со стороны на нашу русскую жизнь позволяет многое понять, – ответил он. – В том числе то, что мы имеем и что можем потерять в результате внедрения ювенальной юстиции.
– Вы сами сталкивались с «ювенальщиками»?
– В 2008 году меня попросили помочь посодействовать в нескольких случаях похищения детей, иначе не назовёшь, чиновниками социальных служб. До этого я искренне пребывал в полном неведении об этой беде в России. А тут стал знакомиться – сперва по делу, даже с недоверием, – и начали открываться такие адские глубины и бездны, что я пришёл в ужас. Меня трудно напугать или растрогать, но за короткий срок я получил такую лавину информации, что спрашивал себя: а я не сплю?! это не кошмар? так не бывает! Когда понял, что не сплю и бывает, более того, это есть в моей стране, поклялся себе, что впредь всем чем могу буду помогать людям, у которых социал-фашисты отняли семьи. Получается плохо, могу я мало, но быть спокойным уже просто не выходит... Ювенальная юстиция лишь одно из зол, которые обрушились сейчас на Россию. Но в перспективе именно это – самое опасное зло. Потому что победа «детозащитников» – крах всего, что делает человека Человеком.
– Рассказы иностранцев записаны вами слово в слово или вы по-писательски что-то домыслили?
– Там есть стилистическая обработка, ведь не все они владеют русским языком. Но домысливаний нет. Зачем? Подобные истории вам могут рассказать многие и многие переселенцы. Если вам интересно, то почитайте специализированные издания на английском и русском языках, где приехавшие в Россию делятся своими впечатлениями. На вскидку могу назвать сайт «English in Russia» (englishinrussia.ru). Его создал школьный учитель Алекс Джуд, уже более 10 лет живущий в России. Часто туда пишут британцы, которые нашим детям преподают английский язык. И один из них, Rufus Matthews, замечает:
Майкл Уэр и его семья
«Беседуя с моими коллегами-учителями, я обнаружил несколько разных мотиваций для переезда и жизни в России. Так, они говорили мне, что им нравится здешняя свобода. Кроме того, в России им легче преподавать, потому что дети более адекватные. Родителям проще призвать детей к порядку, не опасаясь обвинений в нарушении закона. Американцы рассказывали мне истории о том, как родители боятся воздействовать на детей – власти могут из-за этого отобрать их. У одного из моих коллег в Америке есть сын, и он очень хотел бы привезти сына сюда учиться. Он прямо-таки не может дождаться того дня, когда заберёт его из Америки и привезёт в Россию. Ещё один его мотив: в России мальчики вырастают мужчинами, а девочки – женщинами, в традиционном смысле этих слов, уже утраченном в Америке».
Вот вам, пожалуйста, прямая речь иностранца, можете и английский оригинал посмотреть. То же самое говорят и в моей подборке историй. Чего же тут домысливать?
– Иностранцев много переезжает в Россию на постоянное место жительства?
– В последние годы их всё больше и больше. Причём часто селятся не в больших городах, а в русской деревне. В «The Siberian Times» и в британской газете «The Daily Mail» был интересный репортаж о Майкле Уэре, который уже 20 лет живёт в глухом сибирском селе Дубинка. Так он утверждает: «При нормальной госполитике в российские деревни могли бы приезжать сотни тысяч иностранцев». И они едут. В одной только Липецкой области, например, пять поселений из бывших граждан Германии, Англии и Швеции.
В приведённых мной историях, по понятным причинам, я изменил имена детей. Но это реальные люди, с которыми довелось общаться, и всё рассказанное – наша жизнь.
Записал Михаил СИЗОВ
ОНИ ВЫБРАЛИ РОССИЮ
Макс, 13 лет, немец
(История про кражу со взломом из соседского погреба. Это не первая кража со взломом на его счету, но первая - в России)
…Пришедший к нам участковый был очень вежлив. Это общее у русских – к иностранцам из Европы они относятся робко-вежливо-насторожённо, очень много нужно времени, чтобы тебя признали «своим». Но вещи, которые он говорил, нас напугали. Оказывается, Макс совершил уголовное преступление – кражу со взломом! И нам повезло, что ему ещё нет 14 лет, иначе мог бы рассматриваться вопрос о сроке реального заключения до пяти лет! То есть от преступления по полной ответственности его отделяли те три дня, которые оставались до его дня рождения!
Мы не верили своим ушам. Оказывается, в России с 14 лет можно по-настоящему сесть в тюрьму! Мы пожалели, что приехали. На наши робкие расспросы – мол, как же так, почему ребёнок должен отвечать с такого возраста – участковый удивился, мы просто не поняли друг друга. Мы привыкли, что в Германии ребёнок находится в сверхприоритетном положении, максимум, что грозило бы Максу за такое на старой родине, – профилактическая беседа. Впрочем, участковый сказал, что всё-таки едва ли суд назначил бы нашему сыну даже после 14 лет настоящий тюремный срок; это очень редко делают с первого раза за преступления, не связанные с покушением на безопасность личности. Ещё нам повезло, что соседи не написали заявления (в России это играет большую роль – без заявления пострадавшей стороны не рассматривают и более серьёзные преступления) и что нам не придётся даже платить штраф. Нас это тоже удивило – сочетание такого жестокого закона и такой странной позиции людей, не желающих им пользоваться. Помявшись перед самым уходом, участковый спросил, склонен ли Макс вообще к асоциальному поведению. Пришлось признать, что склонен, более того – ему не нравится в России, но связано это, конечно, с периодом взросления и должно пройти с возрастом. На что участковый заметил, что мальчишку надо было выдрать после первой же его выходки, и дело с концом, а не ждать, пока он вырастет в вора. И ушёл.
Нас это пожелание из уст стража порядка тоже поразило. Мы, честно говоря, и не думали в тот момент, как близки к исполнению пожеланий офицера.
Сразу после его ухода муж поговорил с Максом и потребовал от него пойти к соседям извиниться и предложить отработать ущерб. Начался грандиозный скандал – Макс наотрез отказывался так поступать. Дальнейшее описывать я не буду – после очередного, очень грубого, выпада сына в наш адрес муж сделал именно так, как советовал участковый. Сейчас я осознаю, что это выглядело и было более смешно, чем сурово, но тогда это поразило меня и потрясло Макса. Когда муж его отпустил – сам потрясённый тем, что сделал, – наш сын убежал в комнату. Видимо, это был катарсис – до него вдруг дошло, что отец намного сильнее физически, что ему некуда и некому пожаловаться на «родительское насилие», что от него требуется возместить ущерб самому, что он находился в шаге от настоящего суда и тюрьмы. В комнате он плакал, не напоказ, а по-настоящему. Мы сидели в гостиной, как две статуи, ощущая себя настоящими преступниками, более того – нарушителями табу. Мы ждали требовательного стука в дверь. В наших головах роились ужасные мысли: о том, что сын перестанет нам доверять, что он совершит самоубийство, что мы нанесли ему тяжкую психическую травму – в общем, множество тех слов и формул, которые мы заучили на психотренингах ещё до рождения Макса.
К ужину Макс не вышел и крикнул, всё ещё со слезами, что будет есть в своей комнате. К моему удивлению и ужасу, муж ответил, что в этом случае Макс ужина не получит, а если он не будет сидеть за столом через минуту, то не получит и завтрака.
Макс вышел через полминуты. Я таким его ещё никогда не видела. Впрочем, мужа я тоже не видела таким – он отправил Макса умываться и приказал, когда тот вернулся, попросить сперва прощенья, а потом разрешения сесть за стол. Я была поражена: Макс делал всё это, хотя и угрюмо, не поднимая на нас глаз. Перед тем как начать есть, муж сказал: «Послушай, сынок. Русские воспитывают своих детей именно так, и я буду тебя воспитывать так. Глупости кончились. Я не хочу, чтобы ты попал за решётку. Думаю, и ты тоже этого не хочешь, ведь ты слышал, что сказал офицер. Но я не хочу ещё и того, чтобы ты вырос бесчувственным бездельником. И вот тут мне плевать на твоё мнение. Завтра ты пойдёшь к соседям с извинениями и будешь работать там – где и как, они скажут. Пока не отработаешь сумму, которой ты их лишил. Ты понял меня?»
Макс несколько секунд молчал. Потом поднял глаза и ответил негромко, но отчётливо: «Да, пап...»
Вы не поверите, но у нас не просто более не было нужды в диких сценах, таких как разыгравшаяся в гостиной после ухода участкового, – нашего сына словно бы подменили. Первое время я даже боялась этой перемены. Мне казалось, что Макс затаил обиду. И только через месяц с лишним я поняла, что ничего подобного нет. И ещё я поняла гораздо более важную вещь: в нашем доме и за наш счёт много лет жил маленький (и уже не очень маленький) деспот и бездельник, который вовсе нам не доверял и не смотрел на нас как на друзей, в чём нас убеждали те, по чьим методикам мы его «воспитывали», – он нас втайне презирал и нами умело пользовался. И виноваты в этом были именно мы – виноваты в том, что вели себя с ним так, как нам внушили «авторитетные специалисты». С другой стороны – был ли в Германии у нас выбор? Нет, не было, честно говорю я себе. Там на страже нашего страха и детского эгоизма Макса стоял нелепый закон. Здесь выбор есть. Мы его сделали, и он оказался верным. Мы счастливы, а главное – на самом деле счастлив Макс. У него появились родители, у меня и мужа – сын, а у нас – семья.
Адольф брейвик, 35 лет, швед
(Отец троих детей)
То, что русские, взрослые, могут ссориться и скандалить, что под горячую руку муж может вздуть жену, а жена отхлестать полотенцем ребёнка – но при этом они все на самом деле любят друг друга и друг без друга им плохо, – в голову человека, переделанного под принятые в наших родных краях стандарты, просто не укладывается. Я не скажу, что я это одобряю, такое поведение многих русских. Я не считаю, что бить жену и физически наказывать детей – это верный путь, и сам я так никогда не делал и не стану делать. Но я просто призываю понять: семья здесь – это не просто слово. Из русских детских домов дети убегают к родителям. Из наших лукаво названных «замещающих семей» – практически никогда. Наши дети до такой степени привыкли, что у них, в сущности, нет родителей, что они спокойно подчиняются всему, что делает с ними любой взрослый человек. Они не способны ни на бунт, ни на побег, ни на сопротивление, даже когда речь идёт об их жизни или здоровье. Они приучены к тому, что являются собственностью не семьи, а всех сразу.
Русские дети – бегут. Бегут нередко в ужасающие бытовые условия. При этом в детских домах России вовсе не так страшно, как мы привыкли представлять. Регулярная и обильная еда, компьютеры, развлечения, уход и присмотр. Тем не менее побеги «домой» очень и очень часты, и встречают полное понимание даже среди тех, кто по долгу службы возвращает детей обратно в детский дом. «А чего вы хотите? – говорят они совершенно не представимые для нашего полицейского или работника опеки слова. – Там же дом». А ведь надо учесть, что в России нет и близко того антисемейного произвола, который царит у нас. Чтобы русского ребёнка отобрали в детский дом, в его родной семье на самом деле должно быть ужасно, поверьте мне.
Нам трудно понять, что, в общем-то, ребёнок, которого нередко бьёт отец, но при этом берёт его с собой на рыбалку и учит владеть инструментами и возиться с машиной или мотоциклом, может быть гораздо счастливей (и он на самом деле гораздо счастливей), чем ребёнок, которого отец и пальцем не тронул, но с которым он видится пятнадцать минут в день за завтраком и ужином. Это прозвучит крамольно для современного западного человека, но это правда, поверьте моему опыту жителя двух парадоксально разных стран. Мы так постарались по чьей-то недоброй указке создать «безопасный мир» для своих детей, что уничтожили в себе и в них всё человеческое. Только в России я действительно понял, с ужасом понял, что все те слова, которыми оперируют на моей старой родине, разрушая семьи, на самом деле являются смесью несусветной глупости, порождённой больным рассудком, и самого отвратительного цинизма, порождённого жаждой поощрений и страхом потерять своё место в органах опеки. Говоря о «защите детей», чиновники в Швеции – и не только в Швеции – разрушают их души. Разрушают бесстыдно и безумно. Там я не мог сказать этого открыто. Здесь – говорю: моя несчастная родина тяжко больна отвлечёнными, умозрительными «правами детей», ради соблюдения которых убиваются счастливые семьи и калечатся живые дети.
«Дом», «отец», «мать» – для русского это вовсе не просто слова-понятия. Это слова-символы, почти сакральные заклинания. Поразительно, что у нас такого – нет. Мы не ощущаем связи с местом, в котором живём, даже очень комфортабельным местом. Мы не ощущаем связи с нашими детьми, им не нужна связь с нами. И, по-моему, всё это было отобрано у нас специально. Вот одна из причин, по которой я сюда приехал. В России я могу ощущать себя отцом и мужем, моя жена – матерью и женой, наши дети – любимыми детьми. Мы люди, свободные люди, а не наёмные служащие госкорпорации с ограниченной ответственностью «Семья». И это очень приятно. Это комфортно чисто психологически. До такой степени, что искупает целую кучу недостатков и нелепостей жизни здесь.
Чарли и Чарлин, 9 лет, американцы
(Особенности русского мироощущения в сельской местности)
У русских есть две неприятные особенности. Первая – в разговоре они норовят схватить тебя за локоть или плечо. Вторая – они невероятно много пьют. Нет, я знаю, что на самом деле многие народы на земле пьют больше русских. Но русские пьют очень открыто и даже с каким-то удовольствием.
Тем не менее эти недостатки вроде бы искупались замечательной местностью, в которой мы поселились. Это была просто-напросто сказка. Правда, сам населённый пункт напоминал место из фильма-катастрофы. Муж сказал, что здесь так почти везде и что на это не стоит обращать внимания – люди тут хорошие.
Я не очень поверила. А наши близнецы были, как мне казалось, немного напуганы происходящим.
Окончательно повергло меня в ужас то, что в первый же учебный день, когда я как раз собиралась подъехать за близнецами на нашей машине (до школы было около мили), их уже привёз прямо к дому какой-то не совсем трезвый мужик на жутком полуржавом джипе, похожем на старые форды. Передо мной он долго и многословно извинялся за что-то, ссылался на какие-то праздники, рассыпался в похвалах моим детям, передал от кого-то привет и уехал. Я обрушилась на моих невинных ангелочков, бурно и весело обсуждавших первый день учёбы, со строгими вопросами: разве мало я им говорила, чтобы они никогда не смели даже близко подходить к чужим людям?! Как они могли сесть в машину к этому человеку?!
В ответ я услышала, что это не чужой человек, а заведующий школьным хозяйством, у которого золотые руки, которого все очень любят и у которого жена работает поваром в школьной столовой. Я обмерла от ужаса. Я отдала своих детей в притон!!! А так всё мило казалось с первого взгляда... У меня в голове крутились многочисленные истории из прессы о царящих в русской глубинке диких нравах...
...Не стану далее вас интриговать. Жизнь здесь оказалась на самом деле замечательной, особенно замечательной для наших детей. Хотя боюсь, что я получила немало седых волос из-за их поведения. Мне невероятно трудно было привыкнуть к самой мысли, что девятилетние (впоследствии десяти- и так далее) мои дети по здешним обычаям считаются, во-первых, более чем самостоятельными. Они уходят гулять со здешними ребятишками на пять, восемь, десять часов за две, три, пять миль – в лес или на совершенно жуткий дикий пруд. Что в школу и из школы тут все ходят пешком и что они тоже вскоре начали поступать так же – я уже просто не упоминаю.
А во-вторых, тут дети во многом считаются общими. Они могут, например, зайти всей компанией к кому-нибудь в гости и тут же пообедать – не выпить чего-нибудь и съесть пару печений, а именно плотно пообедать, чисто по-русски. Кроме того, фактически каждая женщина, в поле зрения которой они попадают, тут же берёт на себя ответственность за чужих детей как-то совершенно автоматически; я, например, научилась так поступать только на третий год нашего тут пребывания.
С детьми здесь никогда ничего не случается. Я имею в виду – им не грозит никакая опасность от людей. Ни от каких. В больших городах, насколько мне известно, ситуация больше похожа на американскую, но здесь это так и именно так. Конечно, дети сами могут нанести себе немалый вред, и я первое время пыталась это как-то контролировать, но это оказалось просто невозможно. Меня вначале поражало, насколько бездушны наши соседи, которые на вопрос о том, где их ребёнок, отвечали совершенно спокойно: «Бегает где-то, к обеду прискачет!» Господи, в Америке это – подсудное дело, такое отношение! Прошло немало времени, прежде чем я поняла, что эти женщины намного мудрее меня, а их дети – куда приспособленней к жизни, чем мои, по крайней мере какими они были вначале.
Мы, американцы, гордимся своими навыками, умениями и практичностью. Но, пожив здесь, я поняла с печалью, что это – сладкий самообман. Может быть, когда-то было так. Сейчас мы – и особенно наши дети – рабы комфортабельной клетки, в прутья которой пропущен ток, совершенно не допускающий нормального, свободного развития человека в нашем обществе.
Если русских каким-то образом отучить пить, они легко и без единого выстрела покорят весь современный мир. Это я заявляю ответственно.
Записал Олег ВЕРЕЩАГИН
http://www.rusvera.mrezha.ru/695/5.htm
|
Ажурный чепчик для ребенка |
Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Если Вы любите вязать, предлагаю научится вязать детский ажурный чепчик своими руками:
1.
2.
|
Рождественский ангел. Мастер-класс |
Это цитата сообщения mariabest247 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
Бисерные фантазии. |
Это цитата сообщения lorine [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|
цветок из полимерной глины |
Это цитата сообщения М_Г_Х [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Серия сообщений "Полимерная глина":
Часть 1 - Лепка из Фимо
Часть 2 - Лепим 10 фантастических существ из пластики!
...
Часть 36 - Скачать подборку журналов по лепке
Часть 37 - Скачать уроки по работе с пластикой - Creare Fimo
Часть 38 - МК: цветок из полимерной глины
Серия сообщений "МК":
Часть 1 - Мини-комод из пакетов от молока или сока
Часть 2 - Шаль, связаная на вилке
...
Часть 32 - МК: плетёные серьги
Часть 33 - МК: мягкая текстильная куколка-примитив
Часть 34 - МК: цветок из полимерной глины
Часть 35 - МК: красивая тканая салфетка
|
ВОДЫ «ЧЁРНОГО ДРАКОНА»: Евангельские истины на фоне потопа |

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Чёлны
С разбега стёкла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, брёвны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесённые мосты…
(А.С.Пушкин. «Медный всадник»)
Знакомые со школьной скамьи пушкинские строки всегда живо рисовали картину «сражения» мощной стихии и немощного в этой ситуации человека. Несколько месяцев назад картинки из прошлого на уроках литературы неожиданно ожили, переместившись со страниц томика пушкинских произведений на дальневосточную землю.
Амур – великая река России, входящая в десятку самых крупных рек мира. На языке нивхов она называется Да-мур – «большая река», маньчжуры называют её Сахалян-Ула – «чёрная река», а китайцы Хэйлунцзян – «река чёрного дракона». Кажется, что этим летом о Дальнем Востоке заговорили все: а как иначе, три региона оказались затоплены мощными водами того самого «дракона», напоминавшего уже не реку, а море. Федеральные каналы тут же сделали рубрику в новостных блоках, сопровождающуюся грозной картинкой и тревожной музыкой, словно это не новости, а трейлер к очередному блокбастеру. Только героем стал не популярный киноактёр и не мифический дракон с примесью инопланетного разума: в центр трагедии попал обычный человек.
Извечные вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» стали снова актуальными, только прибавился к ним ещё один: «А за что?» Действительно, восприятие любой трагедии как кары, как наказания Божия всегда имеет место быть в сознании людей. Потеряв способность объединяться в радости (за исключением, пожалуй, спортивных побед), мы сплачиваемся в период бед и трагедий, вспоминаем о ближнем, о Боге, о вечных ценностях, которые в сумасшедшем ритме неоновых городов почти затёрлись в людских душах, как мелкие цифры на пожелтевшем автобусном билете, долгое время пролежавшем в кармане.
Священники помогали пострадавшим не только молитвой
Многие в дни потопа пришли в храмы, крестились, другие же, никогда не задумывавшиеся о заповедях Христовых, поступали по Евангелию. В одном из эвакуационных пунктов, в котором мне удалось побывать, стала свидетелем такого разговора: «Да нет, нам хватит четырёх яблок, вы лучше в 18-ю комнату передайте, там мама с двумя детьми, их сейчас дома нет».
Что есть человек перед лицом неумолимой стихии? Экстремальные ситуации выявляют и обнажают лучшие и худшие качества, которые есть в каждом из нас…
Мощные амурские воды размыли не только берега, фундаменты домов, плохенький городской асфальт и сельские дороги, но и на время социальные и иные барьеры, когда митрополит и чиновник, подполковник и рядовой, директор и школьник вставали плечом к плечу, чтобы укрепить дамбы. Не для пиара, не для галочки, а действительно по зову души.
Естественно, что на одного человека с лопатой было два, а то и три с фотокамерой, что в пункты по выдаче гуманитарной помощи многие приходили по три, а то и по шесть раз, перепродавая потом вещи, что в эвакуационных пунктах сотрудниками полиции составлялись протоколы за распитие алкогольных напитков, за хулиганство и даже кражи... Но были и иные примеры, когда простые пенсионерки приносили банки с огурцами-помидорами «мальчикам», державшим дамбу близ Комсомольска-на-Амуре собственными телами, отстоявшим город от затопления, когда тринадцатилетние школьники орудовали лопатой, насыпая песок в мешки наравне со взрослыми мужчинами. На одном из таких укрепрайонов (терминология вполне себе военная) я встретила паренька, усердно волочащего мешок с песком – из таких сооружали дамбу на центральной набережной Амура. Тащил он его одной рукой, вторая висела – она была, что называется, «сухой», то есть неразвитой.
Непривычно видеть митрополита Хабаровского «в штатском»
В числе «рабочих-волонтёров» побывал даже митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, которого не сразу можно было признать из-за непривычного вида «в штатском»: так удобнее орудовать лопатой. Каждый вносил свой посильный вклад: после коленопреклонённой молитвы в главном храме Хабаровска верующие и священнослужители устремлялись на укрепление берегов. Итак, инвентарь выдан, фронт работы оговорён – и все приступали к выполнению задания. Песок, лопаты, мешки… Через пару часов я ловила себя на мысли, что выполняю работу почти механически. «Перерыв, и все в тень!» – командовал отец Владимир. Окидываю взглядом набережную: излюбленное место горожан сейчас похоже на стройку – горы песка, спецтехника, даже расписной паровозик, что катает детишек и взрослых в «обычные», не чрезвычайные дни, сейчас приспособлен под перевозку мешков с песком.
Картина, в которой явно вырисовался дальневосточный характер во всей его полноте, складывалась у меня из эпизодов, мелких деталей и осколочков, как мозаика.
Затопленный остров Большой Уссурийский: не просто дальневосточная Венеция, а жуткая иллюстрация к некрасовскому произведению про дедушку Мазая, только на лодках – спасатели и добровольцы, женщины из поселковой школы. Их помощь незаменима, поскольку лучше учителя жителей небольшого населённого пункта никто не знает. Подавленные и напуганные люди с трудом называют рост и размеры собственных детей и других членов семьи – списки составляются индивидуально для каждого. Проплывая мимо затопленных сараев, замечаем пару кошек. «Саша, – обращается завуч школы к спасателю, – завершим обход – надо будет приехать покормить кошек». Спасатель Саша, молодой парень из Новосибирска, не возражает, между делом рассказывая о том, как на днях спасли зайца со сломанной лапой, отчаянно пытавшегося залезть на забор. Милость к братьям наши меньшим – ещё вопрос, для кого она более спасительна: для зверей или душ человеческих…
Конечно, в этот сложный период большое количество людей пришло в храмы, пожелало креститься и крестило своих детей. Многие переосмыслили прошлую жизнь, сетуя, что, поглощённым суетой или рутиной, им некогда было остановиться, оценить важные вещи, подумать о духовном. Многие в эти дни, потеряв материальное, вспоминали именно о душе, но не все… «А Маше вы микроволновку дали, а мне – нет! Я на вас в прокуратуру заявление напишу!» Что только не выслушивали священники, терпеливо объясняя, что у той самой Маши семеро детей и дом снесло течением, поэтому и помощь ей немного больше, чем иным… Впрочем, стоит ли удивляться – с благодарностью зачастую было именно по Евангелию: из десяти прокажённых возвращался отблагодарить один.
Пригород Хабаровска: пожилая пара приглашает в затопленный частный дом, показывая кур на чердаке и утонувший подвал. На прощание получаем выращенный на собственных пятнадцати сотках, которые ушли под воду, арбуз. Отказываться бесполезно: люди, потерявшие почти всё, делятся последним.
А вот национальное нанайское село Дада. Амур, кормивший местное население, затопил большую часть населённого пункта. Во дворе одной из семей умные лайки, одна из которых трётся о мои ноги, оставляя шерсть. Вдоль дома – юкола – сушёно-вяленое мясо рыб, традиционная пища местного населения. «Наших друзей, семью из Еврейской области, затопило. Они фермеры, и у них погиб урожай, – рассказывает Бальжин Зангеев, местный житель, хозяин умных лаек и юколы. – Мы поделились с ними и рыбой, и даже картошкой, хотя обычно картофель растёт именно у них. Надо помогать друг другу, разве бывает иначе?»
Глядя на добрые глаза Бальжина, внутренне соглашаюсь с ним, несмотря ни на что. Пусть иначе никогда и не будет.
Этот дальневосточный паводок 2013 года, в общем-то, ужасная драма для многих людей, притом не закончившаяся с отступлением воды, и эти маленькие штрихи из жизни маленьких людей никогда не станут основой кассового фильма. Хотя как знать… В коммерческий оборот нынче пускается абсолютно всё. Но не это важно. Большую картину того, что происходило в эти дни, нам увидеть пока не дано – слишком мало прошло времени. Но ясно одно: эта большая картина преодоления большой общей беды писалась небольшими мазками, и мазки этой кисти были сильными, яркими… разными. Как и все мы. Я видела это и могу подтвердить.
Юлия ШУТОВА
г. Хабаровск
http://www.rusvera.mrezha.ru/694/4.htm
|
ТАЁЖНЫЙ ТУПИК? |
В начале октября позвонил давний знакомый из Троицко-Печорского района:
– Слышал, у нас тут поблизости отшельники появились? Одни говорят, что они в лесу землянки вырыли, другие – что в домах брошенной деревни поселились. Это на пермской стороне, почти на границе с нашим районом. Интересно, как они зиму-то зимовать будут? Вымрут же.
Знакомый мой – лесничий, тайгу в округе хорошо знает. По его представлениям, зимой неподготовленным людям там невозможно выжить.
Вид из космоса на таёжную деревню Черепаново
Навожу справки. Пресс-служба МВД Пермского края сообщает: да, есть такой факт. Группа верующих, в количестве около 50 человек, во главе с бывшим клириком Тульской епархии Вениамином Филипповым в августе сего года приехала из Костромской и Тульской областей и поселилась в заброшенной деревне Черепаново. Гляжу на карту. Черепаново – это самая северная точка Чердынского района, страшная глухомань. На снимке из космоса, правда, деревенька смотрится веселее: вольно раскинулась она вдоль берега Колвы, домишек около тридцати, не считая бань и сараев. Крыши вроде не обрушены. Если продукты с собой взяли, то, даст Бог, не пропадут.
Проходит время, и появляются новые сообщения. Журналистам добраться до Черепаново не удаётся, нет проезжей дороги, но с таёжными поселенцами налаживают контакт рыбаки из Ныроба. Наверное, от них и стало известно, что среди таёжных поселенцев имеются дети в возрасте от года до 14 лет, которым «возможно, угрожает опасность». Чтобы вернуть затворников к «нормальной жизни», в Черепаново готовится вылететь на вертолёте межведомственная комиссия – из сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, министерств образования и здравоохранения в сопровождении полицейских.
Что-то проясняется и с религиозной направленностью общины. Президент центра религиоведческих исследований Александр Дворкин предполагает, что эти люди – так называемые царебожники, последователи бывшего иеромонаха Евстратия из Тульской области: «Два года назад он обвинил РПЦ в том, что она не верит в то, что царь Николай Второй является искупителем человечества. После этого он призвал своих последователей уходить в леса».
Всё совпадает: и место, откуда приехали поселенцы, и местная история, связанная с мученичеством рода Романовых. Известно, что в ближайшем к Черепаново посёлке Ныроб в земляной яме принял смерть боярин Михаил Никитич – дядя первого царя из династии Романовых, которого в 1601 году, страшась соперничества, сослал сюда Борис Годунов. Позже над земляной тюрьмой была построена часовня. Места эти почитаемые: каждый год в Ныроб со всего мира приезжают люди, чтобы посетить могилу первого мученика из рода Романовых и приложиться в часовне к его веригам. Это обстоятельство тут же породило слух, что поселенцы пришли в здешнюю тайгу, чтобы «ожидать появления Михаила Никитича», мол, сущие они фанатики. Однако, по утверждению заведующей Центром памяти Михаила Романова, к ней эти люди не обращались, хотя были проездом в Ныробе. Их даже в часовне не видели. Как-то не похоже на сугубых почитателей Романовых. Может, они просто прячутся от глобального электронного контроля? И никакой мистики тут нет?
Между тем события развивались стремительно. Судя по сообщениям МВД Пермского края, из Черепаново «сбежало 10 человек, в их числе 6 детей». Как говорят, покинуть общину их заставила угроза голодной смерти предстоящей зимой. Сейчас правоохранительные органы помогают восстановить паспорта, от которых эти люди отказались перед уходом в тайгу. Беглецов разместили в Свято-Лазаревском женском монастыре, что в городе Верещагино на западной границе Пермского края. А сорок человек так и остались в Черепаново...
Беглецы
Почему эта история меня заинтересовала? В Коми республике уже 10 лет живёт точно такая же община таёжных затворцев. И до сих пор какого-то чёткого отношения к ней так и не появилось. Осуждать их? Восхищаться их жертвенностью? Даже и не знаю...
Возглавляет эту общину бывший уржумский клирик Александр Кожевников. Он из глубоко верующей семьи. Родной брат его – иеромонах Троице-Сергиевой лавры. Мать – послушница в уржумском храме. Сам служил там же, в Свято-Троицком соборе. В 2003 году он попросил у своего архиерея перевода за штат с правом перехода в другую епархию. После этого вместе с 50 прихожанами выехал в Княжпогостский район Республики Коми. Продав свои дома в Кировской области, члены общины прописались в таёжных посёлках Мещура и Седьюдор. В Мещуре взялись возвести храм. Сначала в 2004 году установили крест, затем заложили фундамент... Но по какой-то причине было решено уйти дальше в тайгу. Администрация Мещуры по просьбе общины выделила им место в 50 километрах от посёлка, куда можно только в погожую погоду добраться, а в межсезонье вообще дороги нет. Представители Сыктывкарской и Воркутинской епархии несколько раз посещали отшельников, предлагали вернуться к людям, но получали отказ.
Как и в случае с Черепаново, из общины стали бежать люди. На сайте Сыктывкарской и Воркутинской епархии размещён фрагмент аудиозаписи с рассказом девушки Анны, покинувшей лесную пустынь в 2009 году:
«В Кирове я лежала в больнице два раза в год под наблюдением врачей, так как у меня киста на почке. А сюда они меня привезли и ни разу не разрешили обратиться в больницу. Наш фельдшер, который у нас там есть, мне сразу об этом сказала, что если киста загнётся, то или срочная операция, или смерть, но тебя не довезти, поэтому смерть».
Затем беглянка называет кого-то по имени, но неразборчиво, и продолжает: «Он оттуда уезжать не хочет, а если приедет прокуратура, он сказал, что будем сидеть и не выходить. Даже если, к примеру, просто подожгут, надо сгорать заживо. Не все согласны с батюшкой, что так надо поступить». И далее: «Андрей сказал, что если что, то мы будем стрелять, вот, будем защищать тебя. Вот тут уже появился страх, что если на самом деле приедет прокуратура и будешь сидеть там при двери, железные запоры и плюс там ещё замки, на окнах решётки, что уже никуда не выйти, и это придётся гореть уже заживо, – и тут появился страх».
Насколько можно верить словам напуганной девушки? Но вот ещё одно свидетельство, более обстоятельное. В нынешнем году общину покинула Светлана Николаевна Мальцева, после чего в нашу редакцию пришло письмо. Светлана решила подробно рассказать «Вере», как всё было.
Оля Мальцева (слева) сразу после возвращения
из тайги и её подруга
«Началась наша история в 2002 году, когда в православном мире пошла волна протестов против глобализации. Прочитав много разных брошюр, статей, прослушав многие кассеты, нам стало страшно жить в современном мире. Наша семья состояла из четырёх человек, детям было 9 и 6 лет. Мы были воцерковлёнными прихожанами уржумского Свято-Троицкого собора. Вся семья имела одного духовника, отца Александра Кожевникова. Вокруг него собралась в то время крепкая община из 50 человек. В 2003 г. по благословению батюшки нами было найдено место в Республике Коми, в глухой тайге.
В течение нескольких месяцев, начиная с июля, выехали почти все и поселились в этом заброшенном месте. Постепенно восстановили дома и обустроили быт. О жизни там, о бедах и радостях можно было бы написать много. Сначала, пока была связь с миром и возможность пополнения запасов, было всё терпимо. Конечно, условия были очень жёсткие: строгий режим, строгая дисциплина, строгое послушание, строгий аскетизм. В первые годы уехала большая часть людей. Наша семья прожила там 10 лет. Дети выросли, научились много и тяжело работать, мало спать и мало есть.
В 2009 г. отказались от мира, от документов, от денег и перестали куда-либо выезжать и вообще выходить за ограду. Запасы постепенно стали подходить к концу, и в 2011 г. перешли на одноразовое питание. Кушали только один раз, в 8 часов вечера. Норма питания была очень скудная, в основном трава и грибы. Начались болезни, недомогания, сильное истощение. В 2012 г. умер молодой мужчина от истощения. Неплохо жили люди, которые имели собственные запасы или которые были возле общих запасов. В 2009 г. уехал мой муж, не выдержал. Сейчас у него своя семья. Мы с детьми не поехали с ним, послушав батюшку. Он говорил, что, кто оставит близких ради Господа, тому Господь воздаст сторицей. Тогда ещё мы батюшке слепо верили.
Всё сложилось так, что, живя там, ты должен работать, даже если не можешь. Дочь уже не могла ходить, а работать всё равно заставляли. 9 февраля 2013 г. мной было принято решение бежать, так как добровольно оттуда не отпускали. Очень переживала за здоровье дочери Оли и своё, при таком истощении нам было бы не дожить до лета...»
Жизнь обдырская
Прочитав письмо, звоню в Мещуру.
– А кто вам письмо прислал, Светлана Мальцева? – сразу же догадалась глава сельского поселения Любовь Алексеевна Гусарова.
– Да, она. Вы её хорошо знаете?
– Близко не знаю, но человек она хороший. Медик по профессии, как поняла. В марте с детьми она выехала, потому что со здоровьем проблемы были, что-то со зрением. У нас-то, кроме акушерского пункта, ничего нет. А потом в июне они снова приезжали, дочка Светланы в нашей школе экстерном сдавала экзамены за 9-й класс.
– Она что же, в вашем посёлке училась? – удивляюсь.
– Нет, дети из общины учатся у себя, а к нам в школу присылают контрольные, им оценки ставят, отсылают задания. Такое дистанционное обучение, законом это не запрещено. Школа, кстати, у нас хорошая, хоть и в таёжном посёлке. Тридцать пять учеников и десять преподавателей, многие с дипломами педагогических институтов.
– Да, насколько я слышал, жизнь у вас в Мещуре кипит, – соглашаюсь я. – Есть и дом культуры, и молитвенная комната, и почта, народ активный – в газетах сообщали, что даже поэтические конкурсы проводятся. Вот только почему приезжие у вас не задержались, а дальше в тайгу ушли?
– Не знаю, не при мне это было, я ведь главой не так давно работаю. Но что значит «в тайгу»? Место, как они и просили, им предоставили в бывшем посёлке лесозаготовителей Обдыре. Это в 54-х километрах от нас на север. Летом туда можно добраться на моторке по реке Елва, а в хорошую погоду и на вездеходе. Дорога, конечно, не проезжая. Но зимой на «Буранах» можно быстро доехать.
– Кроме них, там никто не живёт?
– Только один человек, бывший егерь. Домики там уже развалились, но они что-то восстановили, высоким забором, как крепостью, обнесли. В последние годы в общине было человек двадцать, а сейчас осталось одиннадцать.
– А чем они кормятся?
– Огородами. Рыбаки рассказывают, что есть у них лошадь, козы, грибы собирают, охотятся и рыбачат. Имеются лодки, трактор, машина, снегоход.
– А вы как думаете, имеют люди право вот так взять и спрятаться в глуши? – спрашиваю под конец.
– Конституцией не запрещено, где хотят, там и живут. Так ведь? – вопросом на вопрос отвечает глава поселения. – Не знаю... Сама бы я не смогла там жить. Без электричества. А вообще, люди там доброжелательные, мужчины – золотые руки. Когда они в Мещуре были, то к ним за помощью обращалось население, и они ни в чём не отказывали. Сварщик у них очень хороший, все плотники. Молодцы!
Признаться, такой рекомендации я не ожидал. Значит, не всё так мрачно в этой истории с таёжными затворниками?
На фото А. Артеева – скит в Обдыре
Иного мнения, впрочем, журналист коми республиканской газеты Артур Артеев. «Можно предсказать, что через несколько лет община распадётся», – считает он. Летом прошлого года ему удалось добраться до Обдыра, но ни с кем, кроме старожила егеря, пообщаться ему не удалось. Дом общины и вправду скрыт за высокой бревенчатой стеной. На нём два объявления, одно из которых гласит:
«При попытке насильственного проникновения к нам будут приниматься меры... Мы не сектанты, не староверы, не раскольники. Мы – чада Русской Православной Церкви, исполняющие её каноны, поминающие Патриарха. Мы надеемся на Бога, а не живём в страхе конца Света. Мы хотим воспитать детей правильно, в страхе Божьем и любви, чтобы они имели любочестие и были сознательными гражданами своего Отечества. Мы не желаем их развращения, к чему вы стремитесь их привлечь. Мы не выйдем. Нам не о чем говорить. Настаивать и переубеждать нас не надо. Если имеется почта, просуньте её в щель забора».
На второй табличке сообщается о каком-то княжпогостском полковнике, во главе с которым некие люди ночью проникли за ограду, «били кувалдой по дверям, тросом хотели вырвать решётку, только выстрел в воздух остановил их». Заканчивается обращение всё тем же: «Настаивать и переубеждать нас не надо. Простите нас. Вас Господь простит».
Может, и вправду стоит оставить их в покое? Может, и в самую глушь-то они подались как раз потому, что кто-то слишком уж резко пытался их «вернуть к нормальной жизни»?
«Спаси всех Господь»
По большому счёту, в стремлении православных людей к уединённой жизни ничего необычного нет. На форуме нашей газеты уже много лет назад читатели завели раздел «Православные поселения», чтобы делиться адресами, где можно поселиться подальше от мирской суеты. Пишут туда немного – да и о чём писать-то? Таких адресов тьма, в любую сторону поезжай – и найдёшь заброшенную деревню. И необязательно в тайгу забираться.
Поразила меня последняя запись, датированная сентябрём этого года: «Братия и сестры! Приход ищет православную семью, желающую жить в удалённом селе. У нас есть хороший дом, и мы готовы заселить в него людей, которые за небольшую плату будут присматривать за храмом: топить печи, убираться в храме и на территории. Храм Рождества Богородицы приписной, службы не чаще одного раза в неделю. Тел. настоятеля: 8-922-921-44-67, о. Владимир, Уржумская епархия, Вятская митрополия».
Промыслительное совпадение. Мы тут уржумских таёжников обсуждаем, а у них на родине деревня пустует, да ещё с отремонтированным храмом – заселяйся, Богу молись, за это тебе ещё и приплачивать станут! И зачем же в тайгу-то было ехать, за тридевять земель?
Кстати сказать, отцу Александру, который сейчас в Обдыре, что-то подобное предлагалось в самом начале. Беглянка Анна так рассказывает: «Митрополит Хрисанф предлагал батюшке остаться в его епархии, взять любой приход или даже, допустим, если в городе жить не хочет, в любую деревню уехать, что будет помогать. Но батюшка отказался. Всё-таки решил уехать в лес, жить в лесу, а не захотел просто остаться. Тогда митрополит Хрисанф сказал, что “я не могу вас привести, могу только вывести”».
Душе не прикажешь. И я бы не стал осуждать этих людей. Что нам остаётся? Только помочь им. И радостно видеть, что к такому выводу пришли и власти в Пермском крае – в отношении тех затворников, с которых и начался этот разговор. Как сообщают СМИ, в заброшенную деревню Черепаново отправлен гуманитарный груз с продуктами и тёплой одеждой. Умереть с голоду отшельникам не дадут.
Помощь требуется и тем, кто передумал и покинул добровольный затвор. Светлана Мальцева пишет из Уржума: «У меня и дочери Оли по возвращении на родину начались больничные проблемы. Сначала реанимация, потом – отделение. Истощение было сильное, у Оли при росте 164 см вес был 36 кг, у меня при росте 168 см – 46 кг. 1,5 месяца не могли нормально есть, организм не принимал пищу. Врачи опасались, что не сможем восстановиться. Но постепенно, по молитвам знакомых и незнакомых людей, восстановление началось. Масса тела пришла в норму, но здоровья нет. От плохого питания у нас с Олей сахарный диабет, у меня цирроз печени, у Оли гепатит и много других серьёзных болезней. На их лечение требуются дорогостоящие лекарства и лечение в санатории (говорят, одного курса мало), кроме того, мне требуется операция на глазах, по поводу слепоты. 10 лет в общине жили без электричества.
Дети очень хотят учиться. Оля мечтает о семинарии, чтобы научиться красиво петь и славить Бога на каждой службе. Сын Саша тоже хочет быть больше в храме. Но для этого нужны силы и здоровье. Помогите, добрые люди, нам набрать средств на восстановление здоровья. Сейчас ещё возникла угроза остаться без жилья. Спаси всех Господь, кто найдёт возможность помочь нашему горю.
Наш адрес: 613530, Кировская область, г. Уржум, ул. Рокина, д. 26. Мальцевой Светлане Николаевне».
Михаил СИЗОВ
http://www.rusvera.mrezha.ru/694/3.htm
|
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН |
Ведь здравые умы предлагают: уж если не отменять ЕГЭ, то сделать сдачу добровольной, а по гуманитарным предметам ввести устный экзамен. В том числе обязательно – по литературе, не в форме тестов, а устно либо в виде сочинения. А при поступлении в вуз – хотя бы пару испытаний: на знание русского языка и «профильного» предмета. И не кто-нибудь предлагает, а 1-й зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Он уверен: эти изменения помогут избавиться от главной проблемы ЕГЭ – убийства в детях творческого начала.
Общество говорит: идея ЕГЭ себя полностью дискредитировала. Но власть упёрлась и гнёт своё. Новый руководитель Рособрнадзора Кравцов призывает проводить информационную работу с учениками, родителями. Ясно, что уговоры могут воздействовать только на людей и без того законопослушных. Я говорю про наш Север, где люди привыкли играть «по правилам». Шпаргалок, может быть, у нас больше – их пишут ученики, готовясь к экзаменам; я и сам, помнится, их писал, чтоб лучше запомнить билеты. Зато в наших южных республиках шпаргалки не популярны – там нарушения иного рода: задания заранее покупаются, за детей решают преподаватели и т. п. К сожалению, эта зараза перебросилась уже и на мегаполисы. Мне рассказывали об опытном преподавателе, переехавшем из Сыктывкара в Петербург. Уже в канун первой экзаменационной кампании ей задали вопрос: «Сколько вы берёте за одного?» «Я не занимаюсь репетиторством», – ответила она. Но, оказывается, речь шла о том, во сколько она оценит свои услуги по написанию экзамена за ученика, сидя во время сдачи ЕГЭ в соседнем помещении…
Вот официальная статистика. В Северо-Западном федеральном округе при проведении ЕГЭ – 12 нарушений. Зато в Северо-Кавказском – 336, из них в Дагестане – 222! И это только то, что удалось выявить. А попробуй взяться выявлять нарушения в Чечне – мало не покажется! Так непропорционально много бюджетных мест в московских «престижных» вузах занимают выпускники с Северного Кавказа, не владеющие элементарной грамотой, а русские парни идут служить в армию (что само по себе неплохо); уровень высшего образования падает, и коррупция всё глубже разъедает систему образования.
В последнее время Рособрнадзор весь изошёл странными инициативами. Прежде, когда эту структуру возглавляла Л. Глебова, чиновник с воистину бульдожьей хваткой, она доказывала, что серьёзных проблем вообще нет. Сдав дела, ушла на повышение в Совет Федерации. И слава Богу! Но уже третий сменившийся за год руководитель этой структуры, видимо, не знает, как показать свою значимость и установить контроль над ситуацией.
Как раз в те дни, когда шли «установочные» родительские собрания, в Коми по итогам ЕГЭ состоялось заседание правительства. Среди обычных сетований на проблемы министр образования озвучил идею Рособрнадзора, предложившего ужесточить процедуру сдачи ЕГЭ: если на экзамене будут обнаружены шпаргалка или телефон, результаты аннулируются не только у виновника, но и у всех детей из этой аудитории.
Мне понравился один из комментариев в сети к этому решению: «А что, нормально! Вот если один чиновник проворовался – гнать их всех...»
Невольно вспомнил термин «круговая порука» и недавнюю инициативу нашего Президента – чтоб за ущерб, нанесённый террористом, отвечали бы его родственники и вообще близкое окружение. Но ведь здесь речь идёт не о террористах-смертниках. За кого же принимают нас, наших детей московские чиновники?! За потенциальных преступников и их сообщников?
«Это настоящая инквизиция, – считает директор школы из Новосибирска Владимир Алексеев. – Мы водим учеников как заключённых, группами, в разные школы, подбираем учителей с разными профилями, чтобы не дай Бог, в аудитории не было учителей-предметников. Печально наблюдать, как из детей делают преступников: их отлавливают, заводят уголовные дела. Боремся с детьми с девятых классов, обыскиваем их. Это очень унизительно. Но с кем идёт борьба? Может быть, зарубежный десант высадился нас завоёвывать? Смешно и больно на это смотреть, а потом слушать людей, которые говорят, что ЕГЭ – это панацея, способная решить все проблемы».
На том самом заседании правительства Коми выступила уполномоченная по правам ребёнка Н. Струтинская:
– У нас 11 человек удалены с экзамена без права пересдачи в этом году. Это же нарушает права ребёнка! Есть факты, когда дети после такого наказания были в серьёзной депрессии, были даже попытки суицида. Представьте: выпускник сдал все экзамены, кроме одного. Что он будет делать целый год? Это настоящая трагедия.
Первый замглавы республики А. Чернов предложил обратиться в прокуратуру, сделать запрос в Госдуму. А мне подумалось: ну, отменят эту безумную инициативу, так там придумают что-нибудь похлеще! У кого в голове могла зародиться такая идея? Таких людей надобно держать подальше не только от образования, но и вообще от госслужбы. Чиновники с карательными ухватками – они заполнили нынешние коридоры власти.
Они не знают, а главное – не любят школу и тех, кто в ней: учителя и ученика. Утверждая, что борются за эффективность системы образования, за высокие рейтинги, они без конца оптимизируют, реформируют… А знаний у детей становится всё меньше. Этим чуждым образованию людям все мы со своими детьми не приносим прибыли, одни расходы бюджета. Пока образование декларируется как бесплатное и всеобщее, для них мы – изначально виноваты в том, что пытаемся выучить своих детей.
Есть такое понятие – обвинительный уклон. В 60-е годы прошлого века моя мама – выпускница юридического института – пошла по распределению на работу в суд. Но долго работать там не смогла. «Обвинительный уклон», господствовавший тогда в правоохранительной системе, угнетал её. Впоследствии многие годы мама работала адвокатом.
Тогда ещё совсем немного прошло времени после ежовских «воронков», массовых поисков «врагов народа». Но и сегодня большинство судей признают, что обвинительный уклон существует. Это явление обусловлено не только профессиональной привычкой, но ещё и системой ценностей, в которой человек воспитывался, атмосферой немилосердия в обществе. И никакой закон не сможет изменить данность – когда вместо слуги общества госчиновник воспринимает себя прокурором, призванным карать или миловать.
Вот и себя я ловлю на этом: хорошо бы этих чиновников проверить на профпригодность – и поганой метлой их… Или под суд за провоцирование социального бунта.
Обвинительный уклон – он во мне, он в нас. И сколь долго ещё учиться нам гасить эту мстительную волну, всякий раз поднимающуюся в ответ на очередное чиновничье безобразие… Но именно для того, чтобы этого не было в наших детях, чтобы они стали лучше нас, а не хуже, каждому, кому не безразлично будущее страны, необходимо бороться со злом. Хотя бы и в такой форме как ЕГЭ. Но не только.
Игорь ИВАНОВ
http://www.rusvera.mrezha.ru/694/2.htm
Серия сообщений "Хронограф "Веры"":
Часть 1 - ЗАЧЕМ?..
Часть 2 - ПЕКЛО
...
Часть 32 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!
Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН
Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»
|
|
схемы снежинок |
Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Хочу поделиться с Вами красивыми схемами для вырезания снежинок. Это очень актуально сейчас :)
1.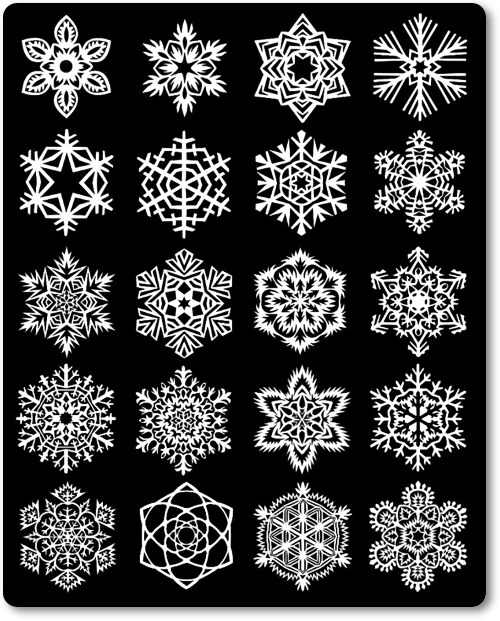
2.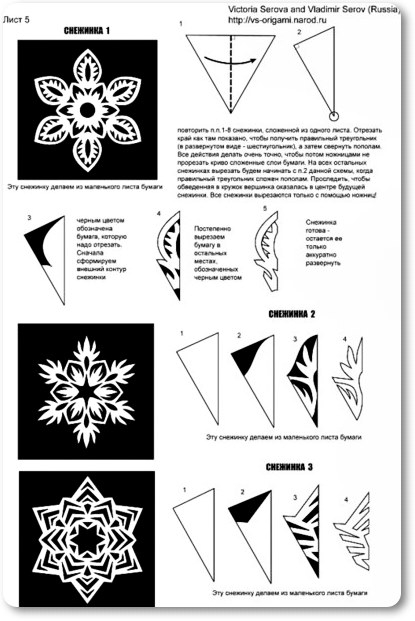
|
В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой) |
Вот уже третий день пытаемся попасть на приём к старцу Адриану (Кирсанову), а только очереди к батюшке такие, что не достояться никак. Словом, томимся в очереди и грешим, осуждая тех, кто терзает батюшку по пустякам. Судите сами – вместе с нами все эти дни стоят в очереди местные женщины, которым надо получить у батюшки благословение на сбор ягод в лесу.
– Давно бы сходили в лес и набрали ягод, – усмехается паломница из Москвы. – А то ведь скоро будут благословляться так: «Батюшка, благословите чихнуть!»
Но если сборщицы ягод вызывают скорее недоумение, то юной Лидочке из Петербурга достаётся уже по полной программе. Во-первых, Лидия прошла к отцу Адриану без очереди, потому что батюшка так благословил. Во-вторых, ей назначена генеральная исповедь, начиная с семилетнего возраста, а это, как известно, дело долгое. Через окно кельи видно, как Лидочка достала из сумки толстую тетрадь и, капая на бумагу слезами, начала читать. Минут сорок читала. Наконец захлопнула тетрадь, и батюшка уже возложил на её голову епитрахиль, как девушка достала из сумки вторую тетрадь… потом третью, четвёртую. Или уже пятую?
– Мне уезжать надо, а она всё сидит! – нервничает паломница из Владивостока.
Наконец Лидия вышла из кельи, но тут же вернулась обратно:
– Ой, батюшка, я же забыла спросить…
И батюшка снова о чём-то говорит с исповедницей, называя её ласково Лидочкой.
– «Лидочка», «Лидочка»! – взрывается негодованием красавица Катя. – Без году неделя у батюшки, а уже «Лидочка»!
Катя явно ревнует Лидию к батюшке. А история у Кати такая – шесть лет назад она оставила жениха и приехала к старцу, требуя, чтобы он постриг её в монахини. Катя вся в подвигах. Например, этим Великим постом она ела, как кролик, лишь капустные листья, пригласив меня, кстати, присоединиться к ней. Я отказалась, сославшись на немощь.
– Ну, если вы даже такой малости не можете, – надменно сказала мне Катя, – то чего же доброго от вас ждать?
Правда, в отличие от кролика, Катя после этого возненавидела капусту. И тем обиднее то, что батюшка не замечает Катиных подвигов и не благословляет на постриг. Забегая вперёд, скажу, что, когда через десять лет я спросила знакомых, постриг ли батюшка Катю, они ответили:
– Не постриг. Но Катя у нас железная леди: всё равно, мол, своего добьюсь.
Впрочем, Катя – не единственная, кто приезжает к старцу добиваться своего. Мнение батюшки таким людям даже неинтересно, ибо старец просто обязан благословить чью-то вздорную идею, выдумку или самообман. В итоге желаемое выдаётся за действительное, и вот лишь один, но известный факт. Несколько лет назад, якобы по благословению старца Адриана, проходила акция Всенародного покаяния за убийство царя. Возле храмов стояли женщины с подписными листами и уговаривали прохожих поставить подпись, «а иначе Россию не спасти».
Ради спасения России подписывались многие, но тут один инок сказал:
– Простите, но вчера я был у батюшки Адриана и спросил его про эти подписные листы. А батюшка ответил: «Да разве мог я благословить такую глупость? Каяться надо в личных грехах, а покаяния за чужие грехи в православии нет».
– А мы думали… – смутились женщины.
В общем, как говорил преподобный оптинский старец Нектарий: «Кончайте “думать” – начинайте мыслить».
* * *
…Лидия наконец уходит от батюшки, и очередь теперь движется быстро. Славный всё-таки народ монахи, и по любви к старцу не тратят его время попусту – зайдут, кратко изложат свои нужды и уходят, благословясь.
– Глядишь, и мы попадём, – радуются старушки-паломницы из Москвы. – Нам всего на минутку к Алёшеньке – гостинцы вручить. Он ведь наш, заводской – с автозавода Лихачёва.
Старушки помнят старца ещё молодым, называя его прежним именем – Алёша. И был Алёша таким пригожим, что сохло по нему немало девчат.
– Зазываем Алёшу на танцы, – рассказывают москвички, – а он после работы лишь в церковь ходил. Обиделись мы на него, влюблённые дуры, и решили – раз ему плевать на девчат, то мы ему за это в банку со святой водой наплюём. Забрались к нему в общежитие и наплевали, а после этого все слегли. Температура – сорок, мука мученическая – головы от подушки не поднять. Болеем, мучаемся, а догадались – это нам наказанье за грех. Написали записку Алёше, прощения просим и чтобы он помолился за нас. А по его молитвам мы вмиг исцелились и, самое главное, к Богу пришли. С тех пор от батюшки ни на шаг. Сначала он служил в Троице-Сергиевой лавре, и мы уже семьями ездили к нему. Перед 1 сентября всегда детей привозили. А батюшка помолится о школьниках, благословит ребятишек, и дети, глядишь, с усердием учатся и уважают старших и учителей. Молитвами батюшки мы горя не знали. А потом начались гонения на старца, и партийные власти распорядились удалить его из Лавры в 24 часа.
* * *
Но прежде чем рассказать о гонениях на старца, приведу некоторые факты, характеризующие духовную атмосферу тех лет. Недавно скончавшийся протоиерей Валерий из Козельска рассказывал, как нелегко было в те годы поступить в семинарию. Будущего священника тут же начинали таскать в КГБ, обещая показать небо в клеточку, если не откажется от своих намерений. А потом за дело принималась милиция – абитуриента перехватывали на вокзале и задерживали на несколько суток, чтобы на экзамены он опоздал и в семинарию не попал. В общем, тактика у семинаристов была такая – за месяц до экзаменов уезжали из дома и прятались в лесах близ Троице-Сергиевой лавры. В день подачи документов высылали вперёд дозорного и по его знаку: «Путь свободен» быстро бежали к монастырю, чтобы успеть подать документы в приёмную комиссию, пока не задержала милиция. Только после этого можно было чувствовать себя в относительной безопасности, ибо официально гонений на религию в СССР не было. И иностранцев приглашали убедиться – смотрите сами: храмы открыты, студенты учатся в семинарии.
После окончания семинарии отца Валерия приглашали на работу в оперный театр, голос у батюшки был дивный. Но он хотел быть священником, а в регистрации на приходе власти отказывали. Три года батюшка оставался безработным. А игумен Пётр (Барабаш), узник Христов, отказавшийся сообщать в КГБ сведения, полученные на исповеди, после лагерей мыл привокзальные туалеты, потому что, по указанию органов, его больше нигде не брали на работу.
Словом, что бы ни говорили о священниках, служивших при советской власти и якобы «продавшихся КГБ», это был всё-таки путь исповедничества. В те годы, как рассказал мне однажды архимандрит Адриан, он спал, подложив под голову череп, чтобы приучить себя к мысли о смерти и неизбежности страданий за Христа. И дал Господь Своему исповеднику дары старчества – дар прозорливости, дар помощи болящим и огненную молитву, попаляющую бесов. В Троице-Сергиевой лавре у о. Адриана было послушание – отчитывать бесноватых. Исцелялись многие, и не только на отчитке. Люди, приговорённые, казалось бы, к пожизненной инвалидности, работали потом воспитательницами в детском саду, врачами в поликлинике и мастерами на производстве. А один партийный деятель после исцеления положил в райкоме партбилет на стол и стал открыто исповедовать Христа. Всё это вызывало негодование уполномоченного по делам религий, и не только у него.
Помню, как в Псково-Печерском монастыре один иерарх жаловался на отца Адриана:
– Вот иду я по монастырю, и вокруг тишь, благодать, благолепие. Но стоит выйти из кельи отцу Адриану, как сразу начинается скандал – кто-нибудь тут же завизжит, загавкает и захрюкает. Вы же сами видели это безобразие! А ведь в монастыре иностранцы бывают…
В Троице-Сергиевой лавре иностранцы бывали особенно часто. Их привозили сюда, чтобы убедить – в СССР нет гонений на религию, и правда лишь то, о чём поётся в песне: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Иностранцам, в свою очередь, было любопытно посмотреть на этот дикий тёмный народ, который, в отличие от просвещённой Европы, всё ещё верует в Бога и, по слухам, ходит в лаптях. Так вот, однажды в Лавру привезли американскую делегацию довольно высокого ранга, судя по тому, что её сопровождали руководящие лица из ЦК КПСС. Всё шло как обычно. Американцы с любопытством разглядывали монахов, как разглядывают в музее кости мамонтов, – осколок прошлого, старина и уже отжившее свой век музейное православие. Но тут из кельи вышел отец Адриан, исповедник Бога Живого и молитвенник-бесогон. Он просто молча прошёл мимо. Но руководящая американская леди вдруг забесновалась, завизжала, захрюкала и, не зная ни слова по-русски, стала материться площадным матом, выкрикивая при этом: «Поп Адриан, убью! Убить попа!»
Скандал был изрядный. И некий руководитель из ЦК КПСС распорядился в гневе: «Убрать Адриана из Лавры в 24 часа, и чтобы духа его здесь не было!» Официально это называлось: отца Адриана перевести в Псково-Печерский монастырь. Батюшка был тогда тяжело болен, но ему даже собраться толком не дали. А за батюшкой до электрички бежал народ, задавая вопросы и умоляя о помощи.
Так всегда: старца даже в болезни не оставляют в покое. Однажды, рассказывали москвички, к заболевшему старцу привезли умирающую женщину Нину: рак в четвёртой стадии, неизлечимый, и врачи предрекали скорую смерть. Нина была тогда далека от Церкви, и привело её к старцу отчаяние.
– Умираю я, батюшка, – заплакала она. – Скоро умру!
– Вот и давай готовиться к смерти, Нина, – посоветовал старец.
С тех пор прошло, наверно, лет тридцать, а Нина всё готовится к смерти. Говорят, она теперь монахиня в тайном постриге и подвижница во Христе. И тайну продлившейся жизни Нины объясняют разве что слова святых отцов: «Смерть никогда не похитит мужа, стремящегося к совершенству».
* * *
…С годами старец стал болеть всё чаще. Вот и сейчас по очереди проносится слух: у батюшки опять поднялась температура, и врач запретил продолжать приём. Очередь волнуется, и волнение усугубляется тем, что снова появляется Лидочка и просит пропустить её к старцу «на секундочку».
– Только через мой труп! – преграждает ей дорогу Катя.
– Мы из Сибири к старцу приехали и не можем попасть. А ты? – возмущаются сибиряки.
Но Лидочка не унимается и стучит в окно кельи:
– Батюшка, родненький, меня не пускают к вам!
– Чего тебе, Лидочка? – выходит на крыльцо отец Адриан.
– Батюшка, я взяла сейчас билет на автобус, а благословения на дорогу у вас не взяла.
– Сдай билет на автобус. Поедешь поездом.
– Нельзя мне поездом, – горячится Лидочка. – Поезд приходит в одиннадцать утра, я на работу опоздаю! Начальница меня живьём съест и…
– Поедешь поездом, – пресекает эту дискуссию батюшка и тут же отходит к местным женщинам, благословляя их на сбор ягод.
О сборщицах ягод я расскажу чуть позже, но сначала о Лидочке. Она, действительно, поехала поездом, по-детски доверяя опыту святых отцов, утверждавших: как авва благословил, так и надо поступать. И как хорошо, что есть это доверие, потому что наутро пришло страшное известие: в автобус, на котором собиралась ехать Лидия, врезался пьяный водитель «КамАЗа», и было много крови и жертв.
– Приму лишь тех, кто уезжает завтра, – объявляет с крыльца отец Адриан, приглашая в келью почему-то и меня.
«Иди за Ним!»
Заходим в келью впятером под шёпот келейника: «Заболел батюшка. Мы из Пскова уже “скорую” вызвали, чтобы госпитализировать его. Не задерживайте батюшку, а?!» Но и без слов келейника видно – батюшке плохо, и благословляющая рука обжигает огнём. Все стараются говорить кратко, и лишь один инок разливается соловьём:
– Ещё святитель Игнатий Брянчанинов писал, что истинных старцев уже не стало и даже в монастырях не владеют Иисусовой молитвой.
– Покороче можно? – шепчет келейник.
– Ну, если вкратце, то ещё святые отцы утверждали: «Не все в монастыре спасаются, и не все в миру погибают». Вот у нас в монастыре не братия, а братва, и отец наместник – дракон.
– Значит, хочешь уйти из монастыря? – спрашивает батюшка. – А знаешь ли, брат, что монах, покинувший свой монастырь, приравнивается к самоубийце и даже лишается христианского погребения?
– Мама болеет, – сникает инок, – и просит рарешения вернуться домой.
– Вот и меня мама о том же просила. И была, брат, такая история….
Впрочем, эту историю я уже знаю от московских знакомых старца. А дело было так. Однажды отец Адриан получил от матери слёзное письмо, где сообщалось: сгорел их дом, живут теперь в землянке. А в землянке в дожди вода по колено, и тяжело заболела мать. Вот и умоляла мать сыночка хотя бы на время оставить монастырь, заработать денежку и построить им дом, ибо помощи ждать больше не от кого. Из монастыря отец Адриан тогда не ушёл, но денно и нощно молил святителя Николая Мирликийского помочь его больной матери.
Долго ли молил, не знаю, но вдруг приносят ему сумку с деньгами, а в сумке записка с просьбой передать эти деньги матери монаха, у которой сгорел дом. Кто прислал эти деньги – до сих пор неизвестно. Но когда, купив дом, мать о. Адриана стала осматривать его, то обнаружила на чердаке большую икону Николая Чудотворца, и святитель улыбался ей.
– Тяжело тебе, брат, понимаю, – утешает батюшка инока и суёт ему в карман свёрток с деньгами. – Тут мне денежки передали, а ты матери их перешли, чтоб лекарства самые лучшие и питание хорошее. Главное, веруй – не оставит Господь.
– Погибаю я, батюшка, – плачет инок. – Хочу спастись, а осуждаю всех.
– А на это вот что скажу…
Но договорить им не дают – приехала «скорая». А батюшка всё силится продолжать приём, обращаясь теперь ко мне:
– Прошу, ответь на это письмо.
Старец Псково-Печерского монастыря Адриан (Кирсанов)
Беру у батюшки нераспечатанное письмо от знаменитой спортсменки-чемпионки, из которого позже узнаю: после травмы позвоночника спортсменку парализовало. Никакое лечение не помогает, но в Бога она верует, крещена ещё во младенчестве, и знакомый священник причащает её на дому.
– Напиши ей, – диктует ответ батюшка, – что она некрещёная. А что крестили её во младенчестве, она ошибается. Теперь многие ошибаются так. А после крещения ей полегчает – и глядишь, на поправку пойдёт.
– Батюшка, но вы же не прочли письмо и даже не распечатали его, – недоумеваю я.
– Разве не прочёл? – удивляется старец и даёт последние наставления: – Без меня ходи к батюшке Иоанну (Крестьянкину). Он духовный, а я кто? Это раньше были великие старцы, а теперь остались одни старички.
Много позже архимандрит Иоанн (Крестьянкин) напишет мне в письме: «Отец Адриан – вот истинный старец, а я лишь душепопечитель». И слово в слово повторит сказанное отцом Адрианом о былых великих старцах и нынешних старичках, имея в виду самого себя.
Старцы иногда говорят одинаково, но они очень разные. У архимандрита Иоанна дар слова, и к нему часто ездили в ту пору именитые интеллектуалы, чтобы послушать богомудрые поучения старца. А к батюшке Адриану всё больше лепится тот горемычный народ, где жизнь – скорбь на скорби и одолевают болезни.
– Да что вы ходите за мной толпами? – сокрушается батюшка. – Я же не Пантелеимон Целитель. Господи, покоя нет и помолиться не дают.
Покоя батюшке, действительно, нет. Вот и сейчас «скорую» облепил народ. Женщины плачут, жалея батюшку. А отец Адриан раздаёт им в утешение приготовленные в дорогу припасы, вручая пакет фруктов и мне.
– Батюшка, да полно у нас дома фруктов, – отказываюсь я. – Лучше дайте напоследок духовный совет.
– Ты о чём?
– О том, как жить.
– Как жить? – задумывается батюшка. И говорит проникновенно, как говорят о личном: – А ты живи просто. Смотри, куда ножки Христа идут, и иди за Ним.
«Скорая» увозит батюшку в областную больницу, а я вдруг понимаю – ножки Христа ведут на Голгофу. Это тесный путь, но иного нет.
При море Тивериадском
Со сборщицами ягод я познакомилась после отъезда батюшки. Оказалось, что они – заготовители. Собранные ягоды сдают в приёмный пункт, а на заработанные деньги кормят семью и даже строят дома.
– Мы без благословения батюшки в лес не ходим, – рассказали женщины. – А помолится батюшка, благословит нас, и мы сезон отработаем без устали и заработаем хорошо.
Однажды я попросила женщин взять меня с собою в лес. С 15 августа, как объявили по радио, разрешается собирать бруснику, и мы отправляемся по ягоды. Правда, женщины сразу предупредили – первую ягоду они берут не для себя, а для Бога, отдавая всё собранное в монастырь. Вместе с нами отец келарь отправляет в лес за грибами четырёх паломниц во главе с Катей, потому что в Успенский пост грибы особо нужны.
На опушке леса все молятся, а старшая – Валентина – читает молитву священномученику Харалампию, великому страдальцу, которому перед казнью явился Господь и сказал: «Проси у Меня, чего хочешь, и Я дам тебе». И старенький епископ (а было Харалампию 113 лет) стал молить Господа о людях, которые «суть плоть и кровь». И да дарует им Господь в память о его страданиях изобилие плодов земных, чтобы люди насыщались и славили Бога.
И было нам даровано в тот день такое изобилие земных плодов, что и не знаю, как рассказать. Застреваю у первой же брусничной поляны и ахаю от изумления: вся поляна так густо устлана ягодами, что уже не видно ни земли. Брусника крупная, как вишня, и растёт гроздьями. Тут не по ягодке берёшь, а сразу пригоршнями. Довольно быстро набираю ведёрко и иду к паломницам собирать грибы.
Но и тут диво дивное. В молодом ельнике стоят шеренгами крепкие, нарядные белые грибы, а по зелени мха стелятся рыжики. Все корзины уже переполнены. Но разве можно уйти от таких грибов? Снимаем с себя фартуки, платки и кофты, увязывая собранные грибы в узлы. Наконец с брусничника возвращаются женщины, и у каждой по два вёдра брусники, а за спиной полные ягод пестери. Они профессионалы, собирают ягоды сразу двумя руками, и при этом очень быстро и ловко.
Отдыхаем на опушке, перекусывая хлебом с помидорами, и всё не налюбуемся на эту дивную крупную бруснику.
– Такой красивой брусники, – говорю, – я сроду не видела.
– А я и не замечала, что брусника красива, – признаётся бывалая сборщица ягод Марина.
– Почему не замечала?
– Как объяснить? Муж с весны безработный, а трое детей. Я не ягоды собираю, а деньги считаю: вот на сотню набрала, ещё на полсотни. Спешу и не вижу вокруг ничего. А сегодня собираю бруснику бесплатно, и дух захватывает от красоты. Господи, думаю, я такая счастливая. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
– А и правда, радость, будто праздник сегодня, – говорит Валентина и наставляет меня: – Ты первые огурчики и помидоры со своего огорода обязательно в церковь снеси. И будешь, поверь, всегда с урожаем.
– Выходит, дай Господу рубль, чтобы получить взамен сто? – обличает Валю красавица Катя. – Но это же корыстная торговля с Богом!
– Какая торговля? Не понимаю, – недоумевает Валентина.
Но, кажется, я понимаю её. За древним обычаем нести в церковь начатки урожая стоит привычка христиан святить свой быт и ставить на первое место Бога, а не свой достаток и горделивое «я».
За уличённую в корысти Валю вступается Марина:
– Послушай, Катюша, про моего брата. Работал он раньше в рыболовецкой артели. И был у рыбаков обычай – первый улов посвящали Богу и везли потом рыбу в монастырь и в детдом. И был тот первый улов как при море Тивериадском, когда лишь чудом не порвались сети от множества рыбы. Встречаем, бывало, рыбаков на берегу, а они ещё издали кричат от радости: «Божий улов! Божий улов!» Всю путину рыбка хорошо ловилась. А потом купил их рыболовецкое хозяйство какой-то богатей и сказал рыбакам: «Я не позволю раздавать рыбу на дармовщину. Наша цель – получить прибыль. И при чём тут Бог и Божий улов?» А без Бога рыбка перестала ловиться. Прогорел богатей, и разбежалась артель. Я понятно говорю, Катя?
– Куда уж понятней! – насмешничает Катя. – Дай Богу взятку, чтоб получить капитал!
– А я ещё понятней скажу, – невозмутимо продолжает Марина. – Живём мы, действительно, при море Тивериадском, но по воле Божьей жить не хотим, батюшку не слушаемся и лишь добиваемся своего. И выходит у нас, Катя, как у тех рыбаков, что всю ночь ловили рыбу, устали, измучились, и не поймали они ничего. Тут хоть лоб расшиби, а ничего не получится, если нет воли Божьей на то. Ты поняла меня, Катенька, а?
Катя отворачивается, и всем понятно, о чём речь. Катя не монашеского устроения, но вообразила себя однажды монахиней и с тех пор бьётся как рыба об лёд. Обличает всех, ссорится и живёт на деньги родителей, ставя себя превыше мира сего. Но на Катю не обижаются, понимая, что несчастна она.
А ещё вспоминается история одного невесёлого геолога. Он два года поступал в геологический институт, чтобы, окончив его, понять, что перепутал геологию с туризмом. И сколько таких путаников на земле! По словам одного американского учёного, человечество лишь на пять процентов живёт реальностью, а на девяносто пять процентов – иллюзиями. Рано или поздно иллюзии рушатся, и несчастье – удел мечтателей, построивших свой дом на песке…
Но сегодня на нашем море Тивериадском праздник. Как в раю побывали, насладившись красотой и дивясь изобилию Божьего урожая. Уходить из леса совсем не хочется, но Валентина уже прилаживает на спину пестерь со словами:
– Отдохнули, и хватит. Пора, сёстры, в путь.
Нина ПАВЛОВА
http://www.rusvera.mrezha.ru/598/12.htm
Серия сообщений "Рассказы":
Часть 1 - О ВОЙНЕ
Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!
...
Часть 28 - БЛАГОСЛОВЕНИЕ Рассказы отца Варнавы (Трудова)
Часть 29 - ГЛАВНЫЙ ПОСТУПОК
Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)
Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Часть 32 - Печать дракона
|
|
СНИМИ КРЕСТИК |
Трудная задача, пока они исповедуют простые идеи: бери от жизни всё. При этом убеждены, что их религия это позволяет. Это правда. Позволяет. Она всё позволяет. Если человек хочет стать лучше, он найдёт для этого опору в исламе. Если захочет стать хуже – тоже найдёт. Довольно сказать, что сам Мухаммед грабил купеческие караваны, брал в заложники богатых язычников-мекканцев, требуя за них выкуп. Пока он искал Истину, подобное было невозможно. А потом решил, что нашёл. Так же обстоит дело с коммунистической идеологией и любой другой, выдуманной для того, чтобы находить обоснования своим хотениям.
Только христианство бросает вызов человеку – его хитростям и слабостям. И сколько бы люди ни пытались исказить Евангелие, замарать его своими преступлениями – это оказалось так же невозможно, как огонь смешать с водой. Можно потушить его в себе – он продолжит гореть в других. Иоанн Богослов пишет: «Пришёл к своим, и свои не приняли Его. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Православные христиане, радуйтесь, мы от Бога родились!
С чего началась моя вера? С мамы. Наверное, она молилась, пела мне духовные песни и молитвы, когда я был ещё в колыбели. Помню, как совсем маленький я стою без штанишек на молитве рядом с сестрой и мамой. Мама – самая любимая и лучшая, которая хочет мне добра, – говорит: «Сынок, есть Бог, надо в Него верить и доверяться Ему». А потом, в первый же школьный день, когда я уселся за парту, ко мне подошла учительница, потребовав: «Сними крестик!» Я отказался. Тогда учительница обратилась к самому злому хулигану в школе – Юрке Рогову: «Рогов, ты сними». Он исполнил распоряжение, разбив мне нос и губы, благо был на три года старше и, конечно, сильнее. Крестик с тесёмкой бросил на пол, и они с учительницей вместе его топтали. Я пришёл домой в запачканной кровью рубашке и крестиком в руке, заявив, что в школу больше не пойду. Мы помолились вместе с мамой, боль душевная и обида затихли. На следующий день мама сказала: «Иди в школу. А крестик, если Бог даст, ещё поносишь».
И однажды, лет в сорок, я при полном внешнем благополучии, имея всё, что казалось важным: семью, работу, квартиру, дачу, друзей, – вдруг затосковал. Появилось чувство несовместимости моего внутреннего мира и мира, в котором я живу, не было больше сил жить во лжи. Я умирал, едва сохраняя рассудок. Так было, пока я не пришёл в Церковь, где обрёл новую жизнь. Во Христе. Почему со мной это произошло, а иной мой сверстник так и не обрёл веры? Дело, наверное, в том, что я доверяюсь Богу и святым отцам, а он – себе и тем учениям, которые ему антибог подсунет.
Конечно, многие люди из тех, которые не верят в Святую Троицу, могли бы стать христианами, если бы были просвещены, если бы удалось их вывести из тьмы и страха. В одной из телепередач прошлых лет, называлась она «Свобода слова», шло обсуждение – преподавать ли православную культуру в учебных заведениях или нет. Сначала 63 процента телезрителей были против, 37 – за. Это говорит о том, в каком диком духовном и нравственном кризисе находится наше Отечество. Потом взявший слово Никита Михалков заметил – чего испугались? Испугались культуры, которая дала нам Ломоносова, Пушкина, Достоевского, Кутузова. А вот бескультурья не боитесь. Вслед за ним взяла микрофон женщина лет 50 – директор двух фондов и, едва сдерживая эмоции, заявила, что Церковь – это коммерческая структура, которая вот уже 2000 лет делает деньги. У кого что болит, в общем, тот о том и говорит. Ведущий Савик Шустер тут же подтвердил эту старую поговорку. Отняв у дамы микрофон, он мрачно и твёрдо заявил: «При чём тут деньги? Неужели вам не ясно, что Церковь – это власть!»
Вот этой-то власти и боятся богопротивники, всячески терзающие, распинающие Россию. В конце той передачи 60 процентов зрителей пришли к выводу, что духовное образование необходимо, и лишь 40 процентов продолжали возражать против этого. То есть невежество, непонимание очень мешает воцерковлению России. Правители сами не знают, что делают, если их воля не одухотворена, как это было когда-то. Что сейчас? Если бы благословение Церкви что-то значило для властителей и судей, разве принимали бы они законы, попирающие заповеди Божии, разрушающие человеческие отношения! В стране сейчас вымирает миллион человек в год, и только православные посреди этого ужаса продолжают создавать прекрасные семьи, рожать детей, сколько Бог пошлёт, воздерживаться от наркотиков и пьянства, любить Россию, как мать.
Так встаньте рядом! Если не верите в Господа, так хоть уважайте тех, кто удерживает страну от гибели. Вместо этого одни боятся, стараются нас оболгать, другие им попустительствуют. Я вижу, как та история, когда с меня срывали крест, повторяется. Отец Николай Гарбуз приехал недавно к зятю. Стал молиться. Внук – мальчик лет шести – сначала посмотрел, постоял возле деда, а на другой день опустился рядом на колени. Проходит ещё сколько-то времени, внук спрашивает родных: почему вы без молитвы за стол садитесь? Зять испугался. «Перестань, – говорит, – а то в садике узнают, подумают, что я тоже молюсь».
Между тем в Дагестане две трети населения живёт по шариату, уважает свою пусть ложную, но веру. Она помогает мусульманам выживать физически, оставляя голодным их дух. Идеи там простые, но понятные. Вот рай, например, как полагает большинство мужчин в странах ислама, – это наложницы, дворцы, деликатесы. И рай, и ад, и эта жизнь для них – этажи одного здания, всё от мира сего. Может, и нам выбрать это путь? Окончательно пожертвовать духом?
А с Юрой Роговым, мальчиком, сорвавшим с меня крестик, наши пути вновь пересеклись там, где я и не ждал – в церкви. Он стал настоящим христианином – мне ли не знать, Юра у меня исповедовался. Царствие ему Небесное! Бог даст, ещё встретимся.
http://www.rusvera.mrezha.ru/598/8.htm
|
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (Или нужа ли сигнализация храмам?) |
«К утру палатка может упасть. Метель, стервенея, забрасывает её крышу мокрыми тяжёлыми хлопьями. Я почти физически ощущаю, как увеличивается нагрузка на стойки палатки. Лежим в темноте. Молчим. Из четырёх ребят, засыпанных лавиной, удалось найти только одного. Он был без сознания. Его руки были поморожены и странно торчали вперёд. Откапывали осторожно, чтобы не повредить...»
Это я процитировал отрывок из рассказа «Письма с отметки 4000», которым открывается книжка известного вятского альпиниста Бориса Борисова «Горы полны тайн». Книга приключенческая, захватывает с первой же страницы. Есть там сюжеты про мужество и трусость, про горных «духов», сбивающих альпинистов с пути, про смертельные опасности снежных лавин и глубоких расщелин. Весьма увлекательно. Только вот читаешь и невольно задаёшься вопросом: и зачем люди туда тянутся, чего им дома не сидится? В одном из рассказов альпинист пытается это объяснить: «Одни считают нас смертниками, другие, напротив, просто путешественниками. Но мы не те и не другие... Вот уже больше сорока лет нет войны. Война – большая беда. Беда воспитывает, и люди той поры – сильные люди. Послевоенное поколение во всём тянулось за ними – настолько силён был моральный всплеск. А что же мы? Куда денешь сегодняшнюю моду на красивую и беззаботную жизнь? А эти людишки, делающие большие деньги одной только наглостью? А раз так, то должен быть противоположный полюс...»
Вроде бы ответил альпинист. Горы – «противоположный полюс» потребительской жизни. Но разве только в горах этот полюс можно найти?
Книга «Горы полны тайн» была издана в Кирове в 1992 году десятитысячным тиражом. С той поры прошло почти два десятилетия. Нынче осенью мне довелось встретиться с её автором в момент подъёма на высокую вершину. Причём такую, что, скажи Борису об этом в 92-м, он, наверное, бы не поверил.
«Бог видит тебя»
Центр города Кирова. Старинный Иоанно-Предтеченский храм. Под стенами его стоят люди и, задрав головы, смотрят на маленькую фигурку человека, подвешенного на верёвках на самой-самой верхотуре – на шпиле с крестом. Этим летом по городу пронеслась сильная буря, покосила кресты – и вот Борис Анатольевич теперь исправляет это дело. Когда он спустился на землю и отдохнул, я подошёл к нему, пошутил: «Когда-то вы про горных языческих духов писали, а теперь на православном храме работаете...» Альпинист улыбнулся:
– Да я уж говорил об этом со священником, и тот ответил: Церковь не отрицает существования языческих духов, демоны реальны. В целом батюшка книгу мою похвалил, заметив лишь, что писал её невоцерковлённый человек. Так ведь это ж когда было... А вообще истории про духов большинство альпинистов воспринимает как красивый фольклор, как поэзию. В горах ведь такая красота, что всё кажется особенным. Скажем, горные снежники – ну, обыкновенный снег и лёд. А я про них стихотворение написал:
Скальных стен лихой разворот,
Я стою у самого края.
Тихо-тихо, по метру в год
Ледники наступают...
По утрам ледопада звон.
Так столетьями – было и будет…
Слышишь, шорох со всех сторон –
Это горы спускаются к людям.
Или вот небо. Здесь оно обыкновенное, низкое. А там – бесконечная глубина. И оттуда, сверху, на тебя словно Кто-то смотрит. Да что я вам объясняю! Слышал, ваша редакция на уральской вершине Крест поставила. И у многих такое желание появляется. Даже на пик Ленина в советское, по-моему, ещё время французские альпинисты крест затащили с надписью: «Бог видит тебя».
– Но в горы ведь не только за этим идут, – сомневаюсь я, – а ещё «адреналина хватануть».
– Да, некоторые сравнивают альпинизм с наркоманией. Это не совсем точно. Вот даже моя нынешняя работа. Бывает, ходишь усталый, развинченный, тяжело на душе. А залезаешь на купол, на шпиль – и какая-то энергия появляется, настроение хорошее, особенно когда работа ладится. Хотя это на любой работе, просто на высоте всё обостряется.
Понимаете, есть разный альпинизм. Вот советский – он был коллективным, радость получали от единства в преодолении трудностей. И романтика была братства: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так...» А сейчас альпинизм у нас становится другим, с Запада перенимаем романтику волка-одиночки, когда на первое место встаёт личное покорение вершины. Брат мой недавно ездил в Крым с группой скалолазов и осознал: что-то уже не то...
– Русские всё-таки общинный народ, – киваю.
– Конечно! Вот даже на земле: у нас всегда были сельские общины, а у них – фермеры. Так и в горах. Не случайно же в 1982 году именно русская команда прошла юго-западную стену Эвереста, и до сих пор никто из ребят с Запада повторить это не пытается, похоже, даже в планах нет. Потому что там идти можно только командой. Есть, конечно, и у нас мастера-индивидуалы, например наш вятчанин Павел Шабалин – он, кстати, был лидером в группе, которая недавно северную стену Эверста прошла. Но опять же в одиночку он не ходит.
– А вы где бывали?
– Много на Кавказе, в том числе два раза на Эльбрусе. Из семитысячников у меня только один пик Евгении Корженевской на Памире. На пик Ленина пробовал подняться два раза. Но первый раз травму получил, ноги разбил. А во второй раз перед самым восхождением на спасательные работы попал: спускали вниз обмороженного, и сам там заболел – так что пришлось вернуться.
– Наверное, жалеете?
– Как сказать... Если быть честным пред собой, то наибольших успехов я достиг не как альпинист, а как тренер. Много с детьми работал. В том числе два года тренировал Лену Шумилову, до 1-го разряда довёл, а потом она стала абсолютной чемпионкой России, СНГ и чемпионкой мира.
– В Церковь вы через альпинизм пришли?
– Да тут многое вместе сошлось, даже не знаю, с чего и начать...
Страховочный фал
– По образованию я инженер-электрик, работал инженером-конструктором на военном заводе, различные электросхемы конструировал, – начал рассказ Борис Анатольевич. – Одновременно увлекался спортивным скалолазанием, был инструктором по альпинизму, горным спасателем. У нас в Кирове сильная команда тогда образовалась. Но уже в начале 90-х стал я думать, как объединить свои инженерные и альпинистские навыки. И ещё было такое чувство: слишком долго валяю дурака, живу, можно сказать, для себя. Три желания – инженерное, альпинистское и, так сказать, духовное – как-то сразу объединились в 1993 году. Это когда решил с друзьями сделать благое дело – побелить церковь в селе Коршик Оричевского района альпинистским способом. То есть чисто на верёвках, никаких лесов не устанавливали. До сих пор не знаю, пытался ли кто-нибудь так работать до нас, но тогда мы чувствовали себя первопроходцами.
– Леса, конечно, долго устанавливать, и денег они стоят, – удивляюсь. – Но на них же удобнее работать?
– А кто сказал, что удобнее? Если владеешь альпинистской техникой, то никаких проблем. Сидишь себе на деревянной сидушке, ноги в стеночку упёрты, обе руки свободны. И мы там не просто белили, а ещё стены защищали, долбили – всё фундаментально.
– И какая высота была в Коршике?
– Колокольня около пятидесяти метров, а холодный храм метров на 10 меньше. Со мной были ребята, с которыми на сложные горные маршруты ходил, так что ни у кого голова не кружилась. А потом меня стали приглашать разные приходы. В Великорецком раза два ставил крест, в том числе на колокольню. Звёзды там на куполе помните? Тоже ставил их. В Успенском соборе смыв от нагара делал – это нужно было наверху под сводами висеть и чистить фрески, которые от времени чёрными стали. Это, кстати, труднее, чем просто на куполе работать. В Горохово, селе на пути Великорецкого крестного хода, тоже очень тяжёлая работа была – побелка холодного храма и колокольни. Там почти каждый год работаю. А сейчас вот интересная работа на правке шпилей – это для нашего брата высший пилотаж получается. Там ведь на куполе безо всякого крана или вертолёта надо ворочать тяжёлой конструкцией. Вот в селе Юрьево Котельнического района устанавливали мы шпиль – так он вместе с крестом 8 метров был. Так что пришлось монтировать не целиком, а секциями, придумав для этого свои приспособления.
– А там высота какая?
– Сорок с чем-то метров. Да это уже не так существенно – если падать, не дай Бог, то и с трёх можно разбиться. Чем мне нравится на храмах – здесь работа самостоятельная, и для каждого храма, для решения каждой задачи нужно что-то новое придумывать. В Чульево, например, ставили шпиль и специальную стрелу сконструировали, очень оригинальная получилась, с оттяжками, хитрая такая система. Всё время что-то изобретаешь, даже на высоте – потом слезаешь с купола, идёшь в колхозную мастерскую и свариваешь новую конструкцию. Интересная работа.
– И денежная?
– Не знаю, у других, может быть. Да что жаловаться, когда такое дело делаем. Помню, пять лет назад в Горохово установили мы на храме крест, который был скинут в советское время. Крестоходцы на реку Великую идут, говорят: «Куда это мы вышли? Это Горохово? Издалёка крест заметили, думали, куда-то не туда зашли». Приятно, конечно, слышать такое. В Горохово, кстати, мы много сделали. В декабре прошлого года внутреннюю поверхность купола облицевали гипсокартоном, так что можно роспись делать. Делов-то много. В последние два года вообще без перерыва на храмах, без отпуска. Сейчас одновременно на двух объектах – здесь, на Иоанно-Предтеченском, и в Юрьево. Здесь продвину работу – и туда еду, потом обратно. У нас как: был бы человек в храме, а работа найдётся.
– А можно ли вот так, через работу, к Богу прийти?
– Да ведь не просто работаешь, а с народом православным общаешься, перед иконами молишься. Да и без «полётов» не обходится – как тут о Боге не подумаешь?
– Каких полётов?
– Обычных, сверху вниз. За сезон обычно происходит один-два срыва с высоты. Статистика такая – как ни берегись, но раз в год обязательно сорвёшься.
– А страховка разве не помогает?
– Помогает, конечно. Я всегда на высоту поднимаюсь с двумя страховочными верёвками, дублирую – одна порвётся, так другая удержит. Но тут есть оборотная сторона: когда ты так застрахуешься, то совершенно забываешь об опасности – и вот тогда происходит срыв. В назидание, так сказать, чтобы не слишком на себя надеялся.
– И как это происходит?
– Ну вот, типичный пример. В Горохово я сорвался, упал и повис на добавочном фале в семи сантиметрах от пола. Или вот прямо здесь, на Иоанно-Предтеченском храме, лестница опрокинулась. Мне потом рассказывали: «Оборачиваемся, видим: ты вниз головой летишь – без страховки, безо всего, – аж ступор от увиденного случился. Три метра ты пролетел, как-то сгруппировался, перевернулся и на ноги приземлился. Чудо какое-то!» Слава Богу, я со стороны себя не видел, а то бы тоже в ступор впал. И что главное – ведь не разбился! Только ногу потянул, три дня похромал, и всё прошло.
– Высота какая была?
– Четыре метра. Но вниз головой и метра бы хватило. Вот как тут о Боге не подумаешь?
Вообще, на храме работа всегда удивительно ладится. Есть у меня друг Юра Горячев, спортсмен-парашютист, в Котельниче мне помогает, очень хороший, православный человек. И пришлось нам там делать кровельную работу. Мы-то не спецы по этому делу, но на шпиль никого другого не загонишь. И Юра начал что-то нервничать: «Мы ж не умеем с железом, ничего не получится». Я говорю: «Юра, давай так размышлять. Вот мы с тобой работаем на храме. Это же не случайно, что мы здесь? Так? А раз так, то всё сделаем как надо, ведь других кадров и нет. Давай, как умеем, как соображаем, так и сделаем – и это будет хорошо». И действительно, всё сладилось.
– А вот когда срывались вниз, то, интересно, о чём-то думали? Или один страх?
– Нет, это не страх. Это как в горах. На Памире, у вершины Искандер, был у меня интересный момент. Представьте: обвал, камни катятся сверху, ударяются о выступ и прямо над головой этакими чемоданами проносятся на бреющем полёте. Я уворачиваюсь от них и вдруг понимаю, что не боюсь их, наоборот, настроение какое-то... трудно выразить, защищённости, что ли. В сердце понимаю, что всё будет хорошо. Вот и при срывах так же.
Это я про ощущения. А что думаю... Да тут не успеешь и подумать. В Великорецком такое дело было. Как обычно, вишу на двух верёвках, вроде полностью застрахован. А самый главный наш противник – это края железных конструкций, например крыши, они моментально верёвки сбривают. И вот вдруг вижу, что от главного страховочного фала всего две ниточки осталось, на них вишу. Соображаю, что когда они лопнут, то на второй верёвке я влево полечу, на угол стены, а туда совсем не хочется: восемь-десять метров придётся маятником болтаться и стукаться об этот угол. А пока буду качаться, мне и вторую верёвку срежет о край крыши. Это понимание промелькивает в миллисекунды – и вот уже я прыгаю, куда-то ногу упираю, где и опоры-то не было, хватаюсь за железный край и ровненько-ровненько выползаю на крышу. Сам не понимаю, какой силой туда закинуло.
А бывает и иначе. Нынешней весной один парень в Вятке работал на затирке панельных швов жилого дома. У него первая верёвка улетела, его мотануло в сторону на десять метров, и пока он летел туда, вторую верёвку срезало о кровельный слив. Упал с высоты седьмого этажа и разбился. У нас на храмах, слава Богу, такого не было.
В осаде
Как мне показалось, об опасностях своей профессии Борис Анатольевич говорил с неохотой и весьма оживился, когда разговор перешёл на другую тему – о незащищённости сельских храмов.
– Просто не могу на это смотреть! – переживает он. – Какая-то эпидемия ограблений пошла. Приходят, уносят иконы – и с концами, милиция редко их потом находит. Это ж мы так всех святынь лишимся! На храм в Волково нападали два раза, на Спасо-Талицу, на храмы в Яранском районе... Навскидку храмов семь за последнее время ограбили. Причём манера у воров такая. Обычно забираются в церковь часов в 10 вечера и всю ночь там бесчинствуют, чувствуя полную безнаказанность, – вот это меня и возмущает. Надо поднять православную общественность, принять программу действий, найти деньги, кстати, небольшие, на охранные системы, чтобы сберечь святыни. А смонтировать их я смогу на все вятские храмы, сколько бы это времени ни заняло.
– А вы разбираетесь в охранных системах?
– Так я ж в военном НИИ электрической автоматикой занимался. Пять лет назад попросили меня сигнализацию в одном отдалённом селе на храм поставить. Называть село не буду, чтобы воров не привлечь. Там хранится большая святыня, чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть», у которой народ до сих пор исцеляется. Местный настоятель, кстати, имеет медицинское образование и профессионально эти чудесные исцеления освидетельствует, уже толстая тетрадь исписана. Так вот, чтобы оградить эту святыню, и решили поставить охранную систему. Я всё сделал как надо, четыре года было тихо, а потом, видно, какой-то коллекционер «заказал» икону. Сунулись воры, и моя система их отогнала. Но «заказ» есть, действуют профессионалы, и охота продолжилась. Поняв, что боковые двери надёжно защищены, они попытались взломать центральные – и там то же самое. После каждой попытки я модернизировал систему, но и они не отступали. Всю осень мы были в состоянии обороны, выдержали семь попыток взлома. Нынче весной, в апреле, они только разведку произвели, не решились сунуться. А потом, на восьмой раз, всё же нашли лазейку – через окно высоко наверху, которое было слабо защищено. Но и там сигнализация сработала, так что воры успели схватить лишь крайнюю икону и убежали. Икона эта, кстати, уже обнаружена – в Казани. А вот главную-то святыню, из-за которой охота началась, так и не тронули!
Но это отдельный случай, когда оборона хорошо была поставлена. Обычно же воры в отдалённых храмах ведут себя как хозяева. Действуют обычно гастролёры – где-то получают информацию по «точкам» и начинают объезд. Всем миром надо их как-то остановить.
– Но сельские храмы обычно не богатые, – сомневаюсь я, – откуда у них деньги на охранные системы?
– Так многие говорят. Их ошибка в том, что они ориентируются на специализированные охранные организации. Там, действительно, цены задирают, называют цифру в 80 тысяч рублей. Начинаешь сбивать цену, они говорят: хорошо, поставим попроще, за 50 тысяч, но после ограбления вы всё равно к нам придёте, чтобы мы систему усилили. Такой вот бизнес-подход. На самом деле себестоимость сигнализации многократно меньше – я вам как специалист-электротехник говорю. Можно даже в 7 тысяч рублей уложиться, и «охранка» будет надёжно действовать. А самая элементарная сигнализация – на двери, на окна – ещё дешевле. Это ж обычные электроустройства из деталей и проводов, которые можно в обычном магазине купить, ничего «суперского» в них нет.
Чем хороша сигнализация, даже самая простейшая? Любой вор смелый, пока знает, что действует скрытно. А если обнаружен – всё, он бежит. Никто рисковать не хочет. Вот пример с тем же храмом, о котором я рассказывал. Его осаждали настоящие профессионалы, работавшие по заказу, – так они, когда сигнализация включилась, даже свой воровской инструмент побросали, так улепётывали. Видел я их отмычки и прочие штучки – действительно профи. То есть сельским приходам не обязательно держать вооружённых охранников – достаточно сигнализации и чтобы недалеко от храма жил православный человек с телефоном. Это ж просто.
– Но умелые воры могут отключить сигнализацию.
– А вот здесь, – рассмеялся инженер, – и кроется «секрет фирмы». Первую же свою сигнализацию на храме я сделал с автономным источником питания, с аккумулятором. Как её отключишь? Это ж надо сначала внутрь залезть, преодолев систему. Опять же есть разные хитрости, как прятать сигнализацию. Каждый раз мы стараемся найти нестандартный ход, одна система отличается от другой – и гастролёрам они не по зубам.
– А вы и вправду, несмотря на занятость, взялись бы обеспечить сигнализацией все вятские храмы?
– Мне можно позвонить по сотовому 89123795601 или написать по электронному адресу borisov_b_a@mail.ru. Дело, конечно, большое, но чего нам бояться? Я вот, бывает, занимаюсь монтажом колоколов, смотрю, как они такие огромные, тяжёлые, стоят на земле, – и не верится, что удастся на самую верхотуру поднять, закрепить. Как инженер понимаю: здесь такая проблема, там другая, почти не разрешимая, надо проёмы ломать в стене, то да сё. А потом как-то всё ладится... Бог помогает и хранит, если хорошим делом занят. Главное, этих дел не страшиться.
Михаил СИЗОВ
http://www.rusvera.mrezha.ru/598/6.htm
|
СВЯТАЯ РОССИИ И ГЕРМАНИИ |
В России и Америке, в Европе и Азии бе-режно чтут память этой княгини-мученицы, в трудную минуту обращаются к ней за помощью – ведь она, рано потерявшая горячо любимую маму, стала матерью и покровительницей тысяч страждущих во всём мире. Эта хрупкая женщина, презрев роскошь, могущество и высоту своего положения, однажды сказала: «Я оставляю этот блестящий мир, где я занимала блестящее положение. Но вместе с вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих». Красивейшая женщина Европы, родственница европейских монархов, она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. Помогала всем нуждающимся, чем могла: деньгами, едой, лекарствами, одеждой и обувью, а в 1918 году приняла мученический венец.
Матушка Марфа
Год назад мы работали в Марфо-Мариинской обители над съёмками фильма о жизни Великой княгини. Нам посчастливилось побывать на празднике Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском храме, построенном Елизаветой, нам разрешили присутствовать на вечернем правиле сестёр и даже разрешили снимать, чего не дозволялось раньше никому. Время останавливается – и при огоньке свечи звучат те же молитвы, что и сто лет назад, когда Великая княгиня Елизавета с сёстрами возносили великое славословие Богу...
Здесь, в обители, мы и познакомились с инокиней Марфой, настоятельницей обители РПЦЗ, построенной в честь преподобномученицы Елисаветы на её родине – в Германии. В беседе инокиня поведала нам вроде бы и немного, но достаточно, чтобы представить, как тесен и в то же время безграничен мир и как много можно сделать, если ревнуешь о славе Божией.
– Скажите, что вас связывает с Великой княгиней Елизаветой? Что побудило создать обитель на чужбине?
– Чтобы это понять, вспомним стихи, которые Великий князь Константин Константинович Романов посвятил принцессе Гессен-Дармштадтской Елизавете, впоследствии ставшей русской княгиней Елизаветой Фёдоровной.
Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел ты тиха, чиста и совершенна;
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!
Примечательно, что будущая основательница православной обители воспитывалась в большой семье, ведь у великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV было семеро детей. Мама Алиса стремилась вложить в их сердца любовь к ближним, особенно к страждущим. Жизнь в этой аристократической немецкой семье проходила по строгому распорядку, одежда и еда были простыми. Герцогиня Алиса поражала своих современников нетипичным поведением – вместо удовольствий светской жизни всё свободное время старалась посвящать помощи нуждающимся. Значительную часть состояния родители тратили на благотворительные нужды, всей семьёй ездили в госпитали, приюты, дома для инвалидов, привозили большие букеты цветов и разносили по палатам больных. В 1876 году в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, заболели все дети в семье герцога, кроме Елизаветы. Вскоре умерла четырёхлетняя Мария, а вслед за ней – и герцогиня Алиса, в возрасте тридцати пяти лет. В тот год для Эллы (так звали Елизавету до принятия православия) закончилась пора детства. Всеми силами она старалась облегчить горе отца, поддержать его, утешить, а младшим сёстрам и брату заменила мать... Как видите, с самого начала, ещё в Германии, преподобномученице Елисавете была определена тернистая судьба. Вот это меня в своё время очень поразило.
Случайно ли немецкая принцесса оказалась в православной России? На её руку претендовал будущий немецкий кайзер Вильгельм, который был влюблён в прекрасную Эллу с детства. Но своё сердце она отдала русскому князю Сергею Александровичу Романову, сыну императора Александра. В 1884 году она уехала в Россию, где вскоре обвенчалась, приняв православие.
Крестный ход в Бухендорфе в Елисаветинской обители
Мы живём в Германии – это страна, которая воспитала нам русскую святую. И разумеется, что в стране, где она родилась, должна быть русская обитель в её честь! Считаю, наша задача – рассказать всем немцам о той, которая своим служением прославила Бога и родину. Таким образом многие знакомятся и с православием, узнают о жизни императрицы Александры, родной сестры Елизаветы, а также об императоре Николае и их детях. Дивны дела Господни – две родные сестры-немки стали русскими святыми! Это святые, которые соединяют два наших народа и, если можно так сказать, сглаживают прошлое, которое осталось после Великой Отечественной войны. Они исправляют это своим подвигом и жертвенным служением народам России и Германии.
Проект храма-скита Преподобномученицы Елисаветы в г.Бухендорф на ул. Форштенридер-парк
– Расскажите об устройстве обители, о распорядке, о сёстрах и о тех, кто приходит к вам.
– Мы живём в 17 километрах от Мюнхена, в деревне Бухендорф. У нас в обители трудятся-подвизаются девять сестёр, в том числе и немки, надеемся, что их будет больше. Устав у нас такой: встаём в 4 часа утра, богослужение длится до 7.00, правда, литургия совершается не каждый день. В течение дня сёстры на послушаниях – шьём, пишем иконы. Работает у нас и переплётная мастерская, главным образом для церковных книг. У нас есть большой сад, обрабатываем землю. Некоторые сёстры занимаются с детками – преподают Закон Божий. Две сестры учатся на богословском факультете – одна в Мюнхене, другая в Москве. В конце дня служим вечерню и повечерие. В 10 часов – отбой. Служим на церковнославянском языке, раз в неделю – на немецком. На немецкий язык службы переводит наш духовный отец архиепископ Марк. Он тоже из Германии, но стал русским! Раз в году, летом, проводим детский Марфо-Мариинский лагерь. Приезжают 45 девочек, таким образом мы даём возможность православным детям собираться вместе, знакомиться, что очень важно в инославной среде. Многие дети, живущие в Германии, вообще не знают, кто такие монахи, что такое монастырь. Вот мы и знакомим их с традициями Русской Православной Церкви, с монашеством, с русской культурой. За границей очень важно, чтобы православные дети общались между собой.
– Чувствуется ли, что дух мира сего на Западе всё более преобладает?
– Да, это чувствуется. Тем не менее Бавария – часть Германии католического вероисповедания, здесь большая часть – люди верующие, католики. И нас, православных, принимают очень хорошо. Поначалу им было любопытно: кто мы такие, почему ходим в чёрном? У многих впечатление о русских складывалось, в основном, из фильмов, но, приходя к нам, они видят всё как есть. Наш монастырь – первый женский православный в Германии, поэтому многие едут к нам, чтобы утолить жажду, насладиться красотой православия.
– Сейчас, наверное, на Западе людям трудно прийти к Богу?
– Даже наоборот. Те русские, которые приехали за границу, – они зачастую попадают в сложные условия, эта атмосфера так давит на них и глушит, что они ищут, где бы им напитаться чем-то живым, тёплым, как умирающий от жажды ищет родник. Некоторые приходят в Церковь, чтобы на первых порах только пообщаться друг с другом, но так, общаясь, они обретают веру в Бога. Многие приходят только ради знакомых, но Господь знает время, когда коснуться сердца, чтобы зажглась искорка веры и любви. Я считаю, что многие из живущих за границей, живя на Руси, не так быстро бы пришли к Богу.
После воссоединения Русской Зарубежной Церкви с Матерью-Церковью мы первый раз с тех пор, как эмигрировали за границу, ощущаем возрождение православной веры, монастырей. Это так радует и так впечатляет! Но, конечно, мы будем приезжать в Россию. Это наша Мать. Была и остаётся.
* * *
Как только мы закончили монтаж фильма, я выслал копию сёстрам в Германию, а сам фильм «Великая княгиня Елизавета» был представлен на кинофестивале «Семья России» и на Международном фестивале православного кино «Покров», где удостоился наград. Всё время меня не оставляло ощущение, что фильм делается с молитвенной помощью преподобномученицы Елисаветы и что та встреча с инокиней Марфой, вдруг приехавшей из Германии, была совсем не случайной.
http://www.rusvera.mrezha.ru/598/5.htm
|
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ Генерал Власов: кем он был, кем он не стал и кто он для нас сегодня? |
«Так надо»
Самый крупный недостаток книги отца Георгия в том, что он не ограничился предложением по-христиански взглянуть на историю власовского движения. Мне близки некоторые интонации этого священника, его сострадание к тем несчастным, которые пошли за Власовым. Это действительно был шаг отчаяния людей, которым ненавистен был и большевизм, и нацизм. Именно поэтому немцы им ни одной минуты не доверяли. Но, к сожалению, они стали предателями как раз в тот момент, когда действительно могли что-то искупить. Для этого требовалось не отречься, не изменить присяге, не «спасать Россию», подобно вождям февральской революции, а просто делать что должно. У отца Георгия принципиально иная точка зрения. Вот слова, которые, собственно, и стали детонатором скандала, оскорбили большинство читателей книги:
Генерал Власов
«Наше общество состоит из людей, в подавляющем большинстве живших во лжи, служивших злу и сейчас упорно делающих вид, что вся их жизнь прошла в служении правде. Они “служили России” – называлась ли она Советским Союзом, называется ли она Российской Федерацией, – а на самом деле эти люди, не способные вот так честно и последовательно, как генерал Власов и его сподвижники, перечеркнуть свою прошлую жизнь, служили не России и служат не России, а служат только себе».
Здесь мы видим настойчивый призыв признать выбор Власова единственно правильным. Для меня это выглядит как предложение осудить деда, погибшего на войне, и отца мамы – израненного, но уцелевшего, ведь они не смогли «честно и последовательно перечеркнуть». Дело вовсе не в том, что «подавляющее большинство» соотечественников отец Георгий Митрофанов обвинил в служении себе, а не России. Просто взамен той лжи, в которой мы выросли, автор предложил новую – несравненно худшую, призвав поставить тех, кто изменил своей земле, выше людей, сохранивших ей верность.
Сегодня нередко можно слышать: «Если начнётся война, не вижу причин, по которым я должен проливать кровь за чиновников и олигархов». Это мысль не одних только негодяев, а многих и многих. И появилось это «не вижу причин» не 20 лет назад, а в феврале 1917-го, обрушив не только фронт, но и страну. Оказывается, можно пренебречь Отечеством, более того, выступить против него с оружием в руках, если тебе не нравится его политическое устройство. Не хочу упрощать. Большевизм принёс столько бедствий, что даже такие патриоты, как генерал Пётр Краснов, запутались, поддержав врага в 41-м. Но хотелось бы, чтобы его трагедия, трагедия тех честных русских людей, которые последовали за ним или же за Власовым и другими, стала для нас уроком. Чтобы выработан был категорический ответ на вопрос: почему мы должны защищать свою родину? По той же причине, почему нужно почитать родителей, как бы ты к ним ни относился. Так надо!
Эта тема очень волновала Достоевского, однажды воскликнувшего: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной!» Есть вещи, которые недоказуемы и вместе с тем настолько священны, что без них обессмысливается всё наше бытие. Этого не понимает Смердяков, персонаж «Братьев Карамазовых», разглагольствующий: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
Чем эта позиция отлична от той, на которую встал генерал Андрей Власов? Да, в 41-м мы были неизмеримо глупее, чем в первую Отечественную войну, но дело ведь вовсе не в этом. Есть несколько скреп, благодаря которым Россия до сих пор не погибла. Одна из них: со своими затруднениями мы должны разбираться сами. Внешнего же врага бей по морде, даже если она симпатична с виду. Неприятие этого постулата не делает нас христианнейшими христианами, а просто лишает духовного реализма.
Воспитательная работа
Попробую объясниться.
В годы холодной войны участие России в разгроме Гитлера сознательно недооценивалось на Западе. Так, в официальной британской версии Второй мировой войны, написанной Л. Гартом, борьбе на Восточном фронте посвящено лишь 10 процентов текста. К сожалению, на этом попытки пересмотреть историю не закончились. Стала утверждаться мысль, что единственными победителями являются страны мировой демократии, в то время как СССР был таким же хищником, как и нацистская Германия. Соответственно, ни о каком уважении к бывшему союзнику не может быть и речи.
Советские военнопленные
К чему это приводит? Лагерь смерти в Саласпилсе, где нацисты замучили более пятидесяти тысяч человек, официально именуется в Латвии «воспитательно-трудовым». Вот несколько методов воспитания, которые там применялись:
– нанесение смертельных травм тупыми твёрдыми предметами;
– отравление больных детей и взрослых мышьяком;
– частое выкачивание крови, вплоть до наступления смерти (только детей).
Охрана лагеря каждый день выносила из детского барака в больших корзинах окоченевшие трупики погибших мучительной смертью детей. Они сжигались за оградой лагеря или сбрасывались в выгребные ямы и частично закапывались в лесу.
«Не такое уж это страшное место, здесь ведь людей в печах не сжигали», – пояснил мэр Саласпилса Юрис Путниньш кандидату на пост директора музея Татьяне Фаворской. От него она узнала и новое название мемориала, которое прежде не афишировалось, хотя и не скрывалось, – «Музей двух оккупаций». Как пояснил Путниньш одной из латвийских газет, «вся Латвия была оккупирована советской властью, и значит, памятник её жертвам можно устраивать в любом месте».
Разумеется, мэр не был наказан. У нас часто не понимают, почему в Прибалтике разрешено проводить марши эсэсовцев и где черпал наглость президент Эстонии А. Ансип, обратившись к ним со словами: «Как можно считать бессмысленным то, что люди исполняли свой долг перед своим народом и государством?» Всё объясняется очень просто. Реабилитация карателей произошла на Западе ещё в 1950 году. Государственный секретарь США Джон Макклой подписал тогда документ, где подчёркивалось: «Балтийские части Ваффен-СС (Балтийские легионы) должны рассматриваться отдельно от немецких частей СС, у балтийских легионов были особые цели, идеология, действия и условия членства; поэтому комиссия не считает это движение враждебным правительству Соединённых Штатов».
Я напомню: Хатынь сожгли, убив там даже младенцев, не немцы, а именно эти люди с «особыми целями». На их совести значительное число массовых убийств мирных жителей в Прибалтике и Белоруссии. Поручик Балтинш из РОА (Русская освободительная армия) сообщал полковнику Позднякову в Ригу о зверствах латышских легионеров в деревнях Князеве (Красное), Барсуки, Розалино и др. на исходе 1943-го:
«...Мне всё-таки удалось поговорить на латышском языке с несколькими эсэсовцами. Я спросил у одного из них, почему вокруг деревни лежат трупы убитых женщин, стариков и детей, сотни трупов непогребённых, а также убитые лошади. Сильный трупный запах носился в воздухе. Ответ был таков: “Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских”. После этого сержант СС подвёл меня к сгоревшей хате. Там лежало также несколько обгорелых полузасыпанных тел. “А этих, – сказал он, – мы сожгли живьём”. Когда эта латышская часть уходила, она взяла с собой в качестве наложниц нескольких русских женщин и девушек...
После ухода этой части, не более ротного соединения, я с помощью ещё нескольких человек разрыл солому и пепел в сгоревшей хате и извлёк оттуда полуобгорелые трупы. Их было семь, все были женскими, и у всех к ноге была привязана проволока, прибитая другим концом к косяку двери. Мы сняли проволоку с окоченевших обгорелых ног, вырыли семь могил и похоронили несчастных, прочитав “Отче наш” и пропев “Вечную память”.
Немецкий лейтенант пошёл нам навстречу. Он достал доски, гвозди, отрядил в помощь нам нескольких солдат, и мы, соорудив семь православных крестов, водрузили их над могилами, написав на каждом: “Неизвестная русская женщина, заживо сожжённая врагами русского народа – латышскими эсэсовцами”».
«Особые», по выражению госсекретаря Макклая, цели эти люди сформулировали предельно чётко: «Уничтожить как можно больше русских». В отличие от прибалтов, нас на Западе воспринимают как народ, который «нуждается в цивилизационной коррекции». Убийства лишь один из методов, есть другие, более деликатные способы воспитания. Является ли книга о. Георгия Митрофанова «Трагедия России: “запретные” темы истории ХХ века» частью этой работы? Мой ответ – да. Хотя отец Георгий искренне с этим не согласится. Точно так же, как поручик Балтинш и многие другие – те, кто стал заложниками чужих планов относительно России.
«Германия не посягает»
Надпись на фотографии: «Русский должен умереть, чтобы мы жили»
Проследим путь генерала Власова, чтобы лучше это понять. 27 декабря 1942 года в Смоленске генерал Власов заявил: «Германия не посягает на жизненное пространство русского народа и на его национально-политическую свободу». С этой неправды началось его падение. Защитники власовского движения говорят, что планы немцев о колонизации наших земель, истреблении 30 миллионов русских стали известны лишь на Нюрнбергском процессе. Это не так. Нацисты не оповещали оккупированные области о своих намерениях, но никогда их не скрывали. Вот рассказ одного из военнослужащих РОА Петра Палия:
«Генерал добровольческих соединений Кёстринг выступал перед офицерами дивизии с политическим докладом.
– Какими будут взаимоотношения между Германией и Россией после разгрома совдепии? – задали вопрос из зала.
Кёстринг подошёл к большой карте, приложил указку к Уральскому хребту и сказал:
– Вот эта линия определяет интересы Германии. Всё, что к западу от неё, должно быть под контролем Германии, всё, что к востоку, до самого Тихого океана, – полностью ваше!
Свист и крики возмущения раздались в ответ. Опрокидывая стулья, офицеры начали выходить из аудитории. Кёстринг, красный как рак, сел в машину и уехал не простившись...»
То есть власовцы вполне искренне считали себя патриотами России. Нацисты, по их мнению, были малоприятной силой, способной расчистить нашему народу путь к свободе. Однако это была лишь фантазия, и многие участники власовского движения отлично понимали, что их цели недостижимы. Здесь я хочу сказать, что у советского солдата выбора не было. Он дрался за физическое выживание своей страны. Власовцы прежде всего боролись за собственное выживание.
За что сражается отец Георгий Митрофанов, противопоставляя Власова Сталину, я не знаю. Гитлер из этой картины просто выпал. Подобная двусмысленность не является чем-то уникальным, мы сталкиваемся с ней каждый день: из двух зол человек всегда выбирает «добро». Здесь нет парадокса, ибо выбрать зло, то есть небытие, мы не можем в принципе. Это не просто противно нашей природе, а является её абсолютной противоположностью. Поэтому даже самый жестокий человек либо облагораживает одно из зол, либо игнорирует его, подыскивая альтернативу. Заменив Гитлера Власовым, а борьбу против родины борьбой за Россию, петербургский священник смог развязать, как ему показалось, один из трагических узлов нашей истории. Что на самом деле?
«Спаситель Отечества»
Он был по-настоящему талантливым, опытным командармом – генерал Власов, человек, который смог отбить первый штурм Киева. Это была наша первая серьёзная победа в войне, месяца на два связавшая немцам руки. Переоценить эти недели невозможно. Успех Андрея Власова не был случайностью. 99-я дивизия, которую генерал возглавлял накануне войны, стала благодаря ему одной из лучших в Красной армии. Мощный, умный человек. Поэтому и не верю я, что он не знал, насколько безнадёжны были все его планы о создании национальной, независимой России после победы над Сталиным. Может, кто-то ему пообещал это? Ничего подобного. Не было дня, когда бы нацистская верхушка скрывала, что она собирается сделать с русским народом.
22 июня 41-го года гитлеровские солдаты узнали, что они заранее прощены за преступления, которые совершат против гражданского населения СССР. Для сравнения: вступая на территории Франции, Бельгии и Нидерландов, каждый солдат Вермахта получал памятку с «Десятью заповедями о ведении войны», где предписывалось вести себя прилично, не нарушать международных правил ведения войны. В отношении русских прозвучало распоряжение – не церемониться. Так мир узнал, что означает для законопослушного западного человека безнаказанность. Вот несколько эпизодов из книги «За что сражались советские люди».
Младший воентехник Сергей Дашичев, выбираясь из окружения, наткнулся на следующую картину. «Я видел, – вспоминал он, – на окраине одной деревни близ Белостока пять заострённых колов, на них было воткнуто пять трупов женщин. Трупы были голые, с распоротыми животами, отрезанными грудями и отсечёнными головами. Головы женщин валялись в луже крови вместе с трупами убитых детей. Это были жены и дети наших командиров».
Пьяные фашисты ловили львовских девушек, затаскивали их в парк Костюшко, чтобы надругаться. Священник одной из львовских церквей В. Л. Помазнев с крестом в руках пытался предотвратить насилие над девушками. Его избили, затем сорвали рясу, спалили бороду и закололи штыком.
Да, лично с Власовым Гитлер не делился своими планами. Такими, например: «Моя миссия, если мне удастся, – уничтожить славян. В будущей Европе должны быть две расы: германская и латинская. Эти две расы должны сообща работать в России для того, чтобы уменьшить количество славян. К России нельзя подходить с юридическими или политическими формулировками, так как русский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, и мы должны применять колонизаторские и биологические средства для уничтожения славян».
Но дело в том, что генерал попал в плен в середине 42-го года, когда нам удалось вернуть часть территорий, захваченных нацистами, и их зверства по отношению к русским уже не были тайной. «Эта война особенно жестока, – писал Власов жене Анне Михайловне незадолго до плена. – Сволочи фашисты ведь решили совсем варварски стереть с лица земли наш могучий народ. Конечно, это их бредни. Конечно, мы уничтожим эту гадину».
Вопрос вот в чём: мог ли он надеяться, что созданная им организация сможет после победы над Сталиным диктовать Гитлеру какие-то условия? Нет, генерал отлично понимал, что на уничтожение его армии немцам потребуется от нескольких часов до несколько недель. Так что же им двигало?
Генерал Лукин
Генерал Власов выступает перед последователями
В своём «Слове...», посвящённом власовскому движению, отец Георгий пришёл к следующему выводу относительно власовцев: «Конечно, они были предателями. Потому что в 1917 г. оказались с теми, кто разрушал ту Россию, которой служили их предки – крестьянским ли трудом, священническим ли служением, дворянской ли службой. Они были предателями почти четверть века. И осознание этого обстоятельства, происшедшее в экстремальных условиях войны, в особых условиях плена, заставило их во многом переосмыслить свою жизнь...»
Это неправда. Сотни тысяч наших пленных отказались от сотрудничества с фашистами, предпочтя смерть, не потому, что любили большевиков. Упомянутый выше Пётр Палий писал о разговорах с товарищами по плену, настроенными принципиально антисоветски. Однако служить немцам они категорически не желали. Вот один из эпизодов: «Один умный и хороший человек, работавший в чертёжке, узнав о моём решении идти в РОА, сказал мне: “Нужно быть доведённым до предела отчаяния, чтобы сознательно сделать выбор между врагом внешним и врагом внутренним в пользу внешнего! Я лично этого сделать не могу, хотя и знаю, что мне придётся пережить, если я доживу до того момента, когда снова окажусь в руках врага внутреннего [то есть в руках НКВД]».
Понимая, что Гитлер желает уничтожения России, они не пожелали обманывать себя. Наиболее ярко вся ложь власовского движения открывается нам на примере генерал-лейтенанта Михаила Фёдоровича Лукина. В прошлом он был комендантом Москвы, крупным военачальником. В октябре 1941-го руководил окружённой группой армий в районе Вязьмы, сковывая противника. Его части дрались до конца. Михаил Фёдорович попал в плен тяжелораненым, лишившись ноги. Шок, который переживали все окруженцы, не миновал его. Был момент, когда он готов был с оружием в руках пойти против Сталина, твёрдо убеждённый: большевики – поработители России. Это внушило немцам некоторые надежды на его счёт. Один из создателей власовского движения, капитан Вильфрид Штрик-Штрикфельдт, восхищался Михаилом Фёдоровичем заметно больше, чем своим подопечным Власовым:
«К наиболее выдающимся представителям такой группы принадлежал генерал Лукин, человек сильного характера и большого обаяния... В результате плена и наблюдения над политикой нацистов Лукин стал крайне недоверчив. Он не верил в желание германского правительства освободить народы России. Он спросил Власова:
– Вы, Власов, признаны ли вы официально Гитлером? И даны ли вам гарантии, что Гитлер признает и будет соблюдать исторические границы России?
Власову пришлось дать отрицательный ответ.
– Вот видите! – сказал Лукин. – Без таких гарантий я не могу сотрудничать с вами. Из моего опыта в немецком плену я не верю, что у немцев есть хоть малейшее желание освободить русский народ. Я не верю, что они изменят свою политику. А отсюда, Власов, всякое сотрудничество с немцами будет служить на пользу Германии, а не нашей родине.
– А если немецким офицерам, которые нам помогают, всё же удастся добиться изменения политики, Михаил Федорович?..
Я видел, что Власов цеплялся за эту последнюю надежду, которая была и моею.
Лукин ответил коротко:
– Тогда, Андрей Андреевич, мы, пожалуй, смогли бы и договориться.
Власов был подавлен».
Без ноги, с недействующей рукой, Лукин страдал в плену больше многих, но отвергал любую помощь со стороны сподвижников Власова. Один из них – генерал Фёдор Трухин – на суде в Москве показал: «С Михаилом Фёдоровичем Лукиным я знаком примерно с 1925 года. Находясь в лагере Вустрау в качестве руководителя курсов восточного министерства, я узнал, что Лукин находится в Пинтенхорсте, и выехал к нему. При встрече Лукин произвёл на меня впечатление сильно истощённого и исстрадавшегося человека. Я сообщил ему, что освобождён из плена и состою на службе у немцев. Лукин в ответ высказал своё враждебное отношение к немцам и уверенность в победе Красной армии».
Именно его антиподами оказались вожди власовского движения. Оказывается, можно вести себя и так. Переосмыслить прошлое, не изменив никому и ничему.
Социалистская интеллигенция
В противопоставлении Сталина Власову есть что-то трагикомическое. Как заметил писатель Николай Коняев, оба они носили собственную форму, отличную от образцов РОА и Красной армии: френчи с большими накладными карманами, брюки с лампасами, шинели без погон. Под борта своих френчей и шинелей и тот, и другой любили закладывать большой палец правой руки. Надо полагать, что не генералиссимус Сталин копировал генерала Власова, а наоборот. Ближайшими сподвижниками Андрея Власова были:
– Бригадный комиссар Жиленков, в прошлом первый секретарь Ростокинского района Москвы, без пяти минут член ЦК партии. В Германии получил виллу, обзавёлся красавицей-секретаршей, породистыми собаками. Карикатуризировать его, впрочем, не стоит. Штрик-Штрикфельдт писал после освобождения из американского лагеря, что Жиленков «без сомнения, был наилучшим товарищем, которого можно было себе пожелать в плену. Гордый и независимый в отношениях с победителями, всегда готовый помочь и жертвенный в отношении всех остальных. Он раздавал свои сигареты и часто даже часть своего пайка». К Власову Жиленков никогда бы не примкнул, если бы не страх смерти. Его должны были расстрелять за участие в подпольной деятельности. Для верующего смерть не самое страшное, но Жиленков был атеистом. Именно это его сломало. В советскую систему он верил до конца.
– Милентий Зыков – идеолог движения. Он был убеждённым коммунистом, евреем, врагом Сталина, написавшим практически все воззвания Власова.
Поясним, почему именно эти трое советских выдвиженцев оказались во главе «Освободительного движения». Дело в том, что Гитлер совершенно чётко сформулировал, какую судьбу он уготовил тем русским областям, в которых не нуждался Третий рейх: «Новые государства должны быть социалистскими, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Здесь достаточно будет лишь примитивной социалистской интеллигенции». Власов, Жиленков, Зыков устраивали Гитлера именно как образчики «социалистской интеллигенции».
Актёрство
Трудно описать все стороны характера генерала Власова. Он был сложнейшим человеком, в котором самым невероятным образом сочетались отвага и малодушие. Вот эпизод его берлинской жизни, описанный одним из биографов: «Власов отдал распоряжение пускать всех соседей в небольшое бомбоубежище, оборудованное в саду виллы, в которой он жил... Когда мы подошли к спуску в бомбоубежище, оно было уже полно людьми. Власов не захотел, чтобы из-за него кто-то должен был выйти, и просидел всё время до отбоя в саду около входа в бомбоубежище».
Известно, что он не кланялся под пулями, не боялся смерти как таковой. Но испытывал при этом почти панический страх перед лишениями, необходимостью в чём-то себя ограничивать. Генерал обладал громадной энергией, жаждой жизни, виртуозно умел лгать, актёрствовать, предавать, но в то же время мало кто мог устоять перед его обаянием. Казаться, прежде всего в своих глазах, для Андрея Власова было важнее, чем быть.
Трагедия Власова, как и всего власовского движения, к которому примкнули тысячи людей, не лишённых благородства и любви к родине, – в отсутствии внутреннего стержня. Того стержня, который свойственен настоящим людям, тем солдатам, которые ни в СССР, ни в фашистском плену не теряли себя. Если сравнивать офицера, примкнувшего к РОА, с отказавшимся это сделать, далеко не факт, что изменник будет выглядеть хуже. Крепкий духом человек может быть раздражителен, замкнут, менее чуток. Его главное отличие – надежность, то качество, которое покоится не на желании нравиться окружающим, а на внутреннем убеждении.
В Андрее Власове надёжности не было совсем. Единственным человеком, ясно сознававшим это ещё до войны, была жена генерала – Анна Власова. Муж изменял ей непрестанно, что не мешало ему писать: «Дорогая Аня!.. Я тебя прошу, будь мне верна. Я тебе до сих пор верен. В разлуке с тобой люблю тебя крепче прежнего». В тот же день он отправил аналогичное письмо своей любовнице – Агнессе Подмазенко, от которой также требовал верности: «Смотри, не изучай немецкий язык, как раньше, с капитаном, а то приеду, будет тебе нагоняй на орехи». Несчастная, кстати, была убеждена, что является законной женой генерала. Он заверил её, что оформил все необходимые бумаги. С этой мыслью она и отправилась потом в лагерь, как член семьи изменника родина. «Власов изменил всем своим женщинам, – замечает писатель Николай Коняев, – кроме последней, вдовы эсэсовского генерала, – просто не успел». Троежёнцем генерал стал незадолго до конца войны. Это, разумеется, не считая тех связей, которые его ни к чему не обязывали.
Во всём этом чувствуется артистизм, который окружающие редко распознавали. Врал он легко, практически не задумываясь. Однажды русский генерал Лампе, настроенный против Гитлера, отказался поддержать власовское движение, объяснив: «Видите ли, Андрей Андреевич, мы с генералом Красновым – монархисты...» Реакция была мгновенной. «Поезжайте в наше село, господа генералы, – торжественно заявил Власов. – Там вы найдёте ещё одного монархиста – моего отца. Он – кирасир, и его идеал – император Александр Третий». К этому времени отец Власова уже несколько лет как умер.
Последняя измена
Но наибольший интерес для нас всё-таки представляет вопрос: верил ли Власов, хотя бы немного, в возможность для России, избавившись от большевиков, избежать нового рабства? Или он преследовал другие цели?
Попытаемся найти ответ в воспоминаниях капитана Вильфрида Штрик-Штрикфельдта. (Что представлял собой Власов, идеалист Штрик-Штрикфельдт так и не разобрался, однако невольно обличил его измену в книгах, написанных после войны.) Здесь нужно сказать о капитане несколько слов. Этот немец был уроженцем Петербурга и офицером Русской армии, добровольно вступив в неё во время Первой мировой войны. Он на всю жизнь сохранил любовь к нашему народу, искренне верил, что здоровой части руководства Вермахта удастся, переиграв Гитлера, создать свободную Россию. Эта надежда вдохновляла его достаточно долго. Но когда она умерла, он порвал с власовским движением.
Именно те военные, которые не были враждебно настроены к русскому народу, изначально стояли за власовским движением. Среди них были достаточно крупные фигуры, например Фельдмаршал фон Клюге. Но фюрер наотрез отказался менять свои планы относительно «недочеловеков». «Власов был подавлен», «генерал Власов был глубоко разочарован», – пишет Штрик-Штрикфельдт. Дошло до того, что генерал заявил, что вернётся в лагерь. Его тут же бросились отговаривать. «К счастью, Власов был способен слушать чужое мнение. Он отложил своё решение», – обрадовался Штрик-Штрикфельдт. То, что его «развели», он, кажется, так никогда и не понял.
Между тем рождаются новые надежды. Фон Клюге и большая группа немецких военных собирается свергнуть Гитлера. Власов предупреждён. Заговор рушится, поступают вести о первых погибших. Штрик-Штрикфельдт пишет:
«Меня охватили мрачные предчувствия.
– Наши друзья, – сказал я.
– О таких покойниках не говорят как о друзьях, – заметил Власов. – Их не знают».
Он знал, о чём говорил, так как сам был членом военного трибунала в Ленинградском и Киевском военных округах. Ни одного оправдательного приговора по его инициативе вынесено не было. Казалось бы, всё, крах, возвращайся в лагерь. Власов и не подумал этого сделать. Однако Красная армия наступает, и нацисты вновь вспоминают о власовцах. Ими заинтересовался сам рейхсфюрер СС Гиммлер – человек, который к русским испытывал патологическую ненависть.
Что дальше?
«Проходило время, – пишет Штрик-Штрикфельдт, – и все мои надежды постепенно исчезли. Я убедился, что гиммлеровская “перемена курса” не была действительной переменой. Я сказал Власову, что у меня из-под ног выбита почва и что мои внутренние силы иссякли.
– Я вижу только один выход, Андрей Андреевич, – сказал я. – Вы должны ехать в Прагу и обнародовать Манифест. Тогда весь свободный мир услышит о вас. А когда пражские церемонии закончатся, вы должны уйти, заявив, что национал-социалистическое правительство не сдержало данных вам обещаний. Только так вы можете заложить фундамент для будущего развития. Я знаю, что это легко сказать и трудно сделать. Без сомнения, это приведёт вас в лагерь или в тюрьму. Но Русское Освободительное Движение будет жить».
Поясню, это был единственный шанс спасти десятки тысяч людей, которые доверились Власову. Единственный. Если бы генерал исполнил просьбу Штрик-Штрикфельдта, союзники, быть может, не решились выдать участников РОА Сталину. Но что делает Власов? Жалеет, что нет рядом тех людей, которые отговорили в прошлый раз вернуться в лагерь. Зыкова нет, он «нашёл бы решение. Он всегда чуял его». Куда же подевался этот Зыков? Немцы его выкрали и казнили. Власов сделал вид, что идеолог дематериализовался сам собой – покойников не знают. Наивный капитан-русофил припёр его к стенке. Что делать? Наконец генерал разражается патетической речью о том, «что миллионы людей надеются на него... Он не может бросить их, он должен идти по этому пути до горького конца».
С.Я. Огурцов
Очередная женитьба и обеспеченная жизнь несколько скрасили ему этот путь. Так Власов снова предал, на этот раз не Сталина и не Красную армию, а тех, кто доверился лично ему. Одно из последних свидетельств о нём: в тюрьме НКВД в 1945 году генерал ухитрился выпросить для себя двойную пайку. За себя он боролся до конца. Я намеренно проигнорировал большую часть свидетельств в пользу Власова не для того, чтобы демонизировать его образ. Просто в основном это мифы, созданные с лёгкой руки самого генерала или его сподвижников, рождённые иногда попыткой оправдаться, иногда благодушием людей вроде капитана Штрик-Штрикфельдта или духовника власовского движения протоиерея Александра Киселёва. Это очень хорошие люди, просто они не понимали, с кем и с чем имеют дело.
Нет, Власов не был воплощённым злом, так же как и князь Курбский, Гришка Отрепьев или Мазепа. Просто мне по сердцу совсем другие люди: профессор академии Генштаба генерал-лейтенант Д. М. Карбышев, казнённый в концлагере Маутхаузен; генерал-майор авиации Г. И. Тхор, замученный за участие в Сопротивлении; генерал-майор П. Г. Новиков – участник обороны Севастополя, умер от истощения и побоев в концлагере Флоссенбюрг; Герой Советского Союза генерал-майор К. М. Шепетов, расстрелянный за попытку к бегству; генерал-майор С. Я. Огурцов. Командир лучшей в Красной армии танковой дивизии. 10-я танковая вышибала немцев из советских городов уже в первые дни войны и отступала лишь по приказу. В августе возглавил борьбу окружённых частей 6-й и 12-й армий. Дважды бежал из плена, командовал в Польше партизанским отрядом. Погиб в бою с фашистами.
Владимир ГРИГОРЯН
http://www.rusvera.mrezha.ru/598/4.htm
|
ОПТИМИСТЫ |

В гостях у Наташи
О Наташе Логиновой и её матери Ираиде Григорьевне знают не только в Сыктывкаре. Дело в том, что они объездили много святых мест России, а Наташа побывала даже в Англии и Америке. В этом, наверное, не было бы ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство. Наташа – инвалид-колясочник и с детства не способна передвигаться без посторонней помощи. Но, вопреки болезни, смогла закончить училище культуры, а затем Академию Госслужбы Республики Коми. После этого занимала высокие должности в городском и республиканском обществах инвалидов. Получив ещё одно образование – в московской региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Наталья Логинова стала обучать молодых инвалидов адаптироваться к окружающим условиям. А сейчас, как помощник депутата, старается решать проблемы инвалидов ещё и на законодательном уровне.
С тех пор как в 1988 году Наталья Александровна создала клуб инвалидов «Оптимист», двери в квартире Логиновых не закрываются. И не потому лишь, что там проводятся заседания клуба. Просто со временем у Наташи и Ираиды Григорьевны появилось много друзей. Люди тянутся в эту семью, находя там любовь и радость. Когда я пришёл в гости к Наташе, её мамы дома не было. Ираида Григорьевна уехала на несколько дней в деревню помогать своей больной сестре.
В двухкомнатной квартире идеальный порядок, повсюду иконы. Наташа встретила меня, стоя на костылях, и передвигалась с большим трудом. Я первый раз увидел, как она самостоятельно ходит, и у меня, честно сказать, сердце защемило. До этого я видел её только в инвалидной коляске. Спросил, зачем она мучается, пытаясь ходить сама. «Так мне ведь тоже надо ходить, мышцы тренировать», – ответила Наташа. В этом она вся – постоянно борющаяся со своим недугом, преодолевающая неимоверные трудности в достижении цели. Наташа сразу же пригласила меня к столу, попить чаю. «Не беспокойтесь», – сказал я, видя, как трудно даётся молодой женщине каждое движение. «Ну почему же нет, – бодро ответила она, – к нам очень многие приходит, и мы всегда собираемся на кухне».
В этот момент к квартиру позвонили, в гости пришла духовная сестра Наташи – Нина. Они вместе учились в Свято-Филаретовском богословском институте в Москве и путешествовали по святым местам. Нина взялась хозяйничать на кухне, и мне не пришлось увидеть, как Наташа справляется с обязанностями хозяйки. В квартире она всё умеет делать сама: готовить обед, прибираться. Более того, Наташа решила обо всех своих умениях и навыках, а также достижениях своих друзей-инвалидов подготовить учебный видеофильм. Ей хочется передать накопленный опыт тем, кто пока не сумел приспособиться к трудностям жизни инвалида.
Ираида Григорьевна и Наташа в Оптиной пустыне
На маминых плечах
За чаем расспрашиваю Наташу о её жизни, пытаясь понять, откуда в этой хрупкой девушке, обделённой с рождения здоровьем, столько силы воли и оптимизма.
– Почему так получилось, что ты не можешь ходить? – спрашиваю Наташу.
– У меня родовая травма. В детстве я ещё худо-бедно могла передвигаться небольшими шажками на носочках, но потом, в надежде улучшить моё состояние, врачи сделали несколько операций. К сожалению, неудачных. После этого я практически совсем обезножела.
– Ты у мамы одна?
– Да, одна. Папа ушёл, когда мне было четыре годика. Но сейчас у нас с ним хорошие отношения. Уже когда я стала взрослой, а у него была другая семья, папа встретился со мной. Видимо, у него произошло какое-то осмысление, покаяние. И сейчас мы настолько дружны, что об обидах нет и речи.
– В садик ты, наверное, не ходила? – задаю следующий вопрос.
– Почему же, ходила. У меня мама там работала.
– И поэтому устроила тебя в свою группу? – догадываюсь я.
– Наоборот, в воспитательных целях устроила как раз не в свою группу, а в параллельную. И даже когда мы с ней в садике встречались и я обращалась к ней: «Мама», она мне всегда говорила: «В детском саду я тебе не мама, а Ираида Григорьевна». Я тогда на неё обижалась, мне трудно было осознать, что всё это она делает для того, чтобы я не была в привилегированном положении по отношению к другим детям. Но ко мне там все воспитатели относились очень хорошо, помогали, и я не чувствовала себя в чём-то ущемлённой или обделённой.
– А в школе ты как училась?
– Мама отправила меня на пять лет учиться в интернат для инвалидов, в такой маленький городочек Кохма в Ивановской области. Раньше это был детский дом. Здание старое, не приспособленное для инвалидов. Всюду грязь, убожество. Но мы там жили очень дружно, и вообще, годы, проведённые в Кохме, много мне дали, закалили. Каждый день я на костылях проходила несколько сот метров от учебного корпуса до жилого, поднималась по высоким длинным лестницам. Когда полы были только что вымыты, ещё мокрые, я часто падала. Постоянно летала с этих лестниц вниз головой и очень сильно расшибалась. Врачи меня, бывало, зашьют, и я дальше учусь. Но однажды, когда я особенно сильно разбила голову, ко мне подошла воспитательница и говорит: «Знаешь что, Наташка, ты когда-нибудь так упадёшь и больше уже не встанешь». И тогда до меня дошло, что я, действительно, могу разбиться насмерть. О смерти дети не думают, а мне пришлось об этом задуматься очень рано. И когда после этого случая я приехала домой на каникулы, то сказала маме, что больше в интернат не вернусь.
– И где же ты дальше училась?
– Доучивалась на дому в 12-й школе. Все мои учителя были замечательными людьми. И сейчас ещё, когда мы встречаемся на улице, часто разговариваем по душам. Со сверстниками, правда, я в школе практически не общалась, только с соседкой-подружкой и ещё одной одноклассницей, которая приходила ко мне домой.
– Тоскливо, наверное, было в школе?
– Да, в этот период я начала задумываться, для чего я живу, почему одни люди здоровые, а другие – больные, почему такая несправедливость. Вопросы множились, а ответов не было. Тогда я ещё не осознавала, что всё от Бога, что моя болезнь, может быть, дана для моего же спасения. Вскоре Господь послал мне такую деятельность, что я забыла о своём одиночестве и тоске. Дело в том, что в 1988 году я попала в городское общество инвалидов, которое тогда только что образовалось, и сразу же инструктор мне предложила заняться работой с молодёжью. За нахлынувшими делами скучать и грустить было некогда. Я создала свой клуб – «Северное сияние». Мне дали огромный список инвалидов. Я всех обзванивала и приглашала к себе домой. Начались чаепития, разговоры по душам.
– Ну и чем же вы занимались в своём клубе?
– Каждый про себя думал, что он самый бедный и самый несчастный человек, всеми забытый и брошенный. А когда мы нашли друг друга, это стало огромной радостью – просто пообщаться, понять, что мы не одиноки. Потом стали выезжать на природу – в Алёшино.
– А это где – Алёшино? – спрашиваю я, услышав неизвестное название.
– Нина Михайловна, а где находится Алёшино? – в свою очередь, обращается Наташа за помощью к подруге. – Я и сама не знаю где. Нас везут и везут, а где оно?
– Это за городом, на Вычегде, – отвечает Нина Михайловна. – Там такой высокий, красивый сосновый берег – известное место отдыха.
– А зимой начали праздники отмечать, театральные постановки устраивать, сказки ставить на сцене, – продолжает Наташа. – Всё это для того, чтобы как-то сблизиться, отвлечься от своих проблем. Лишь когда мы насытились общением, стали задумываться, что нам делать дальше. Пока мы состояли при городском обществе, у нас не было возможности заниматься трудовой деятельностью, каким-то бизнесом. А хотелось. Тогда при своём клубе мы зарегистрировали организацию, которую назвали «Оптимист» (потому что были оптимистами!), и начали своё дело.
– Чем вы занимались?
– Около «Детского мира» нам дали в аренду киоски, там инвалиды-колясочники работали, продавали продукты, конфеты и прочее. Зарабатывали мы тогда неплохо, некоторые ребята даже смогли машины себе купить, не новые, конечно. Какая-то часть от прибыли шла на нашу организационную деятельность. Нам в городском обществе к тому времени выделили своё помещение. Потом некоторые из ребят стали учиться бизнесу, закончили курсы предпринимателей, а я пошла в училище культуры, захотела стать библиотекарем. Думала: «Книги читать люблю, вдруг получится в библиотеке поработать». Параллельно с учёбой возглавляла своих «оптимистов». Наверху заметили, что у меня вроде как дела неплохо идут и переманили в председатели городского общества. Я не хотела идти, потому что у нас был свой мир, свои дела. А в городском обществе много пожилых людей, с которыми не всегда можно найти общий язык. Плюс хозяйственная деятельность. Долго я всего этого не смогла тянуть... В конце концов отказалась от этой должности.
Меня умиляет её искренность и какая-то детская непосредственность, присущая очень чистым и хорошим людям.
– Ну и как же потом жили? – задаю вопрос в образовавшейся паузе.
– А потом мы решили поступать в Академию Госслужбы.
– С кем решили, с мамой? – уточняю я.
– Ну, без мамы-то я вообще ничего не смогла бы сделать, мама все мои «университеты» вместе со мной прошла. Но поступили мы вчетвером: я и трое друзей по клубу. И потом помогали друг другу учиться.
– А вы знаете, как её мама в школу и в садик водила? – спрашивает у меня Нина Михайловна. – Коляски-то тогда у них не было.
– Ну и как же?
– На себе таскала. Забрасывает на спину и тащит. А мама у неё такая маленькая да щупленькая, сама, как Наташа, а вот ведь вытащила ребёнка в люди.
– Да она и на прогулки меня точно так же носила, – вспоминает Наташа. – Иногда предложит: «Пойдём погуляем». – «Мама, я не пойду, на меня все смотрят». Всё равно уговорит. Идёт со мной по улице, а какие-нибудь сердобольные бабушки останавливаются, начинают причитать: «Ой, какая ты бедненькая, какая несчастная!» Мама психует. Ей такая жалость не нравится, и я тоже не хочу, чтобы меня жалели.
На коляске я стала другим человеком
Рекламный столб расположился ровно посредине пандуса: попробуй проехать!
– В 1988 году, когда я вступила в общество инвалидов, у меня появилась коляска, – рассказывает Наташа. – И моя жизнь переменилась, я стала себя чувствовать совершенно другим человеком. Первое время, правда, боялась выезжать на улицу, думала, что на меня будут пальцами показывать. Тогда ещё на колясках в нашем городе никто не выезжал. И вот однажды я так сидела и рассуждала и вдруг спросила себя: «Почему я так уверена, что на меня все будут смотреть? У людей свои дела, никому до меня вообще нет никакого дела». С тех пор мне кажется, что на меня действительно никто не смотрит.
– А как тебя мама поднимала по этажам Академии Госслужбы?
– Она меня только привозила перед занятиями к учебному корпусу и уходила, а там я уж сама на костылях как-то передвигалась. Но у нас лекции были не только в главном корпусе, но ещё и на улице Южной. Туда добираться, наверное, с полкилометра. Хорошо, что мы поступили вчетвером – у остальных проблемы были со зрением, ещё с чем-то, и они помогали мне на коляске преодолевать долгий путь. Мы во всём поддерживали друг друга.
Самое тяжёлое было добираться до академии зимой. От нашего дома до места – с километр. А снег зимой во дворе не чистят, сугробы огромные, особенно плохо в морозы. Помню, как-то раз мы выехали из квартиры, огибаем дом, а там, где выезд на улицу, проход загромождён горой снега. В этом сугробе коляска застряла – ни туда ни сюда. Обычно, если мы кого-то просим помочь, всегда помогают. А тут – мужчина идёт мимо. Мама к нему: «Помогите, пожалуйста, через сугроб коляску перенести!» Он посмотрел-посмотрел на нас, а потом говорит: «А зачем?» И пошёл дальше. Мы даже растерялись.
Чудо с квартирой
– Расскажи, как ты к Богу пришла?
– Крестилась я в 90-м году за компанию с товарищами. Я даже не помню, как это происходило и кто нас крестил, потому что веры ещё не было, не осознавалась важность этого момента.
По-настоящему я поверила в Бога после того, как Господь помог нам получить квартиру. Это было чудом, и я всем сердцем обратилась к Богу. Мы долго стояли в очереди на жильё, которая практически не двигалась. Но однажды ко мне пришла знакомая, которая сказала: «У меня есть одна молитва – “На всякое доброе дело”. Ты почитай её, Господь и поможет». Я начала читать эту молитву. Маме ничего не сказала. Просто просила Господа помочь получить нам квартиру. И вдруг друзья предлагают мне поехать в администрацию города, потому что вышел указ, по которому вместо квартиры можно получить денежную субсидию. Очереди на субсидии ещё не было, поэтому я быстро всё оформила и получила деньги. Мы продали старую квартиру и купили новую – двухкомнатную, в центре города, на первом этаже. Всё произошло молниеносно. Через два месяца после того, как начала молиться, мы переехали. Ни мама, ни я не верили, что это может так быстро произойти. Это было чудо, которое очень укрепило меня в вере.
А года через два так получилось, что я лежала в больнице с одной верующей женщиной. Палата большая, нас двое. У соседки моей сын погиб в Чечне, но она смиренно к этому отнеслась, ни на кого не роптала! Мы с ней тогда день и ночь напролёт разговаривали. Женщина отвечала на все мои вопросы, а потом рассказала, что с братьями и сёстрами во Христе они живут словно одна семья, вместе молятся, читают Священное Писание, помогают друг другу. Говорю ей: «Как бы я тоже хотела, чтобы у меня были такие же верующие друзья!» Тогда среди моих знакомых верующих не было. И вот – только стоило мне так подумать – выписываюсь я из больницы, прихожу домой, как тут же звонит знакомая. Я ей рассказываю, с каким чудесным человеком в больнице лежала, а она говорит: «Так я знаю таких православных людей. Они у нас в Сыктывкаре тоже есть. Хочешь, будут приходить к тебе домой?»
И тут я поняла, что это ответ Бога на мою просьбу. Я только-только этого захотела – и тут же Господь мне на блюдечке преподнёс. «Конечно, хочу!» – ответила. И вот ко мне пришли православные, которые проходили оглашение в Свято-Филаретовском богословском институте. Мы с ними стали изучать богослужение, молитвы, Ветхий и Новый Завет... На лекции к нам приезжали преподаватели из Москвы. Почему мы раньше с мамой в храм-то не ходили? Не понимали, что на службе происходит, не знали церковнославянского языка. А тут нам всё разложили по полочкам. Кроме совместного обучения, мы ещё молились, духовно поддерживали друг друга. Если нужно было, то и материально помогали. С тех пор со своими духовными сёстрами во Христе больше не расстаёмся. Я благодарна Господу, что попала в это православное сообщество – семью, где люди становятся роднее, чем родственники по крови. Все, кто прошёл оглашение в институте, постоянно ходят на богослужения, исповедуются и причащаются, почти все трудятся при храмах и ведут какую-то миссионерскую работу. Кроме того, мы стараемся помогать нуждающимся.
– А деньги откуда?
– У нас обязательная десятина – десятую часть из своих денег мы отдаём Богу. Раньше, когда я видела нищих на улице, всегда трудно было им что-то пожертвовать. А теперь, как только получаю пенсию, десятую часть убираю в отдельный кошелёк, и так легко эти деньги отдавать! Потому что знаешь, что они уже не твои, а Божьи. И они всегда есть, не надо думать, где и откуда их взять. Мало того – чем больше ты отдаёшь, тем больше тебе Господь даёт. Мне даже иногда кажется, что деньги у нас появляются, с Божьей помощью, каким-то чудесным образом, словно кто-то их нам подсовывает. Другие, смотришь, и зарплату большую получают, а им постоянно не хватает. А у нас и пенсии маленькие, но не помню такого, чтобы мы сидели без денег.
Послесловие к авариям
– Наташа, насколько мне известно, у тебя вновь начало ухудшаться здоровье после того, как ты несколько раз пострадала в ДТП.
– Первый раз это случилось в 2003 году. Ещё при приближении к той дороге, где всё произошло, за несколько десятков метров мама говорит мне: «Наташа, мне страшно!» «Да чего страшно-то, – успокаиваю её, – мы здесь всегда переходим». Посмотрели по сторонам: вроде машин не видно. Мама вывезла меня на дорогу. И вдруг коляска сама собой застопорилась, хотя никто её на тормоза не ставил. Вижу, что на нас мчится машина. Кричу: «Мама, быстрей!» Она рванулась вперёд, и в этот момент машина на большой скорости сбила нас. Меня выкинуло далеко вперёд на дорогу, а мама перелетела через машину и упала за ней. Лежу на асфальте в полном сознании, вижу маму, думаю, что она уже не живая и что моя жизнь тоже закончилась. Потому что какой смысл жить – если мамы нет?! Шофёр вышел из машины, обматерил нас в три этажа и уехал. Потом кто-то вызвал «скорую». Приехали сразу две машины: на одной меня увезли, на другой – маму. Я еду и всё спрашиваю врачей: «Что с мамой? Что с мамой?» «Да мы-то откуда знаем? – отвечают. – Она в другой машине». Я тогда находилась в ужасном состоянии, и вдруг через верхний люк «скорой» на меня упали солнечные лучи – я как-то успокоилась и почувствовала, что всё будет хорошо. Нас привезли в Эжвинскую больницу – у мамы ключица сломана, нога в нескольких местах, у меня сильно позвоночник повреждён, кончик пальца оторвало. Маму сразу же направили в реанимацию, она долго была без сознания. И пока мы находились в больнице, наши сёстры во Христе каждый божий день приезжали из города, дежурили около нас. Мама, попав под машину, вообще потеряла память. Когда мы к ней приходили, она порывалась вскочить с кровати и бежать. Ей постоянно являлись какие-то звери, медведи приходили по ночам. Из-за этого она не могла спать – реальность перемешалась с видениями. Пригласили отца Пафнутия пособоровать её. И после этого мама рассказала, что как-то проснулась среди ночи и увидела перед собой лицо мужчины. Он вглядывался в неё, как будто решал, оставлять её на этой земле или нет. После этого все её видения прекратились.
Во время соборования сёстры спросили у отца Пафнутия о нас с мамой: «Ну за что их Господь наказал? Они и так уже инвалиды». А батюшка говорит: «Не спрашивайте за что, а думайте для чего?» Действительно, это происшествие ещё сильней сплотило всю нашу группу. В это время такая была братская дружба и помощь!
А второй раз я попала в аварию в 2007 году. В Республиканском обществе инвалидов я тогда проводила тренинги для руководителей городских и районных организаций. Был декабрь, очень сильный гололёд. И вот после занятий меня взялся подвезти домой наш начальник. Помню, как навстречу нам вылетела легковушка, Геннадий Витальевич резко свернул вправо, и мы полетели в кювет, кувыркаясь. При этом я чувствовала, будто нахожусь в какой-то капсуле, а вокруг меня всё крутится. Машина три раза перевернулась и встала прямо на колёса на куст. Её сильно помяло, стёкла вылетели, сиденья оторвало, а мы практически не пострадали. Начальник спрашивает меня: «Наталья Александровна, вы как?» – «Да вроде живая». А на дворе уже ночь, мороз. Геннадий Витальевич вылез из машины, поднялся по склону, голосует, но никто не останавливается. Мы очень долго просидели в этой яме, замёрзли. Я позвонила маме по сотовому, сообщила, что произошла авария, все живы, но мы никак не можем выехать. Попросила, чтобы за нас все сёстры помолились.
Потом у начальника сын приехал на своей машине. Много раз пытался меня вытащить по склону обрыва на дорогу, но подъём скользкий, так что дотащить меня удавалось только до его середины, после чего мы летели вниз. Слава Богу, возле нас остановилась «скорая помощь». Выходят санитары, спрашивают, что произошло. «Вам необходимо сделать рентген». Но я отказалась, потому что мне назавтра нужно было идти на работу. А на следующий день, когда проводила тренинги, врачи в перерывах между занятиями меня отпаивали корвалолом. Шок от аварии ещё не прошёл, но была надежда, что всё обойдётся. К сожалению, не обошлось. Где-то через год у меня начались такие сильные боли в ногах, что я перестала вообще спать. Только тогда обратилась к врачам. Оказалось, у меня компрессионный перелом шейного отдела позвоночника и ущемление спинного мозга. Из-за болей с работы пришлось уволиться, живу на таблетках, приходится постоянно ездить по больницам... Сейчас я занимаюсь только общественной работой в качестве помощника депутата.
В пути
– Наташа, расскажи, с чего начались ваши путешествия по святым местам?
Сначала поездка у нас была в Дивеево. Мы с мамой долго готовились, ждали этого паломничества, ведь оно было у нас первым. И вот буквально в ночь перед отъездом, когда мы размораживали холодильник, вода протекла на пол, я поскользнулась, упала и сильно разбила голову. Кровь, фингал в поллица. А утром выезжать. Что делать? Решили всё равно отправляться в путь, батюшка Серафим поможет. В Дивеево нам очень сильно хотелось на святые источники походить, а у нас ни транспорта, ничего нет. И только об этом заговорили, как возле нас останавливается маршрутка, водитель спрашивает: «Вы не хотите на источники съездить?» – «Конечно, хотим!» Оказалось, что он из Сыктывкара. Отвёз нас на источники и потом все дни, что мы там были, возил нас по святым местам. Когда я начала умываться святой водой, синяк быстро сошёл на нет и рана сразу же зажила.
– А ещё я очень сильно хотела приложиться к дивеевским преподобным Александре, Елене и Марфе, – дальше рассказывает Наташа. – Сёстры ходили, прикладывались, но мне этот маршрут было не осилить. Мощи в Казанском храме, туда вниз ведут очень крутые и узкие лестницы. И вот я уже попрощалась с мечтой, время нашего паломничества подошло к концу, и мы уже начали собирать вещи, как вдруг кто-то предложил напоследок сходить в церковь. Когда шли к храму, увидели, что вокруг монастыря идёт крестный ход с мощами Александры, Елены и Марфы. Их переносили из Казанского храма в собор к мощам батюшки Серафима. И мы с крестным ходом зашли в собор и вместе со всеми приложились к дивеевским преподобным.
Такой была наша первая поездка. А потом мы и в Оптину, и в Троице-Сергиеву лавру ездили, и в Кирилло-Белозерский, и в другие монастыри.
У нас и у них
– Как ты попала в Англию и Америку? Расскажите, пожалуйста.
– Когда я проводила тренинги для инвалидов в Москве, меня пригласили в Англию на обучающий семинар. Там есть такой центр интегрированной жизни в графстве Дербишир, где мы перенимали опыт английских инвалидов. Я жила в семье двух колясочников. Что поразило – они живут совершенно самостоятельно, имеют свой двухэтажный дом, где меня поселили на втором этаже. Между первым и вторым этажом имеется лифт, оборудованный специально для инвалидной коляски. У жены Мэриан только руки работают. Муж Кен – тяжелейший больной: ни ходить, ни руками двигать не может, к тому же очень плохо говорит, и Мериан за ним ухаживает. Она сама водит машину, оба они работают – Мериан в школе преподаёт, а Кен как раз в этом центре интегрированной жизни, который нас и пригласил. В Англии работа с инвалидами ведётся не так, как у нас. В России к инвалидам прикреплены социальные работники, которые выполняют только те функции, которые предусмотрены договором: сходить в магазин, в аптеку, убраться в квартире. В Англии при каждом инвалиде есть персональный государственный помощник, который старается раскрыть какие-то таланты в этом человеке. Вот Кен – он физически ничего делать не может, но у него светлая голова. Он сам разрабатывает тренинги для работы с инвалидами, а потом сам же их и проводит. Персональный помощник все его мысли записывает на компьютер и оформляет в виде учебных пособий. Он освоил речь Кена, которую разобрать очень трудно, нашёл с ним контакт. Там каждый инвалид сам себе выбирает персонального помощника, чтобы была психологическая совместимость.
Всё делается для того, чтобы инвалиды не чувствовали себя ущемлёнными. Дома без пандусов не сдаются, а если автобус без подъёмника для колясочников, перегораживают ему дорогу в такой своеобразной сидячей забастовке, не дают ему двигаться. Мы до такого уровня ещё не дошли, только перепиской с правительственными структурами добиваемся своих прав. Просим: «Пожалуйста, сделайте то, сделайте это».
А в Америку меня отправили по программе «Открытый мир». Американцы собирают лидеров общественных объединений России для того, чтобы наладить контакты с ними. Однажды мне пришло письмо из Москвы, где сообщалось, что я прошла три отборочных тура в России и ещё где-то в Америке, победила по каким-то критериям. Я до сих пор не знаю, кто обо мне туда написал. Даже не догадывалась, что участвую в конкурсе. В Америке принимали нас протестанты в своих семьях, возили везде: по школам, яслям, музеям. Там я познакомилась с одним инвалидом, который совершенно парализован после аварии – только одним пальчиком может шевелить. Когда мне сказали, что у него есть своя машина и он сам ею управляет, я не поверила, попросила показать. Оказалось, что у этого человека очень большая машина, он подъезжает к ней на коляске, нажимает какую-то кнопочку, двери открываются, из машины выкатывается пандус. Человек по нему заезжает прямо на то место, где у нас находится руль, только вместо руля там у него пульт. С помощью этого пульта он одним пальчиком управляет всем автомобилем.
– Наверное, в социальном плане у нас инвалидам живётся гораздо хуже, чем на Западе?
– У нас, в принципе, неплохое законодательство об инвалидах, но оно часто не работает. Проблема ещё и в том, что сами инвалиды не знают своих прав. Как-то я познакомилась с одной девушкой, ныне покойной, Царствие ей Небесное, которая, дожив до 30 лет, не знала, что можно получить коляску. Когда я пришла к ней домой, она ползала по квартире. После смерти матери, которая постоянно ухаживала за ней, девушка оказалась совершенно беспомощной. Даже чайник не могла включить, мама её ничему не научила. Это очень плохо, когда человек остаётся один на один с бедой.
Как помощник депутата по вопросам инвалидов, я изучаю их проблемы и законодательство, вижу, какие там недостатки, и вношу свои предложения. У нас раньше была хорошая республиканская программа социальной поддержки инвалидов. Много мероприятий по ней проводилось, финансирование шло. Потом, когда после монетизации программу закрыли, мы долго добивались, чтобы её возродили, но безрезультатно.
Конечно, в Англии и Америке инвалидам живётся легче. За ними ухаживают, помогают. Дома, квартиры и учреждения там приспособлены больше, чем у нас. Я вот прошлым летом ездила с корреспондентом газеты по городу и фотографировала доступность разных учреждений для инвалидов. Выявилось огромное количество недостатков. Где-то пандусов вообще нет, где-то они перегорожены колонной. Вроде бы всё сделали, закон выполнили, а на коляске по пандусу подняться невозможно. На днях ездила в нашу третью поликлинику. Пандус есть, всё замечательно, только ведёт он до входной двери, а внутри здания – лестница, по которой на коляске никак не подняться. То есть много у нас делают не думая. И такие недостатки по всему городу. Потом на заседании в общественной приёмной РК на большом экране мы показывали эти места.
Сейчас мы начинаем работу над новым проектом. Инвалидам очень трудно приспособиться в быту. Многие не могут самостоятельно с утра встать, одеться, обуться, постель заправить. У некоторых нет ни рук, ни ног, и никто их не учит, что делать, – люди сами для себя что-то придумывают. Меня, например, много лет обувала мама, а у меня такая работа – командировки да поездки, надо самой одеваться и обуваться. И я всё думала, думала, как мне из этого положения выйти. И в один прекрасный момент меня осенила идея. Я взяла кожаный ремень, сделала из него петлю, накинула на носок одной ноги, рукой подтянула эту ногу и перекинула её через другую. Теперь я стала способна обуваться самостоятельно. Всё элементарно, а мне нужно было столько лет жить, чтобы до этого додуматься. Есть у меня всевозможные приспособления и для других дел. И не я одна такая, кто борется с немощью. Одна женщина у нас в «Оптимисте», не имея руки, воспитывала двоих детей. Как-то рассказала: «Сколько лет я мучилась, не знала, как почистить картошку. Я её здоровой рукой к животу прижимаю, а она у меня выскальзывает... Наконец додумалась: взяла и разрезала эту картошку пополам. А потом обе половинки по очереди почистила.
Так что решила я собрать все эти идеи и сделать видеофильм или издать учебное пособие. Ведь главное для инвалидов – не отчаиваться, а если есть ещё и практическая помощь, тогда многих можно спасти. Сколько уже моих знакомых поумирало просто от того, что им вовремя не помогли! Мне так хочется помочь тем, кто ещё жив.
* * *
...Вот с таким неравнодушным человеком состоялся у меня разговор. Недавно Наталья сдала вступительные экзамены и начала учиться в богословском колледже, который находится при Свято-Филаретовском православном институте в Москве. Богословское образование ей необходимо не только для себя, но и для того, чтобы помогать в духовных вопросах другим. Все свои силы и умения она готова отдать на служение ближним. А это редкость в нашем одичавшем мире.
Евгений СУВОРОВ
http://www.rusvera.mrezha.ru/598/3.htm
|
Письмо Деду Морозу |
Придя домой, она села проверять детские сочинения. И одно из них очень расстроило ее. Она несколько раз перечитала выведенное старательным детским почерком письмо с просьбой о чуде, но не ошибки старалась найти учительница… Тут в комнату вошел муж.
- Что случилось, дорогая, чем ты так расстроена?
- Вот прочти, пожалуйста, - и она протянула мужу тетрадку.
«Дедушка Мороз, я не буду просить у тебя многого. Исполни всего лишь одну мою просьбу. Сделай меня хоть ненадолго телевизором. Я очень хочу, чтобы родные по вечерам собирались вместе и выслушивали меня, не перебивая. Чтобы папа, вернувшись после работы, спрашивал у меня о том, что в моей жизни произошло нового. А мама, когда ей грустно, приходила ко мне. Чтобы мне радовались как новому телевизору, который теперь в нашей квартире занимает почти всю стену. Я бы подвинулся, чтобы нашлось место и для ёлочки. Я так хочу хоть немного пожить жизнью телевизора!»
- Бедный ребенок… И, послушай, есть же такие родители, - возмутился муж учительницы.
Жена подняла на него полные слез глаза:
- Дорогой, это написал наш сын…

|
Понравилось: 1 пользователю
ДОРОГА ЖИЗНИ (притча) |
Но однажды утром старик не обнаружил коня в стойле. Вся деревня осудила старика: «Ты – невезучий глупец, ведь ясно было, что коня когда-нибудь украдут. Уж лучше бы ты его продал! Что ты будешь делать дальше?»
Старик сказал: «Я не знаю, ушёл ли он или его увели. Я не знаю, невезение это или благословление, и уж о том, что последует за этим, знает только Бог». Люди засмеялись: они всегда знали, что старик немного не в себе. Но спустя некоторое время конь неожиданно вернулся, мало того, он привёл с собой трёх жеребят.
Односельчане загудели удивлённо: «Почему ты не ликуешь? Ведь ты был прав, старик, это не было невезением, это оказалось большой удачей». Но старик ответил: «Я не знаю всей истории. Знаю только, что коня не было, потом он вернулся. Кто знает, благословение это или нет? Мы прожили всего несколько недель – как можно судить о целой жизни?» Люди же всё равно были уверены, что он не прав, ведь коней стало больше! У старика был единственный сын. Он начал объезжать жеребят, упал и сломал ногу. Люди сказали: «Вот ведь Бог тебя покарал! Твой единственный сын лишился возможности ходить, а ведь он был тебе единственной поддержкой! Уж лучше бы ты тогда продал коня, были бы хоть деньги». Но старик спокойно отвечал им: «Я только знаю, что сын упал и сломал ногу. Никто не знает, наказание это или благословение».
Так случилось, что скоро в стране разгорелась война, и всю молодёжь забрали в армию. Только сын старика остался, потому что был покалечен. Односельчане горевали, потому что сражение скоро было проиграно и большинство молодёжи погибло. Они пришли к старику и сказали ему: «Ты был прав: может быть, твой сын и покалечен, но он с тобой, наши сыновья ушли навсегда». Только старик не опечалился и не восторжествовал, сказав: «На всё воля Божия. Дорога, которой мы идём, видна нам только до ближайшего поворота, и лишь Господь видит её всю».

Серия сообщений "ПРИТЧИ":
Часть 1 - СВЕЧА ОТ ГРОБА ГОСПОДНЯ
Часть 2 - А доверяем ли МЫ Господу?..
...
Часть 19 - О ДВУХ КАПЛЯХ МАСЛА
Часть 20 - ПРИТЧА О БЛАГОЧЕСТИИ
Часть 21 - ДОРОГА ЖИЗНИ (притча)
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ |
В воскресенье, 15 сентября, к концу литургии приехали ребята двух воскресных школ. С ними были и родители. Наш маленький храм не мог вместить всех. Молебен о начале всякого дела служили на улице, потом общались. Смотрю на детей и радуюсь: как они слушают, как легко до них доходят евангельские слова! Взрослые, наполненные суетой, так воспринимать их не в состоянии.
От чего у нас вера? Священное Писание гласит, что от слышания. Я когда-то призадумался: почему я верующий, а мой ровесник веру напрочь отвергает. Ответ прост. У меня мама верующая, которая меня любит и желает мне блага. Она во мне, несмышлёныше, сеяла семена веры. И конечно, через неё, маму, которой я доверялся, обретал веру. Свидетельствовать о вере может по-настоящему верующий, любящий других людей человек. Тогда можно ожидать плодов её. Впоследствии мне казалось, что эту веру я потерял, но с пережитыми искушениями она жила во мне и окрепла.
Дети с радостью слушают, потом складывают дрова, убирают территорию. Снуют, как муравьишки, все радостные, несмотря на пасмурную погоду. Потом трапезничаем и поём. И опять молимся – служим благодарственный молебен. Окропляю детей и взрослых святой водой. Чуть ли не со слезами расстаёмся, с надеждой встретиться вновь…
Опять звонит бабушка несчастной внучки, которая хотела покончить с собой. Предлагаю побеседовать с девочкой прямо в больнице. Она раньше ходила в храм, носила крестик и причащалась. Но год назад заявила, что Бога нет, что она не доверяет Церкви и духовенству. А со мной встречаться не хочет, потому что «придёт большой и добрый человек, будет говорить о Боге, а ей это не надо. Она в Него не верит». Так передала мне бабушка её слова. Возможно, приукрасив, чтобы мне было не так больно.
Я настаиваю. Назначаем дату: день чуда Архистратига Михаила – в надежде, что святой архангел вместе с небесными силами уж в этот день точно поможет. После литургии, помолившись, подъезжаю к больнице в назначенное время. Проходим с бабушкой больничными коридорами. Почти все здороваются и кланяются – и врачи, и больные, даже дети. Некоторые берут благословение. Видно, что они любят Церковь и почитают священство, и это придаёт мне чувство легитимности. То есть я не партизан в своей богоборческой стране, а сама страна, её люди причисляют себя к Божьему народу. Когда вошли в палату, девочка истерично закричала: «Пускай уйдёт, я его не звала!» Она не взглянула на меня и кричала явно для того, чтобы медперсонал удалил меня из палаты. Легитимность стала убывать. Если бы рядом были правозащитники, могли бы на меня и в суд подать. Я стал молиться про себя, а девочка выскочила на пост, после чего в палате я пробыл один минут пятнадцать. В это время девочка кричала: «Я не хочу видеть его! Он сейчас там навоняет. Хочу, чтобы он ушёл!» «Хочу» и «не хочу» – эти слова всегда ранят меня. Из-за них у людей-«хочучек» многие проблемы между ними и обществом. Потом девочка уселась на стол и начала играть во что-то в своём недешёвом для её возраста телефоне. На кровати валялся её воспитатель – ноутбук.
Я вышел из палаты и уселся на посту напротив неё, молясь про себя. Просидели так больше часа. Она так ни разу и не взглянула на меня, не подняла головы. Сидеть дальше не имело смысла. Я стал прощаться, трижды обратившись к девочке по имени и говоря: «До свидания!» Наконец она кистью правой руки, пальцами вниз, трижды взмахнула от себя. Жест этот чётко давал понять: «Можешь быть свободен, выметайся». И даже под чёлкой опущенной головы ощущалось написанное на лице торжество: «Ну что? Ничего у тебя не вышло!» Моё праздничное настроение окончательно улетучилось. Да, я давно пришёл к выводу, что священник – не тягач и не толкач в Царствие Небесное. Сам человек должен захотеть там оказаться, а Церковь и священство призваны лишь помочь ему. Но здесь было обратное – отказ от помощи. Что ждёт эту девочку, которая уже сейчас покрикивает на медработников, замахивается на бабушку? Сделает ли она кого-то счастливым на земле?
Как могло случиться, что человек, который ходил в воскресную школу, причащался, вдруг вышел из Церкви? Быть может, с верой было что-то не так, а может, и не было её вовсе? Для некоторых Бог – это кто-то вроде Хоттабыча, волшебник, исполнитель желаний. Но поскольку Бог не таков, она в Нём разочаровалась. Может, предки её были святотатцами. Здесь нет никакой мистики: дурное из поколения в поколение продолжает передаваться через воспитание, и, наоборот, не передаётся хорошее. Это можно победить, таких примеров немало, хотя и трудно. Очень трудно. У меня есть один ближний, у которого мать пьяной сгорела на пожаре, в другой раз отец пьяный не дошёл пяти метров до дома, замёрз насмерть, брат повесился. И сам он пьёт, мучит всех, говорит, что хочет умереть. Раз за разом выкарабкивается из этого состояния и снова падает.
Как в этом случае помочь?
Девочка, с которой я так и не смог пообщаться в больнице, первое, что потребовала, вернувшись домой, – купить ей телефон за 15 тысяч. Бабушка покорно согласилась. Она боится потерять внучку, поэтому и исполняет все её желания. Да и время сейчас такое, что ты обязан потакать детям, иначе государство может их отнять. И боюсь, что этой девочке люди уже не помогут. Остаётся надежда лишь на Бога, только Он может спасти. Мы же с бабушкой её, пока живы, будем молиться. Чтобы было девочке за что ухватиться, если захочет.
Игумен ИГНАТИЙ (Бакаев)
http://www.rusvera.mrezha.ru/693/11.htm
|
ЕСТЬ ПАЛОЧКА! |
– Это их бесы держат, – ответил тот.
Ответ исчерпывающий. Но меня он не убедил. Представил, сколько католиков и православных проходят каждый день мимо этих йогов. Иные молятся при этом про себя, иные крестят кудесников – кто пятернёй, кто троеперстием. Может ли бес такое выдержать? Маловероятно, хотя есть описания случаев, когда святая вода помогала опустить человека на землю.
Жену история, рассказанная знакомой, весьма впечатлила. «Узнай, пожалуйста, что всё это значит», – попросила она. Волею пославшей мя жены приступил к изучению темы. Мнения на этот счёт есть самые разные. Например, такое: способность летать заложена в человеческой природе, ведь до грехопадения наши предки ни в чём не уступали ангелам. И если долго тренироваться, упорствовать, можно какие-то из возможностей выцарапать обратно.
Зерно моих сомнений в невозможности левитации начало набухать и давать ростки. Римские йоги не давали мне покоя. Представил, как висит себе такой живой плакат: «А вы, христиане, так не можете!» Это сколько колеблющихся они соблазнили! Ведь способность человека летать всегда производила сильное впечатление.
Правда, православные святые обычно парили над землёй только во время молитвы и непублично. Обнаружив свидетелей, умоляли их до времени молчать. Время наступало после смерти святого.
Летали и латиняне, хотя не всегда понятно, с какой целью. Самый знаменитый из них, Иосиф из Купертино, однажды, испустив крик, взлетел на верхушку оливкового дерева. Ветка под ним оказалась тонкая, так что бедняга натерпелся страху. Чтобы спасти его, пришлось принести лестницу. А вообще, летал он часто и обычно прилюдно. Сидит, молится и вдруг ракетой взвивается в воздух и проносится метров двадцать. Наверно, долго потом не мог прийти в себя от испуга. Как-то не похоже на то, что Господь к этому причастен. Один раз Иосиф завис над землёй в присутствии Папы, в другой – настолько потряс некоего немецкого герцога-протестанта, что тот вернулся в католичество. Видимо, именно этот случай стал основанием для его канонизации, потому что далеко не всем его способность нравилась, иные подозревали неладное.
Католики подсчитали, сколько раз жития их святых повествуют о подобном. Оказалось, 230. И вот сейчас в центре их столицы мира висят какие-то йоги. Висят день за днём, по собственной воле и с таинственной целью.
Бывало ли такое прежде? Оказывается, случалось, причём здесь же, в Риме. Жил такой тщеславный человек в евангельские времена, по имени Симон, впоследствии получивший прозвище Волхв. Но прежде он крестился, полагая, что ученики Христовы искусны в магии, и тоже захотел стать апостолом. Даже деньги предлагал, отсюда и пошло слово «симония». Когда христиане бесплатно объяснили ему, что никакого волшебства в их чудесах нет, Симон не поверил. Случившееся настолько его задело, что со временем он преуспел в магии и вступил, согласно преданию, как-то в спор с апостолом Петром. Желая доказать, что он круче, Волхв даже взлетел и завис в воздухе. Но святой Пётр не стал с ним соревноваться, кто из них летучей. Просто велел, помолившись, прекратить это, после чего маг рухнул на землю, пребольно ударившись.
Теперь где-то рядом с этим местом висят йоги. В какой-то момент мне стало их жалко. «Зачем они это делают, – думал я, – эти живые памятники тщеты и гордыни? Сколько добрых дел не сделано, не рождено детей, не утёрто слёз... Никто не ждёт от йога горячей молитвы за ближнего, он никогда не погибнет за други своя. Всё, что он умеет, – это висеть».
Тут-то и пришла мне в голову мысль, с которой, вообще-то, следовало начать. А может, нет никаких летающих йогов? Индия – страна очень бедная, а голод – мотив исключительной силы. Чего только не придумаешь, чтобы насытиться. Стал выяснять и вскоре понял, что выбрал, наконец, правильное направление. Каждый левитирующий йог опирается на палочку, которая, как он объясняет, нужна ему, чтобы сохранять равновесие в воздухе. Только ли для этого? На одном из видеороликов в Интернете я с изумлением увидел, как йога с этой палочкой разлучают. Оказалось, что к ней прикреплено сиденье, сокрытое во время «полёта» просторными восточными хламидами. Конструкция довольно нехитрая, удивительно, скольких людей она ввела в заблуждение.
Осталось выяснить, пользуются ли чем-то подобным римские йоги. Звоню вернувшейся из Рима знакомой. Палочку в руках одной пары йогов она вспомнила сразу, но третий из них вроде как парил без оной. Как раз под ним знакомая и проводила рукой.
– Вспомни, была палочка или нет, – прошу я.
– Вроде нет. Ты подожди, сейчас посмотрю фотографии.
Спустя какое-то время восклицает:
– Есть палочка!
– Бесы держат?! – бормочу я, раздосадованный, что мы попались на уловку уличных попрошаек.
Недавно я совершил ошибку: научил маму пользоваться Интернетом. Первый же её выход на просторы сети заставил меня схватиться за голову. Мама наткнулась на рекламу некоего «академика» и «народного целителя» из Казахстана Базылхана Дюсупова и поверила, что он способен излечить её от всех болезней. На фотографии этот самый Дюсупов весь увешан какими-то непонятными наградами. Отзывы трудящихся самые положительные: «Полная глухота. Во рту не было ни одного зуба... После 3-го сеанса практический “абсолютный слух”, появились признаки роста зубов...»
Впрочем, до этой ахинеи я добрался несколько позже. А сначала попытался спасти маму от покупки дюсуповского диска «Во имя жизни» за 3,5 тысячи рублей – сумма для моих родителей весьма ощутительная. «Он – лечит!» – уверяла меня мама. Переубеждать бесполезно. Нахожу на одном из торрент-трекеров этот самый диск (спасибо пиратам), помогаю скачать.
Через пару дней мама высказывает крайнее разочарование. Диск откровенно ерундовый, несколько часов заунывного пения каких-то акынов, пара банальных лекций и море рекламы «великого целителя». Но мама – человек упорный. Позвонила распространителям диска, которые заявили ей, что скачивать из Интернета бесполезно, нужно покупать «заряженный» диск. Лишь тогда в душу мамы закрадывается подозрение, что она имеет дело с жульничеством.
Похоже, место крупных бесов занимает какая-то шушера, которая только и может, что фокусничать. Чем занята адская публика посолидней, остаётся только гадать. Возможно, переключилась на политтехнологии.
Владимир ГРИГОРЯН
http://www.rusvera.mrezha.ru/693/2.htm
Серия сообщений "Хронограф "Веры"":
Часть 1 - ЗАЧЕМ?..
Часть 2 - ПЕКЛО
...
Часть 31 - ПОЧЕМУ У НАС ОТНИМАЮТ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Часть 32 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!
Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН
Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»
|
|
Названия цветов и оттенков |
Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
Рисуем котенка |
Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
Игрушки (схемы) |
Это цитата сообщения Lehjjla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
Понравилось: 1 пользователю
ПРИТЧА О БЛАГОЧЕСТИИ |
– Сподобь, Господи, узнать человека, который больше меня в благочестии преуспел.
Господь направил ангела, который рассказал пустыннику, что в городе живёт один зеленщик, который жизнью своей праведной угодил Создателю. Пришёл отшельник на рынок, у многих людей торговых расспрашивал про зеленщика, где ему его найти. Кое-как нашёл: оказался зеленщик человеком из себя совсем неприметным. Стал его пустынник допытывать, чем это он так Господу угодил.
– Человек я маленький, – отвечал зеленщик, – и ума не приложу, чем это я Господу угодить сумел!
Решил пустынник уразуметь, чем это зеленщик так Господу угодил. Встал поодаль и глядит, как тот торгует. У зеленщика корзина пустеет быстро, но монет особо и не прибавляется: просит он за труды немного, а беднякам отдаёт зелень затак. Скоро корзина совсем опустела, и пустынника зеленщик в гости к себе позвал на ночлег. Пошли они через весь город. Шли мимо дворов богатых, где музыка играла и люди веселились, и бедных, откуда только стенания и плач доносились. Дошли и до дома зеленщика. Тот сварил похлёбку из зелени, которой он на рынке торгует, и позвал пустынника за стол.
– Так это вся пища твоя и есть? – спросил пустынник.
– Благодаренье Богу, – ответил зеленщик, – Который меня от щедрот Своих и питает.
– Как полагаешь, – спросил пустынник, – а другие люди тоже Господа благодарят?
– В городе нашем, – ответил зеленщик, – живут люди добрые и благочестивые. Не грешат, спасаются, Господу нашему угождают... И все они Господа нашего за щедрые дары Его благодарят.
– А вот мы с тобой мимо двора богатого проходили – и музыка там играла, и вино рекой лилось, и яств всяких преизобильно. Думаешь, и там Бога славят? – спросил пустынник.
– Конечно, славят! – отвечал зеленщик. – Они-то больше всех и славят, потому как щедрее прочих Господь наш их одарил...

Серия сообщений "ПРИТЧИ":
Часть 1 - СВЕЧА ОТ ГРОБА ГОСПОДНЯ
Часть 2 - А доверяем ли МЫ Господу?..
...
Часть 18 - Притча о счастье.
Часть 19 - О ДВУХ КАПЛЯХ МАСЛА
Часть 20 - ПРИТЧА О БЛАГОЧЕСТИИ
Часть 21 - ДОРОГА ЖИЗНИ (притча)
|
|
СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа |
* * *
Торетий ждал брата с водой и брынзой. Пора бы пообедать, а тот ушёл в ряды торговцев шерстью и половиками и пропал на восемь теней. Над головой лавочки Торетия и соседней, торгующей лавром и специями, стоят двенадцать шестов, которые бросают тени на карнизы рядов по восточному склону рынка. По теням этих шестов уже давно принято считать время. В редкие же дни дождей солнечный Эфес, как и всё Восточное Средиземноморье, зажигает масляные часы. Сейчас они не требуются. Солнце сушит лепёшки Торетия Курпи, а до второй волны покупателей ещё целая линия тени. Где-то далеко-далеко – наверно, у пристани – кричат рыбаки, но звук их голосов долетает сюда только бессвязными «а-а-а», напоминающими о солёных сетях и корзинах под вечерний вынос блестящей жирной рыбы.
Сосед Торетия, торгующий сладостями, дремлет в тени навеса. Другой сосед, справа, взявший баранину с ледника, похоже, начинает нервничать – ему посулили большие закупки: у менялы их рынка вчера родился внук, он обещал угощенье не только родственникам... Но в целом торговля не идёт, слишком много мужчин ушло на войну с персами, остальным кусок сейчас не лезет в горло. Враги, которых ведёт Варахран V, – всего в двух днях пути по Анатолийскому побережью.
В белом от выжженного песка проходе между лавками и арбами тишина и полный покой – спят куры в загороди, распластались собаки. Только вон мальчишка какой-то появился. Идёт, оглядывается, не местный, что ли...
Мальчик, на вид ему было лет двенадцать, подошёл к лавке Торетия:
– Здравствуйте, уважаемый. Сколько стоит ваша лепёшка?
– Диобол... Давай драхму и бери пять.
Мальчик протянул монету, а Торетий, взяв её в руки, оглянулся и прислушался к дальним крикам от рыбачьего причала. Мелькнула мысль: может, кто-то с дальних морей причалил и он, Курпи, неправильно понял крики рыбаков. В руке его сверкала серебряная дидрахма с чеканенными Августом и Агриппой. Такие монеты могут завезти только из Мезии или Фиваиды какие-нибудь полуразбойничьи баркасы. Они давно не в ходу. Ещё дед и прадед Торетия плавили серебро из этих денег на украшения, отдавали их ювелирам на переработку, получая взамен пригоршни медных халков, на которые их император Феодосий Старший позволял закупать мелкий скот у ассирийцев и голанитян.
– Ты откуда? Давно прибыли? – осторожно и деланно равнодушно спросил Торетий, складывая стопочку лепёшек. – Тебе далеко идти? Не уронишь?
– Я местный... Иамвлихом меня зовут. Родители мои и дедушка в глиномесах, на сушильне.
– Каких глиномесах? Их у нас четыре...
– Уважаемый, вы меня простите... а это какой город? Я будто во сне... Это Эфес?
Торетий взял крепко мальчика за руку, благо с лепёшками тот просто уже не смог бы бежать:
– Ты где клад нашёл? Ты зачем врёшь? Ты чей?
Разговор мальчика и торговца становился громче обычного. Сосед слева, торговец сладостями, встал со своего дивана; выглянул из-за груды сушёного перца торговец из рядов напротив... Через несколько минут вокруг Торетия и Иамвлиха стояли несколько мужчин. Они по очереди вертели в руках монету, настойчиво требовали сказать, откуда он и чей. Иамвлих пытался пояснять, но его ответы раздражали торговцев, он будто дразнил их, он говорил о людях, которых нет. Он говорил о городе, которого торговцы не знали. И если бы Иамвлих в своих пояснениях не ссылался на храм Артемиды как на место, на которое можно ориентироваться, то можно было бы подумать, что он говорит вообще о другом городе. А ещё один из торговцев заметил, как пристально смотрит мальчик на его крест на груди...
– Что так смотришь? Ты знаешь Христа? Ты – христианин?
Мальчишка словно приготовился к удару, было видно, что он напрягся и внутренне собрался, кажется, он даже что-то прошептал про себя. Может быть, это была молитва.
– Да, я – христианин, – и через паузу, нахмурив по-взрослому бровки, спросил: – И вы? Или это какое-то украшение?
Мужчины почувствовали в словах мальчика какую-то надежду – быть может, теперь он утолит их любопытство... «Крестоносец» истово перекрестился:
– Истинно говорю – христианин я. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
– И я христианин, да славятся дела апостола нашего Иоанна... – другой мужчина показал крупную татуировку креста на запястье руки. Это были два шрама, залитые когда-то фисташковым экстрактом и посиневшие со временем. Но крест с намёками на «украшения» на руке был явно резан специально. Перекрестился и мальчик. Он был взволнован.
– Вы меня к священнику отведите тогда, – давя в себе слёзы, ответил он, – я ему скажу...
Мальчика вели по белым улицам Эфеса, он оглядывался на кресты и миноры в окнах домов, в начертания распятий и рыб на воротах, в громадную стройку базилики и агоры. Иамвлих, кажется, поражался не стройкам, не новым величинам города, а именно крестам. Жители Эфеса, всего двадцать лет назад окончательно разрушившие храм Артемиды, пока не знали, что город ждёт потрясение большее, чем пожар Герострата, учинённый семьсот лет назад. Солнце ещё не потеряло дневного жара, ещё дремали в дневном отдыхе строители под лесами новых храмов и величественными колоннами базилики, когда от дома священника Мелетия уже толпа числом до ста человек спешила по улицам за город, вовлекая с собой новых любопытных и рождая слух за слухом. По городу разнеслась весть о чуде – о мальчике, явившемся из других времён...
…он говорит о казнях христиан при императоре Декии...
...он рассказывает о Трифоне, усечённом при Аквилине…
...он говорит, что они христиане...
…что их семеро в пещерах...
…что они от казней спрятались...
…и что в городе при них людей было больше, но все боялись готов. А когда ж те готы были? – при бабках наших дедов...
…да куда же вы все?!.
Торетий Курпи свернул товар в полотно, оставив присматривать за ним дочерей, а сам присоединился к толпе, спешившей к пещерам. Толпа шла по склонам белой горы с зарослями чигоры и кипарисовика, по старым тропам, где обычно ходили лишь пастухи окрестных селений, перегоняя стада, и наконец остановилась. «Где? Где они – твои друзья?» – читалось в глазах мужчин и парней, двух девушек, пошедших со старшими братьями и диакониссой общины отца Мелетия. Где они? Не там ли, где далеко-далеко за изгибами склонов, в половине дневного перехода от этих старых пещер, крошат скалы каменотёсы? Но их и не видно отсюда, и не слышно.
Иамвлих пригляделся к зарослям вокруг и свистнул. Потом громко, ещё громче крикнул:
– Ексакусто! Дионисий! Это я. Со мной люди... Хорошие люди. Они христиане. Не бойтесь!
Толпа эфесиан и сам Иамвлих напряжённо вглядывались в замершие склоны.
– Э-э-й! – не в силах выдержать затянувшейся тишины, ещё раз крикнул мальчик. Кусты на склоне дрогнули, и над ними встали юноши – один, два, три... шестеро. И сам Иамвлих – всего семеро. «Семеро не смогут обмануть, запутаются», – успокоенный, не без ехидцы подумал про себя иерей Мелетий – мужчина средних лет, чернобровый, с высоким горбатым носом, унаследованным от бабки, привезённой когда-то из Колхиды лихим морским торговцем-дедом.
Мальчики – старшим было лет по шестнадцать (младшим оказался как раз Иамвлих, назвавший свой возраст «через июлий будет тринадцать») – были испуганы, объяснения младшего товарища, что в городе мало людей и что толпа пришла не убивать их, а на помощь, явно вызывали у них недоверие. Они стояли плечом к плечу, словно сторонясь самого Иамвлиха, уж тем более толпы и всего этого открытого пространства. Наконец торговец Торетий Курпи, чувствуя, что здесь что-то неладно, пошёл простым житейским путём:
– Давайте-ка, отроки, вы свои имена назовите. Всё-таки перед вами люди постарше вас...
Парни пожали плечами, переглянулись. О чём-то перешепнулись между собой.
– Я Максимилиан, сын Олриха-градоначальника, – выступил вперёд русокудрый отрок с крупной родинкой на плече. Он смущённо поправил разодранную накидку и пояс, явно пытался слегка отставить ногу с болтающимися ремнями сандалий.
Толпа загудела, ибо не было у них градоначальника Олриха. Загудела, но в глубине толпы взметнулась рука старика: «Ала, ала! Олрих был! Он был так давно, что… Он жил во времена дедов моих дедов!» Но все уже слышали, и все уже знали, но хотели ещё больше увериться, что видят чудо, настоящее чудо. Иамвлих успел кое-что рассказать...
Вечером понеслись всадники в Константинополь, а после вечерней службы началось церковное собрание, куда пригласили и Торетия Курпи, и священника Мелетия, и старейших уважаемых граждан Эфеса, одному из них – книжнику-каллиграфу Ниверу Гаю Туллу – было под сто лет. «Господь воскрешает мёртвых! Как к Каифе по воскресении Господа нашего Иисуса Христа пришли, из ада восстав, братья Маккавеи с матерью их, так и к нам из небытия пришли казнённые при императоре Декии. Они сто семьдесят два года были мертвы, а теперь воскресли и пришли проповедовать нам бессмертие!» – у базилики Успения Богородицы чуть ли не трубили военные трубы. Во всяком случае, почти весь оставшийся гарнизон Эфеса стоял в оцеплении, сдерживая двадцатитысячную толпу, ожидающую вестей с Собрания. Уже знали подростков, вышедших из глубины веков по именам: Иамвлих, Максимилиан, Дионисий, Иоанн, Антонин, Мартиниан и Ексакустодиан – семеро!
В толпе шушукались. Вдогонку невероятным слухам приходили новости, новые слухи и ещё новости. Вот облетела толпу молва, что в разобранной пещере, откуда отроки вышли, найдены две оловянные пластины с надписями. Их цитировали: «Здесь заживо погребены отроки Эфесские Максимилиан, Иамвлих, Дионисий, Иоанн, Антонин, Мартиниан и Ексакустодиан приказом императора Декия за дерзость и не исповедание Гения, но за хульные проповеди иудейской ереси о Человеке-Боге-Судие. 6 индикта, 5760». И даже подписи составителей тех табличек были известны теперь всему христианскому Эфесу: «Феодор» была надпись на одной оловянной плашке, и «Руфин д», наверно, дьяк, может быть, и воин: «декарх» – во времена Декия это что-то вроде унтер-офицерского чина.
В перистиле дворца градоначальника Эфеса Софрония, вход в который был украшен бронзовыми лошадьми, со стороны пристройки-опсидии на возвышении сидели четыре епископа, несколько священников, разбирающих документы и выполняющих одновременно роли курьеров, распорядителей, а заодно и службы справок и консультаций.
На открытой галерее, рассаженные в два ряда вдоль стены и рядом у колонн, расположились торговцы с рынка, представители стражи, каменотёсы, разбиравшие пещеру, а также главы знатных семейств Эфеса – всего ж было присутствующих около двухсот. Сами отроки сначала стояли у ног епископов, потом им разрешили сесть, и они прилегли у ступеней к подиуму.
Слушание свидетельств шло уже второй торм, деления на масляных часах обнажались дважды.
– Так вы говорите, что отроки сии мясо есть отказались? – спросил один из епископов, глядя на свидетельствовавшего со стороны «первых встретивших», Торетия. – И что ж они ели? Только лепёшки? Воду?
– Мёд, Ваше Преосвященство... Мёд, и один из них попросил рыбу... Печёную рыбу, она была на жаровнях при воротах у одного нашего благочестивого горожанина, когда мы в ходили в город от пещер...
Епископ кивнул каким-то мыслям в себе, повернулся к владыке и что-то шепнул ему. Но о том, что шептали друг другу епископы, уже вовсю громко шумела толпа на улице: «Христос по воскресении тоже ел только мёд и печёную рыбу... Христос по воскресении тоже просил не трогать его, не приближаться слишком близко». На руке Иамвлиха был синяк, похожий на ожог, – это то место, за которое схватил его на рынке Торетий. Другим мальчикам повезло больше. Они были невредимы, потому что Иамвлих своими болями в руке наглядно выказал, что трогать их не надо.
– Общество готово свидетельствовать появление сих отроков от первого мгновения до встречи с Собранием? – задал вопрос епископ, обращаясь к галерее, при этом опять, будто вспомнив что-то, шёпотом обратился к соседу: «Послушайте, Святейший, а их естественные надобности кто-нибудь проверит? Пусть уж проверка будет совсем от альфа до омега...» «До абсурда уж не доводите, уважаемый... Вы ещё их экскременты в ковчежки поместите, – ехидно отбрил второй епископ. – С вас станется. Intelligenti pauca («Для понимающего достаточно и немногого» – лат.)».
Собрание свидетельствовало о чуде единогласно и громогласно. Мальчишки сидели притихшие, но не испуганные, а улыбающиеся чему-то, только им понятному. Они иногда перебрасывались фразами, на вопросы людей почтеннейшего Собрания и самих епископов отвечали кротко и только по существу:
– Вы считаете, что спали одну ночь?
– Да.
– Вы боялись казни?
– Да. Но были уже готовы умереть за имя Христово.
– Много было христиан в Эфесе времён Декия?
– Не знаем. Я помню три общины – одну тайную армейскую, у глиномесов и у рыбаков, – отвечал Максимилиан. – Но, наверное, были ещё...
– Кто был ваш священник?
– Настоятель Пётр, потом его убили, был ещё некоторое время мой тёзка Максимилиан...
– Кто убил Петра и за что?
– Он был гот. Готы и убили, донесли им, что он христианин.
– Как готы могли убить, если они Эфес разрушили уже тогда, когда вы спали?
– Так в армии же полно готов-наёмников. У нас целые экскубиторы были у ламитатов из одних готов.
Даже епископы не знали, и знать не могли, названия подразделений и народные наименования войск союзников... Допрос продолжался. Уже было понятно и епископам, и чиновничьей части Собрания, что вельможи императора Феодосия Каллиграфа не обвинят их в «пустом шуме с подлогами ересей», каких случалось только за последние несколько лет раз двадцать со скандалами и казнями магов и фокусников. Тут были отроки со знаниями и свидетельствами, каких не знали и старейшины, да и таблицы оловянные тоже ведь свидетельствуют, и продолжающиеся всё новые и новые детали жизни Эфеса почти двухсотлетней давности всё продолжают рассказывать эти отроки...
– Почему ты отказался поклониться Гению? Ведь это же не языческий бог, а только статус императора, – с хитрецой спрашивал епископ Илоим, пощипывая виноград с подноса. Он, уличённый в герметических ересях когда-то, двадцать лет назад, всё ещё исподволь доказывал своим братьям и сёстрам по вере, что то была не вера его в учение Гермеса Трисмегиста, а любознательность и стремление к знаниям. Ко всему прочему, надо было ему и потщеславиться верностью Риму через почитание традиций и знание истории.
– Это был статус в духе, противном Христу, – скромно отвечал Максимилиан, – ибо императоры умирали, а гении их оставались для поклонения, как бесы...
Собрание закивало головами, усердно, с деланным уважением к ответу; нахмурив густые лохматые брови, поспешил кивнуть и епископ Илоим.
Икона Семи Эфесских отроков
…На следующий день отроков повезли в Константинополь. Предание донесло до нас, что сам император беседовал с ними тихой беседою, дивясь чуду, и что ещё в XII веке русский паломник Антоний, побывавший на Святом Афоне, заезжал в том числе и в Эфес, где поклонился мощам отроков, упокоенным в той же пещере, откуда они и вышли...
После того как отроки Эфесские засвидетельствовали себя в многолюдном Собрании Эфеса, после того как с ними беседовал император (Феодосий Младший прослыл, кстати, в истории как «книжник», сделавший много для переписывания книг, что сохранило для истории немало культурных памятников); после всего этого – три или четыре дня спустя – Иамвлих, Максимилиан, Дионисий, Иоанн, Антонин, Мартиниан и Ексакустодиан легли, как и положено после вечерней молитвы, спать. Но уже навсегда... Теперь они словно догнали за одну ночь свои сто семьдесят два года.
А восемь лет спустя, в 430 году, на открывшемся Втором Вселенском Соборе случай с отроками обсуждался отдельным Собранием. И епископам нетрудно было догадаться в своих боговдохновенных беседах, что Господь явил чудо потому, что в уставшем от отчаяния потерь и войн народе пропала вера в бессмертие, в жизнь вечную. Ещё бы – каждое поколение хоронило молодых и сильных, детей и стариков после бесконечных войн, набегов варваров и персов. И не было смертям конца, и слабела вера – для чего же эти испытания, Господи?!
А у Бога смерти нет. И время у Него течёт совсем не так, как в наших календарях и на наших часах принято. И сто семьдесят два года могут быть сном одной ночи, и одна ночь может быть адовой пыткой на тысячу лет.
Григорий СПИЧАК
http://www.rusvera.mrezha.ru/689/5.htm
Серия сообщений "О ЧУДЕСАХ":
Часть 1 - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
Часть 2 - Три христианские святыни содержат следы одной группы крови
...
Часть 26 - АНГЕЛЬСКИЙ ЧИН
Часть 27 - ТАЙНА СТАРОГО САДА (Полтавское чудо)
Часть 28 - СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа
Часть 29 - ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ!
Часть 30 - Печать дракона
|
|
РАЗНЫЕ ЖИЗНИ |
Очень похож на многих людей, которых я встречал в жизни. Не хватает банки пива, телевизора, автомобиля. Да и похожих на тех двух черепах я встречал. Человек часто не знает, что ему делать с тем духом, который вложил в него Господь, и бежит от него. Это, конечно, не в укор зверушкам. Они исполняют своё предназначение и часто нас радуют.
В Визябоже, где я живу скоро уже два месяца, мы тоже развели всяческую живность. Четыре индейки, индюк. Восемь кроликов, две дойные козы, три маленькие козочки и два козлика. Их пожертвовали нам супруги из Краснозатонска – Вячеслав Францевич и Зоя Ивановна. Несмотря на свои 76 лет, Вячеслав Францевич заготавливает сено для нас. Дай Бог этим хорошим людям, их детям, внукам и правнукам многие благая лета. Ещё обитают у нас бычок Малыш и пёс-добряк по имени Рекс. Десяток кур и один замечательный петух, который будит всех в пять утра, и его задорное кукареканье звучит словно «Христос воскресе!». Не столько ради достатка мы завели хозяйство, сколько ради трудов по уходу за всей этой живностью. Чтобы заботой о них поднять ответственность у братии да согреться возле братьев меньших душой и сердцем.
Нас 8-10 человек: мы с монахом Павлом, монахиня Мария и несколько трудников. Живём как в раю. Прекрасное, благодатное место. Есть храм. Есть богослужебные книги. Есть одежда, спальные места, еда. Главное – есть чем заняться. Нет многих мирских искушений. Если мы сами не оскверним место проживания и наши отношения, мы можем спасаться и ходатайствовать за других.
Мир поставляет нам больных. Мы часто возвращаем ему здоровых.
Но само собой, без трудностей ничего не делается. Некоторые насельники, чаще всего под действием зелёного змия, оступаются. Отправляю их на неделю-полторы в мир, чтобы сравнили, как там живётся и как у нас. Выбирай, где тебе лучше, где тебя больше любят. Возвращаются. Недавно заехал один батюшка, сказал, что, почуяв запах алкоголя, гонит трудника сразу и без возврата. Я попытался сказать, что душа человеческая выше принципов. Он не согласился, а я не стал дискутировать. Остались при своём.
Но куда моим-то ещё идти, если мы сейчас строим храм во имя мученика Вонифатия, по молитвам которого происходит исцеление от пьянства.
Правда, сейчас дело встало. Нет средств. До влиятельных друзей-строителей не дозвониться – видно, не хотят больше, чтобы я их беспокоил. Надежда только на Божью помощь, прихожан да на читательскую поддержку. Мы же будем совершать «дело веры и труд любви и терпение упования на Господа» (1 Фес. 1, 3). Записки о недугующих алкоголем, наркоманией и прочими страстями можете отправлять по адресу: 168022, Республика Коми, Корткеросский район, д. Визябож, местечко Хутор, 8. Если заказным, то на имя Александра Григорьевича Бакаева (игумена Игнатия). А то и сами приезжайте. Гости нас навещают. Жили две недели восемь детишек разного возраста и шестеро взрослых. Есть где помолиться, чем заняться, отдохнуть. Одно купание в реке чего стоит!
Пришёл недавно человек, пенсионер, предложил за плату поработать водителем, да и много чего руками делать умеет. Дом у него очень хороший, человек с богатым жизненным опытом. Объясняю, что много платить не можем. Нечем. Вот пенсия у меня – десять тысяч, могу предложить целиком, а труд сверх того во славу Божию. Так как в водителе большой нужды нет, а хозяйство большое, есть где приложить умение, спрашиваю: «Не могли бы взяться? Там подчинить, здесь залатать». Человек посоветовался с женой и отказался. Зарплата маленькая, хлопот много, а что такое «во славу Божию», он не понял. Просто набор звуков. И ушёл.
А я новыми глазами взглянул на наших трудников. Все они помяты жизнью: кто пил, у кого ещё какая беда. Но вот вечерний молебен, читаю отпуст, смотрю на братию. Какие мне родные люди! И я им уже не чужой. Это не хомячки и не черепашки. О таких, как они, наверное, апостол Павел писал: «скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11, 37-38). Без зарплаты, без развлечений, поощрений, отпусков к южным морям, за еду, за кое-какое жильё и одежду, потеряв надежду на справедливое человеческое отношение (в миру), братья стоят, молятся в простоте. Молятся не только о своём спасении, но и обо всём несчастном мире, обо всём погибающем во грехах мире. Господи, благодарю Тебя, что я с ними и могу быть им полезен.
Игумен ИГНАТИЙ (Бакаев)
http://www.rusvera.mrezha.ru/689/8.htm
|
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ СЛУЖЕНИЕ 5 августа был убит псковский священник Павел Адельгейм |

...Вечером позвонила Наталья Чернавская, мой друг, окаменевшая от горя. Всё сжалось внутри. Один вопрос: «Кто?» «Отца Павла убили», – сказала она. Они знали друг друга много лет. Наташа помогала ему в детском приюте, созданном батюшкой.
Приют давно уничтожен, отняты были храм при Областной психоневрологической больнице и приход в Писковичах, где отец Павел прослужил 20 лет, и так далее. Была ещё и клевета в адрес отца Павла. О гонениях на него со стороны псковского архиерея Евсевия хорошо известно.
Полная беззащитность русского духовенства перед гневом начальствующих лиц была постоянной болью батюшки, и переживал он далеко не о себе самом. Пострадавших в историях, похожей на его, много больше, чем кажется. Не говоря о прихожанах, которые переживают шок, развращаются те священники, которых вынуждают давать ложные показания против собратьев по служению, «правильно» голосовать. Бог им судья, почти у каждого многодетная семья, и любой может оказаться следующей жертвой. Никакие враги Церкви не способны причинить столько вреда, сколько наносится нами, её членами, допускающими подобное...
Отец Павел быть молчаливой жертвой отказался и... победил. Церковный суд под председательством митрополита Краснодарского Исидора разоблачил ложь в адрес батюшки, настоятельно рекомендовав «митрополиту Псковскому и Великолукскому Евсевию и протоиерею П. А. Адельгейму, следуя духу евангельской любви, лично встретиться для взаимного прощения и примирения». Святейший Патриарх это решение утвердил.
Отец Павел родился в семье, где иметь характер, честь было нормой. Его дед по отцу – русский немец Павел Бернардович Адельгейм – был расстрелян по ложному обвинению в 37-м. Дед по матери – полковник царской армии Никанор Григорьевич Пылаев – пропал без вести во время Гражданской войны. После ареста матери будущий священник прошёл через детдома, был послушником Киевской лавры, затем поступил на учёбу в Киевскую духовную академию. Оттуда его изгнал нынешний киевский лжепатриарх Филарет Денисенко. Несмотря на плохую репутацию молодого христианина в глазах князя мира сего, нашёлся мужественный епископ – легендарный владыка Ермоген (Голубев), который рукоположил отца Павла. После этого батюшка закончил Московскую духовную академию. В 1969-м его арестовали и отправили в заключение на три года за распространение перепечатанной на машинке духовной литературы, «клевету против советской власти» и так далее, то есть, говоря на языке Церкви, он стал исповедником. Во время волнений в колонии потерял ногу, вышел из лагеря инвалидом.
И снова служил литургию, и снова спасал души людей. Власти отступились, так как поняли: сломать этого человека невозможно...
Его гибель некоторые сейчас спешат назвать исполнением «профессионального долга», говорят, что он «погиб не за исповедование Христа, не за веру». Другие недоумевают: зачем взялся спасать сумасшедшего?.. За несколько дней до трагедии в дом батюшки постучался московский кинооператор, выпускник ВГИКа Сергей Пчелинцев, попросив о помощи. Было заметно, что он не вполне здоров, более того, вслед за будущим убийцей приехал его отец, пытавшийся отправить сына на лечение. Но тот на коленях умолял оставить его рядом с батюшкой.
Отец Павел чистил на кухне кабачки, а убийца читал Евангелие. Эта сцена запечатлелась в памяти матушки Веры Адельгейм, ещё не знавшей, что она видит мужа живым в последний раз. Через несколько минут раздался предсмертный крик старого священника. Убийца выбежал на улицу и, увидев полицейских, начал наносить себе раны ножом, с криком, что убить священника ему велел сатана. Говорят, был талантливым человеком, но несколько лет назад съездил в Индию, в штат Гоа, и с тех пор его было не узнать. Поясню, штат Гоа – прибежище хиппи, дьяволопоклонников и прочих искателей «свободы» со всего мира. Там они под психоделическую музыку, галлюциногенные препараты и наркотики «расширяют» сознание. Возможно, Пчелинцев стал одним из таких «освобождённых».
Разумеется, отец Павел мог не пустить этого человека на порог и уж тем более не мнил, что способен вылечить несчастного без медицинской помощи. Едва ли есть хоть один священник, который не сталкивался с подобным. К ним идут и идут люди, больные и пьяные, которые находятся в пограничном состоянии, которые то молятся, то вдруг звереют. Быть батюшкой – большой риск. Но хорошо известно, что все эти потерянные и болящие нуждаются не только в лекарстве для тела. И тут каждый решает сам: или помочь, рискуя жизнью, или отказать.
Когда сталкиваешься с людьми, подобными отцу Павлу, нередко возникает ощущение дискомфорта. В глубине души мы в христианстве ищем, прежде всего, «тихое мирное житие» и другие удобства. Сталкиваясь поэтому с необходимостью совершить поступок, предпочитаем увильнуть, умело придумывая оправдания. Но находятся те, кто так не считает. На их крови стоит Церковь, они, жертвуя собой, не дают закрыться вратам в Царствие Небесное.
Отец Павел Адельгейм, сам много страдавший, оттолкнуть своего убийцу не смог. Это профессиональный долг любого христианина – быть готовым сораспяться Христу за други своя. Тех, кто исполняет этот долг до конца, Церковь именует мучениками.
Владимир ГРИГОРЯН
http://www.rusvera.mrezha.ru/689/3.htm
Серия сообщений "ПОДВИЖНИКИ":
Часть 1 - ПРОПИСКА НА НЕБЕСАХ
Часть 2 - НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (ВЕЛИМИРОВИЧ) БЕСЕДЫ.
...
Часть 45 - ДЛЯ ВСЕХ БЫЛ ВСЕМ
Часть 46 - ЧЕРЕЗ ПРОСВЕТЫ.
Часть 47 - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ СЛУЖЕНИЕ 5 августа был убит псковский священник Павел Адельгейм
|
|
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА |
«Какая бы власть над людьми ни была, но крепче, чем власть Господа, крепче этой власти ничего быть не может. И в душах наших людей это является самой прочной основой нашего единства».
Ради этого и молимся мы о властях наших, чтобы осеняло их, как в этот раз.
Но в целом юбилейные торжества оставили странное впечатление. Украинские власти не устают повторять про «европейский выбор». Это означает лишь одно: нам с Россией не по пути. Александр Лукашенко в Киев вообще не приехал. Патриарх Кирилл настоятельно требовал, чтобы на торжествах не было главы украинских раскольников – «патриарха» Филарета. Просьбу удовлетворили, но Филарет всё равно выскочил, как некто из табакерки, и даже облобызался с главой Украинской Церкви (МП) митрополитом Владимиром.
Это случилось впервые и у многих вызвало шок. Правда, как заявил руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, Филарет – «известный мастер провокационных внезапных зацеловываний: кто где из великих только зазевается, он тут же перед фотокамерой вопьётся в него поцелуем». Например, во время приезда Папы Римского католики специально посадили Филарета подальше от Понтифика. «Бедный папа, – вспоминает Анисимов, – во всех своих болезнях, не поднимая головы, прослушал выступления, а когда все поднялись и стали выходить, прощаясь с ним, Филарет сгрёб ошеломлённого старика в объятия, развернул к телекамерам и зацеловал. Естественно, по всем раскольничьим СМИ пошли фотографии: “Киевский патриарх Филарет встретился с папой римским!”. Апостольская нунциатура вынуждена была выступить с опровержением: Святой престол официальные отношения имеет лишь с канонической православной церковью Украины».
Надо сказать, что Анисимов замечательный рассказчик, но на видео видно, что поцеловались бывший и нынешний главы Украинской Церкви по доброй воле, пусть и мимоходом. Возможно, это связано с новой политикой Филарета, который защищает митрополита Владимира от нападок СМИ и внёс изменения в устав своей «патриархии». Согласно им после смерти лжепатриарха раскольничья УПЦ КП не станет избирать ему замену, а должна будет влиться в каноническую Украинскую Церковь, с условием, что та отделится от Русской.
Политически это выгодно, к этому призывает и Президент Янукович. Нужно пояснить, что две трети украинцев разницы между настоящей и раскольничьей Церквями не сознают. Люди, только что признавшиеся, что состоят в Киевском Патриархате, ничтоже сумняшеся, говорят, что доверяют Патриарху Кириллу и не могут вспомнить, как зовут их собственного главу. Это не какие-то курьёзы, а массовое явление. Самосознание членов Украинской Церкви существенно выше, но и у них путаницы сколько угодно.
Но вспомним: не меньший хаос царил в русских землях и 1025 лет назад. Именно тогда святому князю Владимиру открыто было, как их объединить одной Мыслью, одним Словом. Пришёл он к этому не сразу и жизнь до крещения вёл довольно разбойничью. Была у него попытка объединить племена вокруг кровожадного культа Перуна, но она с треском провалилась. Но, что замечательно, даже ошибаясь, этот человек напряжённо искал Идею. Не для себя. Ясно было, что нужно много времени, чтобы она принесла плоды, одно это мешает нам свести его думы к политике. Святой князь искал Того, кто поможет, Того, кто выше его, выше раздоров, – и нашёл. Это было невероятно, но у него получилось. Так родились Русская земля и русский народ, о чём у нас несколько подзабыли.
Некоторое время назад наша Церковь обратилась к властям с предложением сделать День Крещения Руси государственным праздником. Первыми откликнулись депутаты. Реакция – положительная. Далее в дело вступили атеисты и неоязычники на интернет-форумах – вопль стоял страшный, они вдруг бросились защищать другие конфессии, которых это якобы обидит.
Так ли это? Крещение состоялось до каких-либо разделений Церкви, и это, по сути, праздник всех христиан в России. Относительно мусульман: возражения от некоторых из них – очень немногих и наиболее политизированных – действительно поступили. Мнение этой публики озвучил известный идеолог, председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль:
«Если будет крещение Руси без принятия ислама, то это будет однозначно подчёркивать то, что мусульмане и так чувствуют: что они граждане второго сорта, что они маргиналы, а мейнстрим очень жёстко прописан. Соответственно, это будет вызывать у мусульман очень жёсткую установку на то, чтобы изменить ситуацию любой ценой. Если нельзя демократически, при поддержке официальных инстанций, то тогда силовой». Чтобы слегка смазать угрозу, он добавил: «Это неизбежно следует из природы человека».
При этом Джемаля не смущает, что 21 мая Татарстан отмечает День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Это при том, что половина жителей республики – русские, а немалая часть татар – кряшены – христиане. При этом мысль проголосовать за установление другого республиканского праздника – Дня крещения Руси – татарским депутатам в голову, естественно, не пришла.
Вряд ли предложение Русской Церкви действительно шокировало Гейдара Джемаля. Он достаточно умный человек и понимает, что 28 июля – это День рождения нашей страны, прекрасно сознаёт, что именно делает, отказывая нам в праве считать эту дату государственным праздником. Мы видим пробу сил, сознательную игру, рассчитанную на невежественную часть мусульман, атеистическую и либеральную публику.
Всё это следствие того, что мы переживаем сегодня жесточайшую раздробленность русской цивилизации. По сути, то, что сделал когда-то святой Владимир, приходится начинать почти заново. Впрочем, далеко не в первый раз. Наверное, Господу нужны не какие-то очевидные результаты, а наша готовность подтверждать спасительный выбор. И пока сквозь нестроения, провокации, предательства, политические комбинации, финансовые интересы и прочий мусор пробивается немного света, эта земля была и будет нашей. Что до остального, никто и не обещал, что будет легко.
Владимир ГРИГОРЯН
http://www.rusvera.mrezha.ru/689/2.htm
Серия сообщений "Хронограф "Веры"":
Часть 1 - ЗАЧЕМ?..
Часть 2 - ПЕКЛО
...
Часть 30 - ЭТО ВАМ НЕ СТОЛ ЗАКАЗОВ
Часть 31 - ПОЧЕМУ У НАС ОТНИМАЮТ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Часть 32 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!
Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН
Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»
|
|
Аджика - рецепты приготовления |
Это цитата сообщения lorine [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Аджика из красного горького перца с чесноком

|
«МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» Посвящается протоиерею Вячеславу Пономарёву, матушке Надежде и их детям – Сергею, Нине, Галине |
Иногда к нам присоединялась мама Надежды Ивановны, Галина Вячеславовна Пономарёва. Всю жизнь она проработала учителем математики. К столу выходила всегда элегантная, нарядная. Никогда не застать её было в потрёпанном халате, в каких часто ходят домохозяйки. Нет, всегда в красивом платье, с белым кружевным воротничком. Седая, взгляд внимательный, умный, добрый. А ведь ей на момент нашего знакомства было за восемьдесят лет. Умерла она совсем недавно, немного не дожив до столетнего юбилея. До последних дней сохраняла трезвость рассудка, остроту восприятия, юмор, рассказывала интереснейшие истории о прошлом, которые хотелось слушать снова и снова. Перескажу одну из историй с разрешения её дочери Надежды Ивановны. Она – о судьбе её семьи.
Светлый день
Я родилась и выросла в селе Скородум Ирбитского уезда на Урале. Была третьим ребёнком в семье священника Вячеслава Пономарёва. Чем старше становлюсь, тем ярче вспоминаю я детство. Иногда задремлю – и я там, стою на тёплом песчаном берегу нашей речки Бобровки. Бобровка впадает в Ирбит, Ирбит в Тобол, Тобол в Иртыш, Иртыш в Обь, а уж Обь – в Северный Ледовитый океан. Так нас учили в школе.
Тепло. Доброе солнышко. Вода в речке слоями – то тёплая, то холоднее. Мелюзга плещется у берега. Мне года четыре, и я тоже у самого берега со старшей сестрой Ниной. Нина старше меня на три года, но в детстве это большая разница, и Нина кажется мне взрослой. Она заходит в воду по колено и ведёт за собой меня. А я с восторгом вожу руками по воде, плещусь и громко кричу старшему брату: «Серёжа! Плыву! Плыву!»
Как хорошо купаться в нашей Бобровке и знать, что впереди бесконечный летний день. Брат Серёжа старше меня на пять лет. Он для меня уже совсем взрослый. Он опекает нас. Таким он и был всю жизнь: заботливым, ответственным. Нина смеётся: «Серёжа, Галинка у нас плавать научилась!» А он кричит: «Всё, хватит, идите на берег! А то замёрзнете!» И мы послушно бредём к берегу. А брат провожает нас внимательным взглядом, пока мы не оказываемся на жёлтом тёплом песочке, и только тогда плывёт дальше. Мы лежим на горячем песке, а над нами голубое высокое небо в невесомых белых облачках. Хорошо!
Наконец Серёжа тоже выходит на берег, достаёт из сумки пару бутылок. У бутылок дно воронкой выгнуто внутрь. Середину дна братик пробил заранее, заткнул горлышки, в бутылки насыпал крошек. Он кладёт бутылки на дно речки воронкой навстречу течению. Вода в Бобровке прозрачная, хорошо видно, как в наши бутылки заплывают пескарики. Заплывают, а назад выбраться не могут.
Мы садимся втроём на мостик, на горячие доски и смотрим вниз. Нина тихо сопит мне в макушку. Семья у нас дружная. Правда, иногда Нине надоедает маленький хвостик, который бегает за ней по пятам, и она хитрит, находит предлоги, чтобы я отстала хоть ненадолго. Серёжа сердится, когда, по его мнению, Нина меня обижает – показывает ей кулак. Но она знает, что он её не обидит, и высовывает язык. Потом тяжело вздыхает и тянет меня за ручонку – за ягодами и грибами. Понимает, что старший брат прав. Слушается, хоть и язык показывает иногда. И вот, наконец, бутылки полны пескариков. Серёжа достаёт их из воды, открывает горлышко у бутылок, вытряхивает пескарей в котелок, и мы идём домой, приносим маме улов. Она радуется. Наша мама – самая красивая в нашем селе Скородум. А папа – самый сильный и добрый. Его уважают. Он священник. Мама вышла замуж в 17 лет, и сейчас ей 25, но выглядит она совсем юной. Тоненькая, хрупкая, изящная. Папа любит подхватывать её на руки. Она смущается, а мы радуемся. И иногда все вместе забираемся на папу, а его широкие плечи даже не сгибаются под нашей общей тяжестью. Папа сильный, на нём всё хозяйство.
У нас большой дом, и в нём живут ещё две старенькие бабушки и наш дядя, старый священник, с женой. Он когда-то помогал папе выучиться, а теперь папа заботится обо всей нашей большой семье.
Отец всегда занят. Он служит в храме. А когда он не служит в храме, он сам пашет, сеет, косит, жнёт. Большой семье нужен хлеб, молоко. У нас есть корова, лошадь, поросёнок. Огород, небольшой участок земли для посева. Есть небольшое поле, засеянное коноплёй. Всем хозяйством папа занимается сам. Мама с бабушкой пекут хлеб, готовят еду, отжимают из семян конопли густое и душистое масло. Мы едим картошку и кашу с конопляным маслом. Жмых идёт скоту, а из волокна вьют верёвки и ткут грубую мешковину.
День ещё длится, и мы втроём идём за грибами, так приятно, когда мама говорит нам: «Добытчики вы мои». За нашим селом Скородум, что тянется вдоль реки, – лес: пихты, ели, сосны. Ключик с прозрачной ледяной водой, очень вкусной. Над источником – часовенка. Иногда папа в ней служит молебен о своевременных дождях, об избавлении от засухи и града. Над ключиком – раскидистые лапы тёмно-зелёной пихты, около которой много рыжиков. Серёжа поднимает с земли пихтовую лапу и показывает нам сплошные ярко-рыжие мосты. Мы с Ниной собираем их в лукошко, а братик ищет новые грибные места и поднимает ветви пихт. Лукошко быстро наполняется, и мы возвращаемся. Вот и будут к ужину уха и жарёха из вкусных ароматных рыжиков.
Да, жарёха... Я помню этот вкус и запах маминой еды. Помню дни, переполненные счастьем. Я хочу туда, назад – в чистую детскую радость.
Папа-священник
Громкое торжественное пение – так и рвётся из груди восторг! Пасха! Праздников праздник! Я иду в толпе людей вверх по лестнице в нашу летнюю церковь. Лестница устлана ветками пихты. Папа впереди – красивый, нарядный, потом певчие. А потом – мы, все остальные. В самой лучшей одежде, с зажжёнными свечами, лица – добрые, какие-то удивительно светлые. Многие плачут от радости.
Вот поднимается Тихон, мрачный обычно кузнец. Сейчас он смотрит по-детски радостно, улыбается мне, подталкивает вперёд себя. От лёгкого любовного толчка я переношусь сразу на две ступени вверх – и мы в летней церкви. Ярко горят люстры, иконостас в цветах и веточках пихты. Голос отца – красивый и мощный, оттеняемый хором певчих, звучит так, что звенят подвески на люстрах, дребезжат стёкла в больших сводчатых окнах. Слышу, как стоящие рядом восхищаются:
– Батюшка-то наш, отец Вячеслав, вот уж поёт так поёт!
– Да уж, послушать нашего скородумского батюшку из других приходов приезжают, вон смотри – это ирбитские!
Моё сердечко трепещет от радости. Стены, потолок, иконостас – всё ликует пасхальной радостью, росписи на стенах кажутся особенно живыми и светлыми.
Наша церковь высокая, двухэтажная, с высокой колокольней, множеством колоколов. Звон самого большого колокола ранним утром слышен за десять километров. А на маленьких колоколах звонарь на Пасху выводит такие перезвоны, что заслушаешься!
Да, сейчас можно только удивляться – когда папа всё успевал? Меня называют трудолюбивой. Наверное, так и есть. Есть и успехи в труде. Но меры папочки я не достигла. Нет, не достигла...
К нему шли в любое время дня и ночи: звали к умирающим и тяжелобольным, он крестил, венчал, отпевал, служил литургию, молебны, панихиды. Обращались и просто так, за советом. Но, кроме службы, он ещё и занимался хозяйством. А ещё после нескольких пожаров в селе он организовал пожарную дружину, учил молодёжь. Несколько раз получал ожоги на сильных пожарах.
Что ещё рассказать о нём? У нас во дворе под крышей были верстак и набор инструментов. Папа сам делал по чертежам ульи, рамки для пчёл, занимался пчеловодством. Желающим раздавал пчелиные рои, помогал начинающим пчеловодам.
В свободные зимние вечера любил играть в шахматы или читать. Выписывал журналы «Нива», «Родина», журналы по пчеловодству, сельскому хозяйству. Жили мы небогато, и самой дорогой вещью был книжный шкаф – первая покупка папы и мамы после венчания. Духовная литература, классика, детские книги. В доме стараниями мамы было всегда много цветов – пальмы, туя, фикусы. Большой письменный стол. А остальная мебель – так, почти и не мебель. Большой деревянный диван в столовой. Когда мама заболела, папа брал её на руки, укутывал в одеяло и приносил на этот диван. А мы все собирались рядом.
Только сейчас, с высоты прожитых лет, узнав, что это такое – быть женой и мамой, я могу оценить, как любили друг друга мои родители. Почему нет у меня литературных талантов? Почему я не писатель, не поэт? Я попыталась бы на бумаге передать силу этой любви. Любви трагической, на стыке времён и эпох, мучимой, гонимой, но не побеждённой. У них отняли всё – дом, имущество, возможность служить. Отняли любимых детей и, в конце концов, саму жизнь. А любовь и веру не отняли. Не смогли.
Тихое пристанище
Мама была хрупкой, болезненной, быстро уставала. Они с папой были такие разные: мужество и нежность. Сила и хрупкость. Но папа черпал силу в маминой любви. Он молился за такое огромное количество людей: за свою семью, за прихожан, за всех, кто нуждался в его молитве. И порой, видимо, изнемогал под своей ношей.
А мама была его тихим пристанищем, его прибежищем, его женой. Она была, как и папа, очень верующим человеком. Молитвенница. Папе было трудно, но он никогда не жаловался, не роптал. Он мог прийти и молча сесть в ногах у мамы. А она прижимала его голову к груди, и губы её шептали молитву. И папа, как будто напившись живительной воды из родника, опять был весел, бодр, готов свернуть горы.
Жизненные силы бурлили в нём, порой он был вспыльчив, но отходчив. Как-то раз за столом, когда после обычной молитвы перед едой мы молча обедали, я закапризничала. Папа, который любил порядок, вспылил и скомандовал: «Марш на кухню!» Я немедленно повиновалась, ушла на кухню, вскарабкалась на лавку, поставила ноги на кадушку с водой.
Крышка с кадушки соскользнула, я упала в кадушку и, испугавшись, громко закричала. Папа первым подбежал ко мне, вытащил из кадушки, закутал в полотенце, принёс за стол и посадил на колени. От такого счастья – обедать на коленях у папы – я сразу замолчала и со счастливым видом начала есть. А мама смотрела на нас с такой любовью, что все улыбались.
Драгоценностей в доме не было. Впоследствии, провожая из дома, нам дали три золотых крестика – единственные золотые вещи в доме. Это было наше наследство. Наше благословение. Наша память о папе и маме. У Серёжи был крестик с синей эмалью, у Нины – с розовой эмалью, у меня – без эмали, просто маленький золотой крестик. Носить на виду их было нельзя, и мы все трое потеряли наши крестики. Когда я думаю об этом, слёзы текут у меня по щекам. Я потеряла единственную вещь, оставшуюся мне на память от родителей. Но я помню о них и люблю их! Помню!
Радости и слёзы
В нашем большом старом доме был зал. Он не отапливался и зимой был закрыт. Перед Рождеством папа втайне от нас привозил из леса большую ёлку, вносил в зал, украшал вместе с мамой. А мы заранее мастерили игрушки из цветной бумаги, картона, фольги. Мама с бабушкой готовили печенье, самодельные конфеты, сладости. Всё это складывалось в корзинки для Дедушки Мороза и пряталось под ёлку.
К Рождеству в зале затапливают. Но дверь закрыта – там священнодействует папа. Он зажигает свечи на ёлке. И вот – торжественный момент – двери открываются!
Сердечко замирает от восторга: у-ух ты! Ёлка в центре зала сверкает огнями. Мы ходим вокруг и надышаться не можём на нашу красавицу. Рассматриваем игрушки, бусы, орешки в золоте. Когда вдоволь налюбовались, папа берёт в руки гармонь – хоровод! Потом папа уходит куда-то, а вместо него является сам Дед Мороз. Он каждого просит исполнить песенку, или стихи прочитать, или сплясать, а потом запускает руку под ёлку и – а-ах! – достаёт подарок. Подарков хватает всем: и нам, и деревенским ребятишкам. Как я счастлива!
Кроме радости, вспоминаются и трудности. Детские слёзы.
Мы в поле на пашне. Серёжа боронит, а я погоняю лошадку, сидя верхом. Мне лет семь, а братику, значит, двенадцать. Мне тяжело ездить верхом, такой маленькой, – ноги стираю в кровь, а братику – ещё мальчишке – тяжело боронить. Но нужно работать, помогать родителям. Нина постарше меня, но она тоненькая, хрупкая, в маму, а я покрепче и повыше ростом и поэтому езжу в поле.
Как-то раз я ехала на лошадке, а лошадка резко наклонилась, чтобы попить, и я свалилась прямо через голову в быструю речку. А Серёжа меня вылавливал, и мы смеялись – оба мокрые. Я даже не ушиблась. И была такая удивлённая: только что верхом на лошадке, и вот – уже в речке!
Однажды мы с Серёжей решили заночевать в поле, чтобы утром пораньше начать работу. Легли спать под деревом, а ночью началась гроза. Мы проснулись от раскатов грома. Хлынул дождь, и мы перебрались под телегу. Сидим и молимся Николаю Угоднику.
А в дерево вдруг молния как ударит! И оно вспыхнуло и загорелось! А мы под телегой – сухие и целёхонькие. А когда под телегой-то сидим, смотрим: папа по полю к нам скачет во весь опор. Испугался за нас, когда гроза началась, и прискакал.
А один раз братик сильно устал, работая, и уснул прямо на пашне. И я решила попробовать боронить сама. Жалко стало уставшего брата. Тронула лошадь, а борона подпрыгнула, и один из зубьев впился прямо мне в ногу.
Я громко закричала и заплакала, а Серёжа проснулся и бросился ко мне. По ноге у меня очень сильно текла кровь. Тело стало ватным, и я с ужасом смотрела на братика. Он тоже испугался, но не растерялся, быстро разорвал рубашку и перевязал рану.
Серёжа вёз меня на лошадке домой и сокрушался, что уснул. Говорил, что лучше бы он поранился, чем я. Шрам на ноге у меня остался на всю жизнь.
Да, боль тех, кого любишь, бывает часто сильнее собственной. Это я тогда поняла. А потом боль стала усиливаться. Потому что пришло время боли и испытаний. Да, испытания. Выдержали ли мы их?
На сквозняке
Начальную школу мы, дети священника, закончили полностью. Шёл двадцатый год. И относились к нашей семье всё хуже и хуже. Пока мы не поняли, кто мы. Мы – отверженные. Серёжа учился хорошо, учителя говорили, что он очень способный. Подготовившись за лето самостоятельно, он перешёл из пятого сразу в седьмой класс. Но за его учёбу причиталась большая сумма. Нам с Ниной тоже учёбу пришлось прервать.
Нас обложили непосильными налогами. Дома дядя-священник с женой нуждались в уходе, обе бабушки тоже стали совсем старенькие. Одна уже не ходила. Вторая – маленькая, сухонькая, очень живая, подвижная, трудолюбивая. Всегда была в работе: шьёт, вяжет, штопает – и поёт русские народные песни. Этой зимой она перестала петь и совсем сгорбилась.
Петь она перестала после папиного ареста. К папе приходил наш сельский учитель, и зимними вечерами они играли в шахматы. Кто-то донёс, и папу забрали за «развращение сельской интеллигенции». Его приговорили к пяти годам.
Дом опустел без папы. Мама сидела у окна с сухими глазами и смотрела на дорогу в сугробах. А я просыпалась ночью и каждый раз видела её на коленях у икон. Горела лампадка, и сердце тревожно сжималось в предчувствии беды.
Мама поехала на свидание к папе. Она решила бороться и ходатайствовать о его освобождении. Свидания не дали, к начальству маму тоже не пустили. И она возвращалась со станции ночью. Серёжа пошёл встречать маму, но они разминулись. И мама сбилась с дороги, долго плутала, промёрзла. Попала в болото и промочила ноги. Еле живая она добралась до дому, и мы бросились её согревать, оттирать её ледяные ноги. Но наши растирания помогли плохо. Мама сильно заболела. Она начала кашлять. Начался туберкулёз.
И когда папа вернулся через шесть месяцев (благодаря заступничеству учителя, с которым они играли в шахматы), мама уже кашляла с кровью. Сказалась, видимо, не только простуда, но и переживания за папу.
Семейный тёплый дом на сквозняках времён держался нашей любовью. Но становилось всё труднее. Мама не могла работать. Страх за её здоровье и жизнь прокрался в нашу дружную семью. Дом был старый и холодный. И теперь, когда старшее поколение стало совсем немощным, а мама не могла работать, вся тяжесть труда была на нас, детях. Наносить дров, натопить печь, чтобы старики и больная мама не мёрзли, натаскать воды из колодца, подоить корову, приготовить еду. А ещё испечь хлеб – ничего готового не продавалось, его пекли сами.
Папа иногда ходил из угла в угол и повторял маме: «Так, всё будет хорошо, Наденька. У нас всё будет хорошо. Парное молоко. Главное – каждый день пить парное молоко». Я видел, с какой благодарностью он смотрел на меня, сразу повзрослевшую, когда я, подоив корову, приносила маме кружку парного молока. Нина шила, вязала, как взрослая, готовила еду.
Папа ездил куда-то и привёз барсучьего сала, чудом достал где-то шоколад. Варил его с салом и мёдом, закупоривал горшки тестом, заставлял маму принимать это лекарство. Мама ещё больше похудела, стала совсем тоненькой, прозрачной. Но, как всегда, была ровной, терпеливой. Казалось, она меньше обеспокоена своей болезнью, чем папа. Чуть получше ей становилось – она старалась взять на себя домашнюю работу, уход за стариками.
Папа никогда не садился за стол без мамы. Когда она плохо себя чувствовала, приносил на руках и усаживал вместе с нами. Папа, как я сейчас понимаю, много молился. Он почти не спал и мало ел. Но свой молитвенный подвиг скрывал. Оценить его я могу только сейчас. Да, только сейчас. Всё так же ревностно служил он в храме. Всегда крепкий, мощный, он похудел, плоть его истончалась, но ярко горел дух. Он по-прежнему руководил пожарной дружиной, учил крестьян пчеловодству. Но дела шли всё хуже.
«Если Бог есть...»
Голод вставал на пороге. Мы не могли учиться и не могли работать. Мы были детьми священника, а значит, отверженными.
Сейчас, многое повидав и пережив, я могу оценить силу духа моих родителей. Как грубо попиралась мужественность отца, когда издевались над его семьёй, а он не мог нас защитить. Он, такой сильный, который, казалось, мог всё на свете, был бессилен остановить мамину болезнь, выучить детей, дать им нормальную жизнь.
Каково ему приходилось? Что он чувствовал? Что вынес? Поколебалась ли хоть на миг его вера? Нет. Сейчас, вспоминая папу, я думаю про многострадального Иова. Но часто боль тех, кого мы любим, бывает для нас сильнее собственной...
Я помню, как мы – Серёжа, папа и я – сидели у окна, а на улице шёл бесконечный дождь. Я шила, Нина вышла куда-то, а мама лежала больная в другой комнате. Помню, как долго брат собирался с мыслями, видимо обдумывал свои слова, а потом обратился к папе. Горела лампадка у наших любимых икон. Казанская Божия Матерь смотрела на нас ласково и печально. Помню, что Серёжа говорил:
– Папочка, посмотри вокруг, что творится. Страшно. И ведь они не верят в Бога. Почти никто теперь не ходит в церковь. Их закрывают. А может быть, Его и правда нет? А если Его нет, то зачем мы всё это терпим? Папа, ты можешь быть просто пожарником. Или пчеловодом. И тогда мы сможем учиться. И работать. А иначе мы просто умрём с голоду. А если ты не будешь служить, то мы сможем быть все вместе. Вместе, понимаешь? А если Бог всё-таки есть, то Он нас простит. Нина и вот Галя ещё совсем дети. Мама больна. Бабушки старенькие. Папочка, родной мой, надо что-то делать. Я должен работать. Хотя бы ради сестёр.
Я слушала их разговор молча. И понимала, что мне нельзя вмешиваться – мужчины принимали какое-то решение. Папа слушал братика спокойно. А потом сказал Серёже: «Я думал об этом, сынок. Я принял решение. Вы напишете, что не будете встречаться с родителями, и вам разрешат учиться и работать. А мы всё равно будем вместе. Я буду молиться за вас, пока я жив. Нашу любовь никто не сможет отнять. Мы будем вместе – в молитве. А отречься, сын, я не могу. Даже ради вас. Но Господь не оставит вас, запомни это. Слышишь? Запомни: Господь не оставит вас. И моя молитва будет с вами. Всё, сын. Я принял решение. Это моё решение, слышишь? Моё решение. Запомнил?»
Почему он повторил это несколько раз – о том, что это его решение? Я понимала это и тогда, знаю и сейчас. Чтобы чувство вины не мучило нас, его детей. Да, чувство вины – вот то, что живёт с нами всю нашу жизнь. Вот что не даёт нам покоя – правильно ли мы поступили? Может, мы должны были остаться вместе? И пройти этот путь до конца? Одной семьёй?
Классовый состав
Мы подписали бумагу, что отказываемся от контактов с родителями. И уехали. Мы больше не имели права встречаться с ними. Но мы общались тайком – передавали записки через одну верную семью.
Нина окончила школу и пошла учительствовать. Серёжа жил в Ирбите и работал на Егоршинских шахтах, чтобы стать рабочим и не зависеть от своего непролетарского происхождения. Я жила с ним и училась в Ирбитской заводской школе-семилетке.
Нам разрешили учиться, а братику работать после нашего отказа от контактов с родителями. Правда, меня несколько раз выгоняли из школы из-за происхождения, даже несмотря на наш отказ. Но директор школы, до сих пор ему благодарна, Думнов Пётр Фёдорович, очень добрый человек, говорил мне, что у меня хорошие способности, и защищал. На свой страх и риск снова принимал меня в школу после отъезда проверяющей комиссии.
Иногда он говорил мне: «Посиди дома три дня, к нам комиссия едет, будет проверять классовый состав учащихся. А потом приходи, когда они уедут». Вот так, благодаря Петру Фёдоровичу, в 1928 году я закончила семилетку. Мне было пятнадцать лет.
Восемнадцатилетняя Нина работала учительницей в Ляпуново, глухой деревне в двадцати пяти километрах от Ирбита. Объявили Всеобуч, а учителей не хватало. Наверное, поэтому, а может, по молитвам наших родителей, мы с Ниной обрели своё призвание и стали учительницами.
Директор Пётр Фёдорович, рискуя своей работой, написал мне направление на краткосрочные курсы учителей для лучших выпускников школ. Я окончила эти курсы, и меня отправили работать со взрослым населением в дальнюю деревню Чувашево. У нас с Ниной и Серёжей не было ни белья, ни приличной одежды, ни обуви. Сергею было очень жаль нас, своих сестрёнок. Изо всех сил старался он нам помочь.
Как Серёжа был счастлив, когда смог на свои талоны купить нам с Ниной обновки: туфли на низком каблуке, трикотажные кофточки! Я сшила себе ситцевую синюю юбчонку и белую с синим горошком блузку, которыми очень гордилась. Башмачки мы с Ниной делали из холста.
Старший брат
Нам было тяжело. Мы переживали за родителей, друг за друга. В пятнадцать лет я должна была учить взрослых мужчин, лесорубов. И папа написал Серёже записку с просьбой поговорить с сёстрами, как старшему брату, о девичьей чести, о женском достоинстве.
И Серёжа поехал к нам, сначала в Чувашево, потом в Ляпуново. И, краснея и смущаясь, выполнил наказ отца и разговаривал с нами, просил нас беречь свою репутацию, быть строгими и недоступными. Приводил много примеров, которые вспоминал из литературы, – про Наташу Ростову и её увлечение Анатолем, которое чуть не привело к трагедии, другие примеры. Я слушала серьёзно, а Нина от смущения сердилась и говорила, что сама всё знает. А потом рано утром братик отправился пешком по осенней грязи в Ирбит.
Вот сейчас думаю: а ведь ему было всего двадцать лет. По нынешним временам – мальчишка. А ведь он чувствовал себя взрослым мужчиной, который несёт ответственность за сестрёнок. И выполнял это деликатное поручение, потому что папа и мама были лишены возможности сделать это сами.
На шахте было очень тяжело работать – уголь, пыль, сырость. Серёжа лежал в больнице, лечили от ревматизма. Были ли у нас счастливые минуты? Да, конечно! Мы были молоды.
После болезни брат нелегально приехал к родителям. Взял нашу лошадку, заехал за мной, и вот мы едем к Нине в гости. Сколько детской радости принесла нам эта поездка!
Зимнее раннее утро. Лёгкий морозец. Небо ясное. Воздух такой свежий, зимний. От Ирбита до Ляпуново двадцать пять километров. Едем весело, лошадка бежит быстро с лёгкими санями. Шутим и смеёмся. Проезжая очередную деревеньку, Серёжа кричит: «Чашки и ложки – меняю на собаки и кошки!» Из ворот сбегаются хозяйки с ребятишками:
– Эй, парень, что у тебя есть, чашки-то какие – покажи! А ложки-то деревянные или железные?
– У меня? Какие чашки-ложки, откуда? Вон сестрёнка только сидит!
– А где же собачник, который сейчас кричал?
– Не знаю, не видел! – братик пожимает плечами и погоняет лошадку.
А я в санях смеюсь звонким, счастливым смехом.
Едем мимо зимнего леса. Он стоит белоснежный, укутанный в сугробы. Серёжа заставляет меня надеть тулуп. Трогает мой нос – ледяной. Замёрзла! Дожидается, пока я надену большой длиннополый папин тулуп поверх пальто, ловко дёргает сани – и я мягко вываливаюсь в снег. А брат прыгает в сани и едет себе дальше. Кричит: «Догоняй!» А когда я догоняю, едет быстрее, и я снова отстаю. Так он меня согревает чуть не до слёз. И когда видит, что согрелась, – останавливается, хватает меня в охапку и сажает в сани.
В другой деревеньке Серёжа расспрашивает дорогу, задаёт глупые вопросы и смешит меня. Никто не сердится, а смеются с нами вместе.
К Нине являемся неожиданно, она визжит от радости и бросается братику на шею, потом ко мне в объятия. Прыгает от радости, тормошит нас, расспрашивает о родителях. Мы, как могли, скрасили наш рассказ о папе и маме.
Назад ехали погрустневшие, посерьёзневшие. Было жаль оставлять Нину – тоненькую, хрупкую, похожую на маму, – одну в дальней глухой деревне. И было до слёз жалко наших родителей, с которыми мы были разлучены.
Вскоре после этой поездки я прошла курсы учителей начальных классов в Ирбите. Отправили меня работать учителем в Бердючинскую начальную школу в шести километрах от Ирбита. Было мне шестнадцать лет, и выглядела я как девочка-подросток.
Когда пришла в школу с назначением, директор спросил: «А ты, девочка, в какой класс пришла?» А я сначала не поняла и ответила смущённо: «В какой пошлёте...» Потом, когда директор понял, что перед ним не ученица, а учительница, мы вместе с ним смеялись. Директор дал мне самый лёгкий – второй – класс.
Эти дети уже знали азы, но были не такие рослые, как в третьих-четвёртых классах. В то время в этих классах нередко учились мои ровесники – пятнадцати-шестнадцати лет. Серёжа переживал за нас и часто навещал. С родителями общались записками.
Осенний костёр
Одно из самых тяжёлых воспоминаний – выселение родителей из дома. Знаю о нём со слов бабушки, но мне кажется, что я видела это своими глазами.
Осенний холод. Улица. Большой костёр. В костре горит наш любимый книжный шкаф – наш старичок – бывшая самая ценная вещь в нашем доме. Горят книги: требники, Псалтирь, Евангелие. Дымятся наши любимые Достоевский и Пушкин. Ветер разносит наши детские рисунки. После расставания мама часто доставала их с книжной полки и разглядывала.
Папа не смог выплатить непосильный налог, который наложили на него как на священника. Наше хозяйство описали, вещи распродали с торгов, забрали наш старый дом, корову, лошадь. Закрыли красавец-храм.
На обочине дороги лежит старенькая бабушка, которая уже год не вставала, рядом с ней сидит и держит её голову на коленях вторая бабушка. Наш старый дядя-священник и его жена, к счастью, не дожили до этого времени, они умерли чуть раньше.
Папа стоит и обнимает маму, дрожащую на осеннем ветру. С неё сорвали тёплую шаль: «Моей жене сгодится!» Папа и мама смотрят на костёр. Поджигатели смеются:
– Что, попадья, невесело? Ничего, контра, скоро тебе ещё грустнее будет! Небо с овчинку покажется!
Папа сжимает кулаки, но мама ласково гладит его по плечу: «Родной, потерпи ради меня. Ты знаешь, я не перенесу, если они начнут тебя бить».
Так родители и старенькие бабушки оказались на улице, без крова, без одежды, без еды, безо всяких средств к существованию. Папа с трудом нашёл место священника в маленькой деревне Азево-Гуни в двенадцати километрах от Ирбита. Но тот день стал роковым для мамы. Она очень быстро после этого умерла. Ей не было ещё сорока лет.
Умерла она в Азево-Гуни, через пару дней после смерти нашей неподвижной бабушки. С утра папа причастил её, отправил нам записку о том, что бабушка умерла, а мама при смерти. И уехал в Скородум на похороны. Он хоронил старенькую недвижимую бабушку, которую в Скородуме приютила его верное чадо. А когда приехал с похорон, всё было кончено. Мама умерла на руках у второй старенькой бабушки, повторяя ласково наши имена – своих любимых детей и своего ненаглядного мужа.
Случайностей не бывает – это я знаю точно. И Господь привёл меня в этот день в дом к нашим верным друзьям. Я прочитала записку, заплакала. И побежала на базар, где торговали жители из Азево-Гуни. В тот момент мне было всё равно – узнают о моей поездке домой или нет. Крестьяне, торговавшие на базаре, согласились захватить меня с собой на подводе. И я приехала в дом даже раньше папы.
Когда мы подъехали к дому, было уже темно. В окне видны были две горящие свечи. Крестьянин посмотрел на меня с жалостью и перекрестился. Но смысл его взгляда я поняла только позднее.
Бабушка, открыв мне дверь, заплакала. И я спросила: «Где мама?» А бабушка ответила: «Раздевайся, обогрейся и пойдём к маме». Я обрадовалась, у меня отлегло от сердца. Но когда я открыла дверь в другую комнату, то увидела стол, гроб и две свечи. Я потеряла сознание.
Когда пришла в себя, бабушка сидела рядом, плакала и просила меня взять себя в руки. Скрипят ворота, наверное, приехал папа, а ему ещё тяжелее. Я поднялась и пошла навстречу папе. А он только открыл дверь с улицы и упал, даже не перешагнув порог.
Мы с бабушкой кое-как затащили папу в дом. Он пришёл в себя, обнял меня и плакал безутешно, как ребёнок. Мне непривычно было видеть таким нашего мужественного, сильного папу. И я гладила его поседевшую голову, прижимая её к груди, как когда-то делала это наша мама.
Папа быстро взял себя в руки. Мы посидели возле мамы. И папа был спокоен. Он сказал мне, что я помогла ему превозмочь его горе, а теперь он просит меня уехать, чтобы не прогулять работу. Папа нашёл верного человека, который согласился довезти меня к моей школе. И, несмотря на мои просьбы остаться, благословил уезжать, пока никто меня не видел. Иначе я могла потерять работу и возможность устроиться на неё в будущем.
Я простилась с папой и бабушкой и уехала. Это была последняя встреча с нашим папой. Больше никто из нас не видел ни его, ни бабушки. Бабушка вскоре умерла, а папу снова арестовали. Его крестный путь близился к концу.
Последняя весточка
Почему мы не были там, рядом с ними?! Всю жизнь не отпускает нас скорбь о том, что нас не было рядом. До конца наших дней будет объединять нас чувство вины, острой, глубокой жалости к родителям нашим, которых мы вынуждены были оставить. Чем дальше, тем острей каждый из нас осознавал всю горечь, всю боль их одиночества, одинокой смерти. Их одиноких, неизвестных и неухоженных могил.
Мы получили от папы только несколько весточек. Он благословил в своём письме меня на замужество, а у Серёжи сохранилась его записка. Серёжа давал нам её читать. В ней папа просил сына не оставлять сестёр, помнить о Боге. И в конце было четверостишие. Я запомнила его наизусть. Как же там? Сейчас вспомню:
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог.
Чем ночь темней – тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь – тем ближе Бог.
Недавно удалось нам через знакомых достать документы – архивные справки. Из них мы узнали, что старости у нашего папы не было. Он погиб молодым.
Много лет спустя нашли мы и могилу папы. Нужно доехать до Екатеринбурга, а потом проехать двенадцать километров по Московскому тракту к месту, где было расстреляно и захоронено в общей могиле около трёхсот священнослужителей.
Папу арестовывали в 1920-м, в 1930-м и в 1933-м годах. Сидел в тюрьме с 1933 по 1935 год. Отпущен за недостатком улик. Затем арестован 4 сентября 1937 года сотрудниками УНКВД Ирбитского райотдела. При обыске найдены епитрахиль, Дароносица, серебряный крест с цепочкой.
Обвинён в участии в контрреволюционной организации и ведении контрреволюционной пропаганды (статья 58 УК РСФСР). Постановлением тройки при УНКВД через две недели после ареста – 17 сентября 1937-го – приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 22 сентября 1937 года.
А следующая справка гласит: «Постановлением Президиума Свердловского областного суда от 15 мая 1958 года постановление тройки от 17.09.37 в отношении Пономарёва В. А. отменено, а дело прекращено за отсутствием состава преступления».
Иногда я перечитываю эти справки, потому что, кроме них, у меня ничего не осталось на память от родителей. Ничего – ни фотографий, ни вещей. И слёзы текут по моим щекам. И кажется мне, что я слышу папин голос:
– Доченька! Я по-прежнему люблю вас и молюсь за вас! Разве не чувствовала ты наш с мамой молитвенный покров над вашей жизнью, родная моя? Всё хорошо. Не плачь! Вспомни:
Чем ночь темней – тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь – тем ближе Бог.
Ольга РОЖНЕВА
Сентябрь 2009 года
г. Нытва Пермского края
http://rusvera.mrezha.ru/597/6.htm
|
ГЛАВНЫЙ ПОСТУПОК |
«Не щенка ли ищете? – спросил он. – Не ищите, я сам видел, как Валерка-дурачок его взял и унёс».
Мы переглянулись в недоумении между собой. Валерка когда-то начинал учиться вместе с нами. Был тихим, забитым мальчиком. Школьную программу он освоить не мог, и его перевели в специальную школу для умственно отсталых. Он иногда приходил во двор своей старой школы и сидел на досках, наблюдая издалека за нашими играми. С Валеркой никто не дружил, считая для себя зазорным дружить с ненормальным. Его дразнили и обзывали, но он ни на кого не обижался, и потому дразнить его было неинтересно.
«Ну, я этому дураку покажу, – угрожающе сказал Вовка Бобылев, – куда он пошёл, не видел?» «Туда, в сторону железной дороги», – махнул рукой Серёжка.
Мы все ринулись к железнодорожному полотну, проходившему недалеко от школы. Ленка, моя соседка по парте, закричала: «Вон Валерка-ненормальный идёт, и щенок у него на руках!» «За мной!» – крикнул воинственно Вовка, и все с улюлюканьем, как индейцы, побежали по шпалам.
Валерка обернулся и, увидев нас, тоже припустил вприпрыжку, смешно подбрасывая ноги. «Сто-ой! – закричали все. – Остановись, Валерка, а то хуже будет!» Но тот припустил ещё сильнее.
Позади нас послышался протяжный гудок. «Поезд!» – закричала Ленка. Мы посыпали с полотна дороги, словно горох. Глянули, а впереди поезда бежит наш ненормальный Валерка. Завизжали тормоза поезда, но он, по инерции, продолжал надвигаться на Валерку. Мы в ужасе закрыли глаза. А когда открыли, то увидели, что поезд, продолжая гудеть, едет дальше. «Ну, всё, – сказал Вовка, – нет больше нашего ненормального...»
Ленка как зарыдает, а вместе с ней и мы все завыли. Вдруг видим – а на той стороне насыпи к домам железнодорожников бежит наш Валерка со щенком на руках! Мы как закричим: «Ура-а!» – и давай друг друга обнимать. Я даже на время о щенке своём забыл. Радовался, что Валерка жив остался. Когда уж домой вернулся, то не выдержал и разревелся. Мама стала расспрашивать, что со мной случилось. Пришлось всё рассказать без утайки. На другой день мы пошли к Валерке. Жил он в деревянном ветхом доме. Дверь нам открыла его бабушка. Узнав, по какому мы делу, сразу разохалась: «Мои миленькие, грех-то какой. Я его вчера спрашиваю: откуда у тебя собака? А он молчит и ничего мне не говорит. Сейчас, сейчас, мои касатики, я пойду, поговорю с ним и верну вам собачку. Он ведь у меня круглая сирота, потому вы его должны простить ради Бога».
С этими словами старушка из кухни, где мы стояли, пошла в соседнюю комнату. Оттуда хорошо было слышно, как она говорит Валерке: «Внучек, да разве так можно поступать! Это грех – брать чужое».
Вскоре она вышла к нам, неся на руках моего любимого Засоню. Щенок, как всегда, спал. Я взял его на руки и, поблагодарив старушку, быстро пошёл вслед за мамой из квартиры. Выйдя из подъезда дома, я оглянулся и увидел в окне Валерку. Он стоял и смотрел на нас широко раскрытыми глазами, а по щекам его текли крупные слёзы. Но, увидев, что я смотрю на него, он нерешительно помахал мне рукой. Что-то дрогнуло в моём сердце, и я помахал ему в ответ. И тогда он вдруг улыбнулся мне, вытер рукавом слёзы и снова замахал рукой. «Мама, а что такое “круглый сирота”?» – спросил я у матери, когда мы уже выходили со двора. «Это, сынок, когда у ребёнка нет ни отца, ни матери».
Я ещё раз оглянулся на окна Валеркиной квартиры. Он по-прежнему махал рукой. И таким он мне вдруг показался несчастным и одиноким, что в моём сознании промелькнула мысль: «А ведь это не он у меня собаку украл, а наоборот, я у него сейчас её краду». От этой мысли я остановился как вкопанный.
«Подожди, мама, я сейчас вернусь!» – крикнул я и побежал к подъезду. Забежав в квартиру, я столкнулся нос к носу с Валеркой и протянул ему щенка.
«Бери, – сказал я, – щенок твой, а зовут его Засоня». «Ты его отдаёшь мне?» – не веря, переспросил Валерка. «Да, он твой», – глубоко вздохнув, подтвердил я свои слова.
Глаза Валерки светились счастьем. Он поглядел на меня таким благодарным взглядом, что я подумал: «Люди так глядеть не могут, да и собаки, пожалуй, тоже». Валерка бережно взял из моих рук щенка. Признаюсь честно, что на мгновение я пожалел о своём поступке. Но потом словно гора с плеч свалилась, и я ему говорю: «Знаешь что, Валерка, приходи к нам на школьный двор играть, вместе с Засоней, я никому не позволю тебя обижать».
Валерка молча кивнул головой, затем повернулся и, так ничего и не сказав, пошёл в комнату. А я с лёгким сердцем вышел на улицу к встревоженной маме.
«Где твоя собака?» – спросила она. «Я отдал её Валерке. Ведь у него нет родителей, а у меня есть и папа, и ты, мама», – сказал я, беря её за руку.
Мать остановилась и внимательно поглядела на меня, а потом вдруг порывисто обняла и, поцеловав, сказала: «Сегодня ты совершил очень важный в твоей жизни поступок, сынок, и я тобой горжусь».
Через много-много лет я понял, что в тот день впервые повстречался с Богом.
(По рассказу священника Николая Агафонова)
http://rusvera.mrezha.ru/597/10.htm
Серия сообщений "Рассказы":
Часть 1 - О ВОЙНЕ
Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!
...
Часть 27 - ДВЕ КРАЖИ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ. Рассказ Нины Павловой.
Часть 28 - БЛАГОСЛОВЕНИЕ Рассказы отца Варнавы (Трудова)
Часть 29 - ГЛАВНЫЙ ПОСТУПОК
Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)
Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Часть 32 - Печать дракона
|
|
ИСТОРИЯ С ПОБЕГОМ И ТРИ ВОПРОСА, НА КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ (этой истории четыре года, но мне захотелось ее сохранить в Дневнике) |
Сразу же после обнародования этого письма в монастырь поехала с проверкой епархиальная комиссия. Провести независимое расследование отправились туда и представители нескольких общественных организаций – «Народного Собора», общественного комитета «В защиту семьи, детства и нравственных ценностей», организации многодетных матерей «Много деток – хорошо» и ряда других. Выводы общественной экспертизы совпали с тем, к чему пришла и епархиальная комиссия. На пресс-конференции 2 октября эти выводы озвучил сопредседатель движения «Народный Собор» Владимир Хомяков. К сожалению, представленные на пресс-конференции факты большинство электронных СМИ попросту замолчали. Ниже печатаем текст выступления В. ХОМЯКОВА и мнения ещё двух экспертов. Для нас они ценны тем, что в деталях описывают тактику провокаций, с которыми могут столкнуться православные воспитатели детей.
Вопрос первый: кто раскручивает ситуацию?
Существуют вполне конкретные лица, заинтересованные в раскручивании скандала вокруг Боголюбского монастыря. Во-первых, это семейство неких Теленковых, стремящихся во что бы то ни стало «вернуть» дочь, ушедшую в монастырь. Их дочь – Алевтина Теленкова – вполне взрослая девушка, 23 лет, имеющая право самостоятельно определять свою судьбу, поэтому родители всячески стремятся объявить её «невменяемой».
С 12 лет Алевтина регулярно бывала за границей. Она училась в престижных московских вузах, имела много друзей-знаменитостей, вкусила все «прелести» разгульно-богемной жизни. Но однажды, побывав в Свято-Боголюбском монастыре, Алевтина принимает решение остаться здесь, посвятив себя Богу. Подобная перспектива родителей взбесила. У девушки отбираются все счета и собственность (кроме трёхкомнатной квартиры в Москве), а заодно и паспорт, но она всё равно остаётся в монастыре: прошлая «элитарная» жизнь и культ денег кажутся ей всё более омерзительными. И тогда родители-миллионеры предпринимают настоящий штурм монастыря с привлечением наёмных милиционеров из Москвы, ЧОПовцев и кавказских «братков» во главе с неким Т. Г. Стуруа, с которым когда-то у Алевтины были отношения и который желает жениться на ней. Отбиться монастырю удаётся, только вызвав наряд милиции из Владимира.
Тогда 25 февраля 2009 г. обманом вызванную во Владимирскую епархию девушку похищают и увозят восемь наёмников на нескольких машинах. По счастью, адвокату девушки, Дмитрию Савченко, удаётся догнать похитителей и организовать остановку их на милицейском посту (протоколы об этом в милиции имеются). Девушка тут же с криком «Помогите! Меня похитили и увозят!» выбирается из машины, и Д. Савченко её увозит. Вслед несутся угрозы «разобраться» с его семьёй и близкими (которые с тех пор вынуждены жить на нелегальном положении). Сама Алевтина, отдавшая родителям последнюю свою собственность – квартиру в Москве (лишь бы оставили её в покое!), также вынуждена скрываться у своих знакомых, в то время как Теленков-папа осаждает монастырь с помощью наёмной прессы.
Именно этот человек, принадлежащий к категории людей, уверенных, что «у кого деньги, тому можно всё», заявился в монастырь 25 сентября со съёмочными группами нескольких телеканалов, когда наша комиссия там находилась. И именно после этого визита вышел в эфир на Первом канале скандальный сюжет. Сюжет этот, кстати говоря, лжив даже в мелочах. Как, впрочем, и многие другие, сделанные по той же кальке и, вполне возможно, оплаченные из той же кассы. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать слёзовыжимательный рассказ про то, как «девочка Валя впервые в жизни рисует цветными карандашами», и сопоставить это с прекрасными работами краской её оставшейся в монастыре младшей сестры...
Вторая заинтересованная сторона – это компания, непосредственно участвовавшая в организации побега и группирующаяся вокруг такой личности, как Олег Зыков, горячий защитник «сексуальных меньшинств» и лоббист легализации наркотиков, бесплатной раздачи наркоманам «чистых» шприцев, а подросткам – презервативов. В деле также фигурируют два православных священника. Это – один из «новаторов» РПЦ и убеждённый антимонархист протоиерей Максим Хижий, клирик Св.-Троицкого храма города Гусь-Хрустального. Второй – игумен Сергий (Рыбко), тоже «новатор». Что касается «информационных спонсоров» скандала, то первыми в этом качестве выступили ультралиберальные «Новая газета» и «Русская служба новостей».
Вспомним, как всё было. Восемь лет назад в монастырь приходит после трёх лет бомжевания и скитаний женщина-бродяжка с тремя детьми. Три девочки крайне истощены, никогда не учились, имеют педикулёз и массу иных болезней. Сама мать – онкологическая больная (поэтому в других местах её с детьми просто не принимали), менее чем через год умирает, приняв монашество и завещав девочкам оставаться в монастыре, пока те не вырастут.
Из трёх сестёр, по общему мнению наставниц и подруг, наиболее проблемной была средняя – та самая Валя. Девочка непростая: нервная, самолюбивая, склонная к провокативному поведению и непослушанию, болезненно воспринимающая критику и наказания. К 16 годам (подростковый возраст!) она решила, что жизнь в монастыре – не для неё, и сбежала в первый раз. Когда Валю вернули, встал вопрос: передать её в обычный детский дом или всё-таки оставить. Перевесила жалость: монахини понимали, что после нескольких лет исключительно монастырского воспитания девочке в детском доме (который, разумеется, вовсе не так совершенен, как кажется девочке-подростку из-за монастырского забора) будет очень нелегко. Сегодня многие в монастыре считают, что, пожалев тогда девочку, допустили ошибку. Потому что желание уйти у неё осталось, и, более того, в разговоре с подругами (чему есть свидетели) Валя порой говорила, что снова сбежит, причём «наврёт про монастырь такое, что обратно её уже не возьмут». Всё же в плохое не верили, и побег её для многих, включая родных сестёр, стал настоящим шоком.
Разумеется, в реальности побег весьма отличался от «голливудской» картинки, нарисованной СМИ. Инициатором и организатором его была некая девочка Наташа, некоторое время назад ушедшая из монастыря. Накануне она наведалась в Боголюбское и передала записку, которую потом нашли дети, – в записке предлагалось совершить побег, за который последует щедрая награда. Именно эта девочка встретила беглянок в Гусь-Хрустальном и затем доставила к о. Максиму. Только после этой записки, а отнюдь не повинуясь спонтанному порыву, Валя Перова и Кристина Фёдорова, прихватив на дорогу 400 рублей из монастырской кассы, уходят из обители. Естественно, ни через какую ограду они не перелезали: чтобы выйти, у входа достаточно сказать привратнице, мол, «матушка благословила». Добравшись на попутках до Гусь-Хрустального, девочки попадают к Наташе, а затем – к поджидавшему их о. Максиму, который тайно переправляет их в Москву. Там они сначала находятся у о. Сергия (Рыбко) в некоем «сестричестве» (не зарегистрированном), а затем передаются в приют «Дорога к дому» для малолетних наркоманов (!) того самого фонда «НАН», возглавляемого... г-ном Зыковым. То есть заранее созданный «канал переправки» просматривается вполне явственно.
Дальше – ещё интереснее. Девочек в приюте содержат в строгой изоляции, допуская контакты только со специально отобранными людьми из СМИ: монахиням и родным сообщали, что они якобы «никого не хотят видеть». Кристину Фёдорову родителям удалось-таки вырвать из рук сотрудников Зыкова, да и то только после вмешательства очень высоких должностных лиц. У Вали же родителей не было, она осталась в приюте «НАН» и именно там написала скандальное письмо. Затем её всё-таки разыскали – Валина старшая сестра Женя и сопровождавшая её монахиня Антония прибыли в приют и стали требовать встречи. Сначала им категорически отказывали, говоря, что «Валя никого из вас не хочет видеть». Затем девочку всё же привели, она радостно кинулась навстречу обеим, обнимала их и плакала. Однако этим общение и закончилось: поняв, что всё идёт не по сценарию, присутствовавшие при свидании пятеро (!) сотрудников «НАН» заявили, что девочке срочно надо идти на какие-то анализы и уколы, с которых через 15 минут Валя вернётся. Валя, естественно, не вернулась, а через час сестре и матушке Антонии заявили, что она «снова не хочет их видеть».
Таким образом, есть весьма серьёзные основания предполагать, что Валя Перова попала в жернова весьма жёсткой и отлаженной системы. Сегодня она находится в очень сомнительных руках, практически в изоляции, все действия её жёстко контролируются и направляются, а сама девочка подвергается весьма профессиональному психологическому и, возможно, медикаментозному воздействию. Заметим, кстати, что скандальное письмо было написано Валей Перовой именно в этом приюте.
Вопрос второй: кто в действительности писал «письмо Вали Перовой»?
Сразу бросается в глаза откровенно «взрослый» стиль письма, его формулировки обвинений, безупречные с юридической точки зрения. Все, кто знал Валю лично, убеждены: сама она написать это не могла. В монастыре по местным меркам Валя была в учёбе весьма посредственным «середнячком». Её относительную грамотность и знание русской литературы, которые сотрудники «НАН» объясняют отменными способностями девочки, следует отнести, скорее, на счёт прекрасно поставленной в монастыре системы образования (классы на пять человек, индивидуальный подход, среди преподавателей – люди c педагогическим образованием, а то и с двумя-тремя дипломами). Попав впервые в школу только в девять лет, бывшая маленькая бродяжка сумела к своим почти семнадцати годам закончить 9 классов. Так что, когда директор приюта «НАН», где она теперь находится, Татьяна Харыбина заявляет, что письмо Валя писала «сама от первого до последнего слова, а наши работники подправили лишь пунктуацию», она, очевидно, лжёт. Чтобы убедиться в этом, достаточно попросить девочку написать всё то же самое ещё раз, а затем сравнить стиль обоих писем.
Теперь то, что касается содержания. Если сам господин Зыков сумеет, сохранив при этом здоровье, просидеть взаперти на хлебе и воде 12 дней, поработать хотя бы недельку в поле «с 6 утра до 8 вечера» (т.е. по 14 часов) или хотя бы раз исполнить 1000 земных поклонов, буду лично рекомендовать его в программу «Минута славы». Потому что проделать подобное непосильно чисто физиологически даже взрослому человеку, не говоря о ребёнке. Поклоны в качестве наказания в монастыре действительно дают: взрослым монахиням – максимум 40, девочкам – не более двенадцати. Согласитесь, это скорее напоминает физзарядку, чем «истязание». На полях действительно работают – но летом, по 3-4 часа, как в своё время пионеры «на картошке». Кроме того, ежедневное «послушание» – 1-2 часа перебирают и чистят картошку, свёклу, прибирают за собой – так это же прекрасно! Печально, что в обычных школах воспитание трудом забыто!
Насчёт 12 дней «карцера» – тоже типичная «утка». Кстати, вторая сидевшая в этом «карцере» девушка – Ксения Головко – уже письменно подтвердила, что это ложь. Да, за явно девиантное поведение Валю и ещё одну девочку действительно наказали очень строго по местным меркам – на две недели изолировали от подруг. Девочки жили в отдельной комнате с монахиней-медработником, учились и питались со всеми, но гулять им разрешалось лишь один час по вечерам и в сопровождении. Таким было «самое суровое наказание», за которое более всего и обиделась Валя.
Что же касается «жизни впроголодь» и всего прочего, то недавно при медицинском обследовании девочек врач был поражён хорошим качеством их крови (такая по нынешним временам – у одного ребёнка из десяти), что говорит об очень хорошем и здоровом питании. Удивляться нечему – едят только свои продукты с подсобного хозяйства, блюда вчерашнего приготовления не употребляют вовсе.
Так что либо девочка исполнила-таки свою былую угрозу «наврать про монастырь такое, чтобы обратно не взяли», либо её рукой водил весьма заинтересованный взрослый «редактор». Нетрудно догадаться, кто именно.
Вопрос третий: зачем им всё это надо?
Что касается Вали Перовой, то с ней как раз всё ясно. Девочка не хочет жить в монастыре, а значит, имеет законное право уйти в детский дом или быть удочерённой приёмными родителями. В монастыре никто против этого не возражает и удерживать её насильно не собирается. Вопрос, стало быть, в том, какими будут последствия разразившегося скандала для самого монастыря.
Духовник монастыря архим. Пётр (Кучер)
Идея прикрыть все приюты при монастырях вынашивалась заинтересованными кругами давно. И то, что в качестве первой мишени был избран Боголюбовский монастырь, совсем не случайно. Возглавляющий его архимандрит Пётр (Кучер) – личность широко известная, имеющая по стране многие десятки тысяч приверженцев и духовных чад. Фактически это неформальный лидер наиболее консервативного крыла РПЦ, не приемлющего ИНН (кстати, Святейший Патриарх также высказался позднее за свободу для верующих принимать или не принимать для своей идентификации цифровой код вместо данного при крещении имени) и начавшего почитание Царственных мучеников Романовых ещё до их официальной канонизации. Кроме того, в ряде своих книг и проповедей о.Пётр резко и открытым текстом говорит о том, о чём многие другие предпочитают «толерантно» умалчивать.
Ко всему этому можно относиться по-разному. И сам я, и другие члены Общественной комиссии понимают и принимают далеко не всё из того, что делает отец Пётр, да и его духовными чадами не являются. Именно поэтому мы можем рассматривать ситуацию объективно, с точки зрения приоритетности интересов ВСЕЙ Церкви и, более широко, интересов России. А с этой точки зрения всё произошедшее весьма напоминает чётко спланированную и проведённую провокацию, стоят за которой враждебные православию и России прозападные силы. Причём расчёт их при организации скандала, очевидно, строится на том, что кому-то в руководстве РПЦ покажется соблазнительным, пользуясь случаем, избавиться от такой неоднозначной и при этом сверхпопулярной личности, как отец Пётр. И вот либералы услужливо предоставляют им такой повод. Тем более что, по данным некоторых ветеранских структур, летом вышел полузакрытый доклад Госдепа США, в котором Свято-Боголюбовский монастырь, как цитадель консерватизма и монархизма, назван в числе самых опасных мест, откуда «тоталитаризм» может распространиться по всей России. Так что и внешний «заказ», как видите, тоже имеется.
Что мы можем получить в итоге? Предположим, на волне скандала настоятеля Свято-Боголюбовского монастыря удастся убрать. Но означать это будет и уничтожение на многие годы самого монастыря как духовного центра: и насельники, и монахини, и многочисленные сторонники отца Петра уйдут вслед за ним. И станет бывшая святыня рядовой «достопримечательностью», то есть тем, чем, в конечном итоге, и мечтают видеть всю Православную Церковь господа «соросовцы», вроде Олега Зыкова и иже с ним. Ведь на одном монастыре они, понятное дело, останавливаться не собираются. Очень скоро кто-то «убежит» из какого-то другого православного приюта, потом – из кадетского корпуса или Духовного училища, а прецедент того, каким должно быть решение и наработанная схема действий, уже будет!
Не заметить согласованных действий вокруг всей этой дурно пахнущей истории с «обличительными письмами» просто невозможно.
* * *
Выводы, озвученные В. Хомяковым, подкрепил на пресс-конференции заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко. Он утверждает, что тактика уничтожения православных приютов, которая явственно просматривается за кампанией против Свято-Боголюбовского монастыря, легко узнаваема. Ему известно о двух случаях использования точно такой же тактики против аналогичных приютов при других обителях.
Как отметил в комментарии Русской линии публицист Владимир Семенко, эта тактика направлена не только против приютов: «Схема, по которой могут осуществляться подобные провокации, была в полной мере ясна мне по меньшей мере два года назад. На мой взгляд, из отца Петра (принципиального противника ИНН. – Ред.) сейчас будут старательно лепить нового Диомида, всячески третировать, оскорблять, унижать старого человека и фронтовика, стремясь любой ценой склонить к раскольническим действиям, создать канонический предлог для жёсткого дисциплинарного вмешательства со стороны высшего священноначалия. И это только начало...»
http://rusvera.mrezha.ru/597/12.htm
|
КУКЛА ИЗ ТКАНИ |
Это цитата сообщения Hifune [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Шьем фею. Тряпиенс мельчайших в подробностях
МК по шитью кукол от мастера Александры Ковтун
Материалы: х/б ткань телесного цвета, ткань для платья, пряжа/шерсть для волос, наполнитель(холлофайбер), краски для ткани, пуговицы, бусинки. Время работы: примерно день Сложность: (по шкале от 1 до 5) 3
1. Прокладываю ткань для тела(40×56см) флизелином – так проще набивать и меньше «целлюлита».
2.Складываю ткань вдвое. Рисую контуры.(рис 1) Прострачиваю. Вырезаю. Отверстия для набивки на ногах не оставляю – прострачиваю целиком. (рис 2) Отверстие для набивки головы должно быть на 3-4мм больше, чем шея. (рис.3)
3. Если ноги сразу разложить правильно одна относительно другой и наметить места разрезов на внутренних сторонах бёдер, то швы окажутся именно с внутренней стороны, прилегающей к телу и будут меньше заметны. Аккуратно делаю разрезы.
4. Промазываю ПВА в уголках сгибов. (рис 4)
|
Чтобы волосы росли. |
Это цитата сообщения NPemaYogini [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
Бабочки из пластиковых бутылок |
Это цитата сообщения bahera [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
ПРАВОСЛАВНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА (аудио книги) |
Это цитата сообщения fibo-62rus [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
http://православная-проза.рф/proizvedeniya-pravoslavnyix-pisatelej#agafon
|
МУЖЕСТВО ДАТЬ ОТПОР |
Что тут скажешь?
Согласно канонам пастырь, применивший оружие, не имеет больше права священнодействовать. Но история знает немало исключений. Например, в борьбе с Османским игом черногорские священники участвовали как воины, а батюшкам, которые во время Великой Отечественной войны вынуждены были уничтожать фашистов, Синод благословил, ради икономии, служить как служили. В Ельце картина схожая – священник защищал девочку. Так что поступил отец Николай, на мой взгляд, единственно возможным образом. Другое дело, что запрет на какое-то время всё равно необходим. Даже солдат-христиан в древности несколько лет после войны не допускали до причастия, чтобы молитвами очистились от пролитой крови.
Следствие, однако, ведёт к тому, чтобы церковным запретом дело не ограничилось. При этом нападавшие на свободе. Они – потерпевшие. Почерк знакомый. Три года колонии получила москвичка Александра Лоткова, которая, защищая друзей (их избивали хулиганы), применила травматический пистолет. Это случилось на одной из станций метрополитена. Сначала Саша с подругой вызывали милицию. Долго ждали. Наконец страж порядка появился и начал равнодушно наблюдать за происходящим. Увидев нож в руке одного из нападавших, Александра сделала предупредительный выстрел в сторону. Не помогло. Тогда она четырежды выстрелила в преступников, повредив лёгкое одному из хулиганов. Несмотря на то что избиение оказалось записано на видеокамеры метрополитена, а у одного из приятелей Саши осталась рана от удара ножом, преступники следствие не заинтересовали. Они – страдальцы, которым Саша должна будет выплатить компенсацию: одному 300 тысяч, другому – 250.
Красавица, студентка юрфака, она внешне мало отличается от тысяч других современных девушек. Поди разбери, что она другая.
Чтобы понять, откуда она взялась такая, нужно кратко сказать о её родословной. Один её прадед – Алексей Васильевич Лотков – погиб в Сталинграде. Другой – Михаил Васильевич Кузнецов – генерал, дважды герой Советского Союза. Её дед – Алексей Алексеевич Лотков – ведущий специалист, разработчик средств ПВО. Её бабка – Валентина Сергеевна Лоткова – разработчик средств ПРО. Дед – Сергей Александрович Лисицин – сотрудник внешней разведки. Мать – Екатерина Сергеевна – инженер-электронщик, погибла от рака в 30 лет после испытаний систем вооружения на радиационную стойкость. Саше был тогда один год. Ей было бы трудно вырасти другой, у неё это в крови – защищать.
Когда судили Лоткову, на свободу выпустили пятерых чеченских милиционеров, имевших мандаты охранников Кадырова. Прикатив в Москву, они похитили человека, били его ломом, насиловали бильярдным кием, требуя выкуп. Не добившись своего, выбросили на улицу умирать. Но он выжил, дал показания. Банду задержали, а потом освободили. Следователя, который вёл их дело, уволили – чтобы не мешал нелюдям жить.
С такими сплошь и рядом обходятся по всей строгости беззакония и, лишь если дело приобретает широкий резонанс, вынуждены бывают идти на попятную. Так было, например, с Татьяной Кудрявцевой. Женщина возвращалась из леса, куда ходила по грибы. Миниатюрная брюнетка – весу в ней килограммов сорок – наверное, она особо опасна. Преступник сбил её с ног и, затащив в овраг, попытался изнасиловать. Татьяна ударила его грибным ножом, случайно попав в сердце. Потом бегала звать людей на помощь, звонила в «Скорую». По мнению следствия, она «умышленно убила человека по причине внезапно возникшей личной неприязни». Синяки на руках и груди не были приняты во внимание. На своё счастье, Кудрявцева оказалась правозащитницей, так что за неё нашлось кому вступиться. Правоохранители сначала со скрипом изменили формулировку, ограничившись «превышением необходимой самообороны», а это всё-таки три года, а не пятнадцать, потом Татьяну и вовсе оправдали.
Хорошо закончилось и дело тульского фермера Гагика Саркисяна. В дом, где, кроме него, жила его большая семья, ворвалась вооружённая банда. Угрожали пистолетом, избили жену и дочь, самого ударили битой по голове. Услышав «пора кончать женщин», он схватил кухонный нож и убил трёх грабителей (сказались навыки, полученные в армии). Его попытались посадить за это на три года. Лишь вмешательство губернатора Груздева спасло Гагика от мерзавцев в погонах. От них иногда труднее отбиться, чем от вооружённых до зубов преступников.
По официальным данным МВД России, по состоянию на 1 декабря 2004 года были похищены 23 451 автомат, 25 916 пистолетов, 1 927 пулемётов, 2 661 гранатомёт и 71 переносная ракетная установка. Между тем попытка терских казаков в 2002 году получить оружие потерпела неудачу. И ведь люди не просили выдать им стволы на руки. Предлагали хранить их в оружейных комнатах в отделениях милиции, с тем чтобы в случае нападения боевиков защитить свои станицы. Не положено.
Как я лично отношусь к праву владения огнестрельным оружием? Просто приведу статистику. В Англии, после того как правительство запретило владение многими видами огнестрельного оружия, число вооружённых ограблений выросло на 88 процентов. Теперь это одно из самых опасных в мире мест. В Молдавии, наоборот, гражданам разрешили иметь пистолеты и револьверы. Результат: преступность упала почти вдвое. Это два примера из многих.
Но у нас, в России, разрешение владеть огнестрельным оружием даст совершенно другой результат. В лагеря потоком хлынут люди, подобные отцу Николаю Калабухову, Саше Лотковой, Гагику Саркисяну. И это уже не свалить на безбожие: в стране 80 % населения называют себя православными. Мы – теплохладны и робеем перед злом. Слава Богу, есть ещё те, кто имеет мужество дать отпор.
Владимир ГРИГОРЯН
http://rusvera.mrezha.ru/686/1.htm
|
ПОЧЕМУ У НАС ОТНИМАЮТ НАШИХ ДЕТЕЙ? |
Полгода назад, будучи в Петербурге, наконец-то воочию познакомился я с друзьями нашей редакции – с многодетной семьёй, с которой несколько лет переписываемся. Был повод: передать им полтора мешка яблок, пожертвованные одной доброй женщиной. Волок эти яблоки и думал: «Наверное, их засушить придётся, долго ведь не хранятся». А когда увидел семью – семь детей! – то посмеялся над собой. Что для них мешок? Влёт уйдёт.
Живёт эта православная семья весьма скромно: папа не бизнесмен и зарабатывает не много, а мама с новорождённым сидит. И вот на днях узнаю, что они отказались от материальной помощи, которую им государство выплачивало. И причина будто бы в ювенальной юстиции. Звоню в Питер:
– Анна, вы и вправду от соцпомощи отказались?
– Да, есть опасения, что из-за этого отнимут детей, – объясняет многодетная мама. – В заявлении на соцпомощь надо указывать, что у семьи нет прожиточного минимума, что она бедствует. Вот за это «ювенальщики» и могут уцепиться.
– А что, уже были такие случаи?
– Были. Детей ведь отнимают. Зайдут с проверкой, посмотрят в холодильник – продукты просроченные. И всё, «дети в опасности», надо лишать родительских прав.
– Ну, просроченные продукты и в магазинах часто продают.
– Всё равно. У них же свои инструкции.
– Вы знаете такие семьи, у которых детей забрали? – спрашиваю.
– Сама я с ними не знакома, но читала про такие случаи на интернет-форумах, и большая статья была в православном журнале «Фома».
– Написать-то на форумах могут всякое, а у вас свои реальные проблемы, зачем же от денег отказываться? – начинаю я уговаривать женщину. – Ну, придут к вам с проверкой и только порадуются, какие у вас ухоженные и талантливые детишки. У вас же дома на стенах целая картинная галерея из детских рисунков – видно, что они и в художественную школу ходят, и в разных кружках занимаются, очень разносторонне развиты. У кого же рука поднимется в детдом их отправить? И вообще, у нас нет такой ювенальной юстиции, как на Западе, и её внедрение вроде остановлено.
Этак я уговаривал, а про себя думал: «Э, брат, а что ты сам недавно на интернет-форуме другим людям доказывал? Что “ювенальщики” незаметно внедряют в России свои законы...»
Где закон?
Спор у меня тогда вышел с россиянкой, которая вышла замуж за канадца и живёт попеременно то в Канаде, то в России, и, как утверждает, может сравнивать порядки там и тут. К тому же Татьяна оказалась профессиональным юристом и сразу же припёрла меня к стенке:
– Михаил, вот вы говорите, что «ювенальщина» угрожает России. А назовите мне конкретно, в каком законопроекте говорится о ЮЮ? Он хоть существует в природе?
Вопрос мне показался простым. Но когда начал искать в сети документы, то обнаружил только один, на который все ссылаются: проект федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции», датированный 14 февраля 2005 года. Разработали его юристы А. С. Автономов, Н. Л. Хананашвили и предложили для общественного обсуждения.
– Вот видите, – продолжила Татьяна. – Этак и мы с вами можем написать законопроект и выложить в Интернет. Это же несерьёзно!
– Так ведь это был пробный шар, – не сдаюсь я. – Вы знаете, кто стоит за авторами проекта? В ту пору либералы в правительстве как раз продвигали разные социальные реформы. Помните «монетизацию льгот»? В 2005 году против них выступил народ, были демонстрации, и власти пошли на попятный. Заодно не стали будировать вопрос с ювенальными реформами.
– Хорошо. А вы законопроект читали? И вообще, знаете, что такое «ювенальная юстиция»? Это не надсмотр над семьями, а работа с подростковой преступностью. Термин относится только к этому – «ювенальный» переводится как «юношеский». И закон, который бы регулировал наказание и профилактику правонарушений несовершеннолетних, России сейчас очень нужен. Старая советская система устарела, «детских комнат милиции» уже нет, а молодёжная преступность растёт. И вот из-за вас, воюющих против «ювенальщиков», принятие такого закона затягивается!
Ошарашенный, берусь читать законопроект. Действительно, там большей частью говорится о подростковой преступности. Но в преамбуле чётко обозначено: «Деятельность системы ювенальной юстиции осуществляется в отношении детей, находящихся в различных формах конфликта с законом, а также в отношении родителей и лиц, их заменяющих, ответственных за воспитание детей». И далее что ни статья, то упор на «приоритет прав, свобод и законных интересов ребёнка», из чего следует, что если такие права в семье не соблюдаются, то ребёнка нужно перевести в другое место «для его наилучшего развития».
– Это что же получается?! – отвечаю Татьяне. – Проблему подростковой преступности они использовали, чтобы протолкнуть закон о вмешательстве в дела семьи? Это же разные вещи!
«Отобрание»
К протесту подключились карикатуристы. Плакаты против "ювенальщины"
В 2005 году такая подмена не прошла. А в 2008-м была попытка внести изменения уже в сам Семейный кодекс РФ. В главу 22-ю было добавили статью, которая предусматривает изъятие из семей детей, «находящихся в трудной жизненной ситуации». Но в Совете Федерации главный юрисконсульт О. Леткова подняла шум, и сейчас в Кодексе такой статьи нет. На каком этапе её зарубили, я так и не понял. В 2010 году Общественная палата РФ вновь выдвинула предложение ввести эту статью в КС, но дело замяли.
Всё это я выяснял, когда оппонент-юрист мучила меня своими заковыристыми вопросами. Пришлось перелопатить множество законов. И вот какая картина открылась.
Единого закона, который бы давал чиновникам право вмешиваться в семейные дела, пока нет. Но общая правовая база для этого уже создана. Причём началось это ещё во времена президентства Ельцина. В 1995 году был принят федеральный закон № 195 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Там было прописано, что такое «трудная жизненная ситуация в семье»: «Ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятельность семьи, или ситуация, которую она не может преодолеть самостоятельно». В соответствии с этим законам в инструкциях органов опеки появились и критерии такой ситуации:
«– неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями... своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);
– отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и т. д.);
– отсутствие контроля воспитания и обучения детей (отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребёнка)».
То есть если у ребёнка нет варежек зимой на улице или папа не расписывается в его школьном дневнике, то в дело вступает закон. На региональных уровнях всё это уже используется на практике. Так, в Москве в 2010 году в мэрии был принят «Регламент межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия». Направлен он не на поддержку семей, а на принятие мер к родителям, «не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего». По сигналу (заявлению соседей, самого ребёнка, школьного учителя, старшего по подъезду – при подозрении на жестокое обращение и т. д.) в течение трёх дней выезжает мобильная группа, включающая также сотрудников полиции, которым надлежит оказывать содействие органам опеки в отобрании ребёнка (так в тексте, про «отобрание» говорится и в Семейном кодексе РФ. – М.С.). По результатам обследования принимается решение об изъятии детей из семьи.
Поражает то, что государство взяло на себя право определять, правильно ли родители ВОСПИТЫВАЮТ детей. То есть оно уже может вмешиваться в такие тонкие материи, как культура, духовность семьи, её традиции и т.д. Как такое могло получиться, где законные основания для этого? Не на основании же инструкций? Снова смотрю в Семейный кодекс РФ – в поправки 2008 года. Как уже выше писал, статья про «трудную жизненную ситуацию» туда не прошла. Но появилось дополнение в ст. 121-ю: права детей защищаются органами опеки «при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному ВОСПИТАНИЮ И РАЗВИТИЮ».
Надо сказать, и в старой редакции Семейного Кодекса говорилось об ответственности родителей за воспитание детей - но в общих чертах. Теперь же конкретизировано: воспитание должно быть «нормальным», а если оно не «нормальное», то органы опеки вправе вмешаться. А что есть «норма»? Похоже, это будут решать сами чиновники.
На такие «мелкие», эпизодические нововведения общественность мало обращает внимания. Шум поднялся, лишь когда их собрали в один большой пакет. С 1 января 2013 года вступил в силу так называемый закон о социальном патронате. На самом деле это не отдельный закон, а большой набор поправок в самые разные законодательные акты (Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» и др.), которые изменяют нашу правовую систему в сторону ужесточения надзора и вмешательства в дела семьи. Каждая по отдельности поправка, наверное, не привлекла бы внимание, но, собранные вместе, они показали масштаб преобразований.
Вот так, не мытьём, так катаньем, внедряется то, что мы неточно называем ювенальной юстицией (навязали нам такой термин), а по сути, это захват государством родительских прав, которые даны нам природой и Богом. Как к этому относиться? Однозначно – защищаться!
Право и судьба
Собственно, спор с россиянкой, живущей в Канаде, и произошёл из-за того, в какой степени мы можем защищаться от ЮЮ. На польском форуме восхитился я «настоящим поляком» – частным детективом Кристофом Рутковским, который, рискуя попасть в тюрьму, помогает родителям вернуть себе детей из приёмных семей. Так, в Норвегии органы опеки забрали у польской семьи и отдали в приёмную дочь Николу на основании того, что она была «печальная и вялая» (сама она объясняла свою грусть тем, что у неё умерла бабушка). Ночью девочка спустилась из окна на втором этаже, Рутковский её подхватил и тайно вывез на машине в Польшу. Таким же образом он помог и россиянке Ирине Бергсет (Фроловой) вывезти из Норвегии сына Сашу.
– Законы чужой страны надо уважать, – не согласилась с моей радостью Татьяна. – Я бывала в Норвегии, да, там много детей забирают у биологических родителей, но это ИХ порядки. Там общество очень заботится о благополучии детей, защищает их.
– В том числе защищает от «удушающей родительской любви»? – спрашиваю. – Ведь именно с такой формулировкой у российской актрисы Натальи Захаровой во Франции отобрали трёхлетнюю дочь Машу. У вас в «канадчине» то же самое?
– Ювенальные законы в Канаде помягче, но за семьями внимательно следят. Ребёнок не выбирал тех, кто его произвёл на свет, он не имеет возможности отстаивать свои права, и поэтому государство обязано гарантировать ребёнку соблюдение его прав в семье.
– Почему-то все говорят о «правах ребёнка», – замечаю я. – А почему не говорят о «правах родителей»?
– А кто им эти права давал? Вот водительские права, понимаю, их дают после обучения и экзамена и только тогда пускают за руль машины. А воспитание детей – это же не менее ответственное дело! Сделать-то ребёнка дело недолгое и нетрудное, а вот растить... Ребёнок же не вещь, не собственность, не домашнее животное, чтобы считать его «своим». Он – самостоятельная личность.
– Знаете, Татьяна, странные вещи вы говорите, – поразился я. – Родители – это судьба, так Бог определил. Должна же быть родовая преемственность, укоренённость в жизни на этой земле, а это возможно только через кровных родителей.
Почему-то, отбирая детей, всегда говорят: «Мы лишаем вас родительских прав». Но почему при этом не обращаются к детям: «А вас мы лишаем права иметь родных». Ведь отнятые дети лишаются не только пап и мам, но дядей и тёток, двоюродных и троюродных братьев-сестёр, бабушек-дедушек и всего своего рода, из которого они происходят, который является носителем идентичности человека. Сами дети такой чудовищной утраты могут не понимать, но потом это же скажется на их судьбе! И это не просто слова, это опыт всего человечества. Вы же читали древнегреческие и шекспировские трагедии, русские сказки – везде там обыгрывается такой остропереживательный момент, когда потерянные сын или дочь на склоне лет находят своих кровных родителей, и – о, Небо! – вселенская гармония торжествует. Это что, на пустом месте появилось? Как думаете, почему человека, не знающего своих кровных родителей, всегда воспринимали как несчастного по жизни лишенца, жизнь под солнцем которого изуродована? Почему вся наша многотысячелетняя цивилизация придавала такую важность кровному родству?
– Вы говорите о прошлом, – ответила мне канадская россиянка. – А в прошлом было рабовладение, феодализм, когда живые люди могли считаться чей-то собственностью. Цивилизация же прогрессирует. Теперь мы доросли до того, чтобы уважать права каждой личности, в том числе ребёнка.
– По-о-озвольте! – возмутился я. – Не надо смешивать. Цивилизация, социальные отношения – это одно. А кровное родительство – совсем другое, оно находится над социальными отношениями, неслучайно же семью называют первичной ячейкой общества. И какой тут прогресс вы увидали? Рабовладелец, хозяин был вправе разлучать родителей и детей по своему усмотрению – и то же самое право сейчас присваивает себе государство. В чём разница-то?
И вообще, о каком «праве личности» вы говорите?
Что такое «право»? Я нисколько не юрист, но знаю историю римского права. Римскому гражданину права давались вместе с ответственностью – защищать и служить империи. А какая ответственность может быть у ребёнка в семье? Вам не кажется, что сознание права без сознания ответственности портит людей – особенно таких, у которых только формируется личность? Кем он вырастет, этот павлик морозов?
И что такое «личность»? Это же не просто индивидуальность, какую можно вырастить в пробирке «правильного социума». Личность базируется на причастности к роду, на своей генетической памяти, на сознании, что он не с Луны свалился, а «из земли вышел». Нельзя вот эту-то землю из-под ног выдёргивать и лишать человека укоренённости в истории, в смене поколений. Если человека оторвать от его реальных, настоящих корней, то он в итоге как раз и станет «собственностью, вещью, домашним животным» социума и государства. Вообще, сам институт ювенальной юстиции мне видится как инструмент подчинения человека государству. Оторванными людьми ведь легче управлять. А вот если индивидуальность укоренена в своём роде, если человек знает, откуда он вышел и какие поколения связывают его с той землёй, на которой живёт, – то таким человеком управлять сложно.
В чужой квартире
К сожалению, эти мои «умные» доводы не убедили Татьяну. «Не знаю. Меня, наверное, Канада испортила, – ответила она. – Но когда вижу нищету и пьянство в семьях, где мама рожает и рожает...»
Ну что тут ответишь? Стал я рассказывать молодой женщине про свой рабочий посёлок, где рос до 18 лет. Там жили завербованные на Север, самые разные люди. Посёлок маленький, окна летом постоянно открыты – и все семейные скандалы на слуху. Некоторые мужья-пьяницы били и жён своих, и детей. Матери в сердцах тоже могли приложить детишек резиновым шлангом от стиральной машины. Но согласились бы эти дети на лучшую долю, но в другой семье? Да они бы в лес убежали прятаться, если б за ними приехали! Суть в том, что «плохих» родителей не бывает. Бывают плохие кормильцы семьи, плохие воспитатели, но не родители.
Тут же вспомнил я Ильюшечку Снегирёва из «Братьев Крамазовых», как он любил и жалел своего пьяного, опустившегося отца. Когда речь зашла о Достоевском, в наш разговор вступил ещё один человек, пожилой учитель из небольшого северного городка.
– Знаете, по окончанию института ещё в советское время работал я в сельской школе, – вспомнил он. – Была там семья: мама-скотница (представляете её график работы?), прижившая от разных мужчин пяток детей от 3 до 15 лет. Баловалась водочкой, но, по местным понятиям, не чрезмерно. В квартире – грязь, запустение, детки спят вповалку на ворохе старых матрасов и ватников, брошенных на пол. И неизвестно, чем питаются: весь день на улице, в лесу, на ферме. Педикулёз, диагнозы о разной степени отклонений в умственном развитии, школа – место встречи со сверстниками и бесплатная столовая. В очередной раз группа ответственных товарищей (и я в том числе) «обследуем условия проживания несовершеннолетних»... Мать примчалась с фермы на часок, попыталась размести грязь по углам, стоит и молча ждёт, обречённо так, ведь мы – власть. Банальные вопросы, односложные ответы. Наконец подходим к неизбежному, председатель: «Санна, тебе ведь самой с ними не сладить, давай хоть младших – в интернат?» «Интернат» – это другой район, жизнь вдали от дома. Мать смотрит в пол, молча отрицательно мотает головой. Дети тихо плачут и жмутся к ней. Несмотря на диагнозы, в их глазах – весь Достоевский. Мы кряхтим и пятимся к выходу. Протокол составляется формально, выдумываются какие-то «меры воздействия», ведь даже 10-рублёвый штраф – это просто ещё меньше денег детям. И семью оставляют в покое до следующего раза...
Мне, образованному городскому юноше, стыдно и гадко не только за то, что они так убого и скверно живут, но и за то, что на одну минуточку я стал «властью», которая могла бы разлучить мать и детей.
Что делать?
– Да-а, всё так... – согласилась наша собеседница. – Но разве детей вам не жалко? Разве не хочется их защитить? Что вы сами-то предлагаете вместо ювенальной юстиции?
– Что предлагаю? – подумал я. – Конечно, защищать. Но не ребёнка отдельно, потому что «отдельных» детишек не бывает. А защищать семью в целом. Что у нас записано в Конституции? Там нет «прав ребёнка», а есть защита государством «материнства и детства». Этот конституционный принцип был закреплён у нас ещё в 1977 году и с той поры не менялся. И социальная работа по этому принципу велась, был фонд «защиты семьи, материнства и детства». Именно в такой очерёдности: сначала семья, потом материнство, потом – детство.
– Нет! – прервала меня женщина. – Я конкретно спрашиваю: что делать, если мама не работает, пьёт или колется, за ребёнком не следит? Оставить как есть?
– Первым делом надо попытаться спасти эту семью, – стал я придумывать решение. – А для этого необходимо социальным службам выделить материальные средства, чтобы адресно помогали неблагополучным семьям, устраивали на работу и так далее. В самых тяжёлых случаях – отправлять семьи в особые социальные посёлки, где родители под воздействием благоприятной среды будут вынуждены работать и заботиться о детях. В большинстве случаев «пропащие» родители – это же нормальные люди, которым нужно лишь помочь встать на ноги.
– А как вы их заставите в такие родительские поселения переезжать? – удивилась юрист. – Это нарушение прав человека, тут Конституцию переписывать придётся!
– А детей отнимать – Конституцию переписывать не надо? – удивился я в ответ. – Вот вы сразу зарубили: так не пойдёт! Почему у нас всегда идут по простейшему, запретительному пути? Можно же предложить альтернативу: или вы добровольно, без принуждения законом, проходите реабилитацию в социальных поселениях, или к вам применяется последняя, «высшая мера» соцзащиты – лишение родительских прав.
Формы могут быть самые разные. При умело поставленном деле неблагополучные семьи можно спасти в большинстве случаев. Если создать соответствующую психологическую атмосферу, вытащить такую мамашу из её тёмного мирка, подлечить её, показать перспективу, ввести в круг таких же семей... Я видел, как даже от наркомании лечат, не до конца, но всё же. Что уж тут? Если к каждой мамаше подобрать свой ключик? Это же не уроды какие-то, а обычные люди.
Вот вы говорите: «Наша цивилизация доросла до осознания наличия у ребёнка прав и понимания необходимости эти права соблюдать и защищать». Ну, где же доросла-то? Взять и отобрать – это же очень просто, ни до чего тут «дорастать» не надо. А защитить семью – вот до этого нам расти и расти, это как раз цивилизованный подход.
На этом спор наш закончился. После него осталось странное чувство: словно мы незаметно для себя переходим какую-то грань, превращаясь в социороботов.
Ведь человеческие взаимоотношения и вправду всюду деградируют. Раньше наши предки жили в сложном и гармоничном мире – поддерживались разветвлённые родственные отношения, были крёстные родители, духовники семей, в делах семьи участвовали «родовые патриархи» – дедушки и бабушки. Мы же пришли к простой формуле: папа + мама + ребёнок. А теперь нам предлагают формулу ещё примитивней: государство + ребёнок, папа, мама. Вместо плюса между родителями и детьми – запятая. И ведь мы к этому постепенно привыкаем!
На каждом этапе социализации семьи «ювенальщики» будут доказывать нам свою «гуманитарную» правоту. И поэтапно будут подчинять логике: дети должны быть счастливы → дети имеют свои права → дети имеют право на заботливых родителей → дети имеют право на заботу → дети имеют право на самую лучшую заботу → всех детей надо поместить в профессиональные, специально обученные семьи, где им окажут самую лучшую заботу → у детей должны быть профессиональные семьи → всех детей необходимо отбирать у биологических родителей, потому что они не профессионалы.
Думаете, это выдумка? А давайте мысленно перенесёмся лет на 60 назад, скажем, в Европу и США до 50-х годов, и посмотрим на сегодняшние реалии их глазами. Что они скажут? «Ну и бред! Нет, такого быть не может!» Уже сейчас родительские права сравнивают с правами вождения на автомобиле, которые надо ещё заслужить. И это уже первый шажок к «профессиональным семьям». Потом заговорят о том, что не надо давать водительские права кому ни попадя – это ж сколько придурков на дорогах, людей давят, сами разбиваются! Не лучше ли такси с умелым и надёжным водителем? А ещё лучше – общественный транспорт, где за рулём заслуженные профессионалы. Аналогия-то прямая: «Разве не дикость, что какие-то случайные граждане, часто глупые и с неустойчивой психикой, растят детей?! Кто они такие?! Детей должны воспитывать люди подготовленные, с дипломом педагога. А ещё разумней – отбирать детей у этих случайных родителей и определять в инкубаторы, где будут лучшие развивающие методики, лучшие педагоги и лучшее питание. Мы же хотим лучшего для наших детей?! Отбросим эгоизм своего биологического родительства, отдадим своих детей в инкубаторы – ведь мы же понимаем, что так рациональнее! А раз это понимаем, но детей не отдаём – значит, мы эгоисты и враги своим детям!»
Нынешний либеральный «тренд» – это как раз эффективность и рационализм. Поэтому от ювенальной юстиции ничего хорошего ждать не приходится. И есть только один способ пресечь будущую мерзость – зарубить её на корню. Мы уже достаточно опытные люди, знаем историю «гуманистических» преобразований – и обязаны предвидеть будущее. Сами же удивляемся, глядя с высоты знания истории: «Какие же глупцы эти русские интеллигенты, которые разжигали революцию во имя униженных и оскорблённых. Неужели не понимали, что она всех пожрёт?!» И не хотелось бы, чтобы потомок лет через сто точно так же сказал обо мне: «Я не знаю по имени своего предка из начала 2000-х, поскольку в инкубаторе вырос. Но всё-таки скажу: Имярек – ты полный идиот! Ты что натворил?! Неужели ты не понимал, к чему всё идёт...»
Среди своих
Вот такое долгое предисловие было к моему телефонному разговору с многодетной мамой, которая отказалась от социальной помощи. И, начав её уговаривать, чтобы она не отказывалась от денег (от детей же отрываешь!), я вскоре бросил это... Она – мать, лучше понимает.
– От обычных льгот мы, конечно, отказываться не стали, – объяснила Анна. – Получаем компенсацию за квартиру в 3 тысячи рублей, это всем многодетным дают. Ещё за каждого ребёнка по 500 рублей на почте получаю, и в школе детишкам бесплатное питание, проезд на метро. Также бесплатно ходим в музеи и парки, слава Богу. А ещё есть соцпомощь раз в три месяца – иногда по 30-40 тысяч рублей давали, чаще по 10-20 тысяч. Вот от неё мы и отказались.
Её не так просто получить. Сидишь напротив оператора, она читает заявления, вникает в суть дела, и в разговоре могут звучать такие фразы: «А зачем же вы рожали так много детей, если не можете их прокормить? И почему ваш папа не может найти высокооплачиваемую работу?» Сидишь как оплёванная... Но ради детей это потерпеть ещё можно. Страшно другое – в заявлении надо указать, что тебе не хватает прожиточного минимума и в конце приписать: «Против комиссионного обследования не возражаю». То есть в любой момент они могут зайти и дать заключение, хорошо ли детям в семье. А какие инструкции у этих людей и что у них в головах, я не знаю...
Всё это я рассказала своему батюшке. Он имеет большой житейский опыт и три высших образования. Сказал, что помощь лучше искать среди своих. И община нам помогает! Вот собираемся детей вывезти к нашим бабушкам, на Волгу, деньги на билеты уже есть. Слава Богу!
Под конец многодетная мама сказала слова, которые я не сразу понял: «Раз появилась сила, которая не подвластна даже Путину, то надо держать ухо востро». Что это за «сила», Анна объяснить не смогла. Но она по-своему права.
Михаил СИЗОВ
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Практические советы тем, чья семья попала в поле зрения органов опеки и попечительства
Статья 77 Семейного кодекса Российской Федерации предоставляет органам опеки и попечительства право при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребёнка отбирать его у родителей. В ряде случаев, как это ни прискорбно, это является действительно необходимой мерой. Тем не менее в некоторых случаях деятельность опеки может быть чрезмерной. Особенно актуально это сейчас, когда делается акцент на «раннем выявлении семейного неблагополучия», т. е. профилактике и контроле за потенциально неблагополучными семьями, куда входят и многодетные.
Ниже приведены рекомендации для тех родителей, которые столкнулись с некорректными действиями органов опеки в отношении своих детей.
Основные правила:
• Не давайте опеке лишних поводов приходить в ваш дом.
• Установите личные доверительные отношения с сотрудниками школы, детского сада, поликлиники и т. д.
• Предупредите учителей или воспитателей, чтобы не отдавали вашего ребёнка социальному работнику без вашего разрешения.
• Информируйте учителей, врачей, воспитателей об индивидуальных занятиях, посещениях врачей, индивидуальном графике прививок вашего ребёнка.
• Ничего не подписывайте, если у вас есть малейшее сомнение в том, что это абсолютно безопасно для вас и для вашего ребёнка.
Если визит со стороны органов опеки произошёл, помните:
• В соответствии со ст. 25 Кодекса РФ жилище является неприкосновенным.
• Против воли проживающих доступ может быть осуществлён только сотрудниками полиции при наличии достаточных данных, что там совершено или совершается преступление. В любом случае родители имеют право выяснить, какие именно основания для таких предположений у них имеются.
• Если у вас дома ремонт, беспорядок, застолье, в холодильнике «шаром покати» и т. п., никаких проверяющих под любым предлогом туда не пускайте, объяснить им ситуацию всё равно не удастся.
• Вопрос о том, пускать ли сотрудников опеки в квартиру, остаётся на усмотрение родителей.
Если сотрудники опеки стоят у ваших дверей:
1. Перед тем как впустить сотрудников опеки в дом, стоит убедиться, что перед вами именно они:
– проверить их удостоверение и паспорт;
– записать Ф. И. О проверяющих;
– перезвонить в орган опеки по телефону (телефон следует заранее выписать в вашу телефонную книгу);
– уточнить, работают ли там пришедшие к вам.
2. В ходе визита соблюдайте элементарные правила поведения:
– придерживайтесь режима дня ребёнка: если он спит, не обязательно его будить;
– если в вашей квартире принято разуваться и мыть руки, следует настойчиво попросить об этом. В случае отказа – не стесняться выставить за дверь;
– все пришедшие в ваш дом должны быть в поле вашего зрения одновременно!
– не допускайте никаких разделений пришедших для более быстрого осмотра;
– оставайтесь хозяином в квартире – водите всех за собой;
– пресекайте все попытки самостоятельно рыться и рассматривать ваши вещи. Это ваш дом, а пришедшие – в нём гости!
– любые отмеченные сотрудниками опеки «странности», отсутствие чего-либо (на их взгляд нужного) поясняйте и настаивайте на фиксации пояснений в акте осмотра;
– хорошо, если при осмотре присутствуют свидетели (например, соседи);
– по возможности записывайте визит на видео и диктофон;
– по окончанию визита настаивайте на немедленном составлении «Акта осмотра жилого помещения» (в вашем присутствии) в двух экземплярах, подписанного вами и членами комиссии. В акте не должно быть пустого пространства (все пустоты прочеркните). Один экземпляр вам, другой – комиссии.
Если вам отказывают, ссылаясь на то, что по закону требуется 7 дней на составление документа, обратите внимание, что вы просите составить акт не об «Обследовании условий проживания несовершеннолетнего», а именно «Акт осмотра жилого помещения» – это разные документы
3. Если опека требует, чтобы вашего малыша осмотрел врач, помните:
– вы имеете право ехать с ребёнком в одной машине «скорой помощи»;
– присутствовать при любых осмотрах и манипуляциях;
– согласно статье 32 Основ законодательства РФ об охране здоровья никакое медицинское вмешательство (в том числе и осмотр) не может производиться без вашего согласия.
4. Любые разногласия с опекой лучше решать в письменном виде. По окончанию визита написать письменное заявление, где изложить суть разногласий. Снять с него копию и отнести в опеку. Получить на копии отметку о приёме. Если откажутся принимать – можно отправить почтой ценным заказным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения.
5. Самое важное! Отобрать – «изъять ребёнка из семьи» – можно только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти РФ. При отсутствии акта никто не имеет права прикасаться к вашему ребёнку.
Если по какой-то причине проверяющие вошли без вашего согласия, не реагируют на просьбы или пытаются забрать ребёнка силой – не стесняйтесь звонить по телефону, вызывая полицию и требуя защитить ваше дитя! Приехав, полиция убедится, конечно, что это сотрудники опеки, однако настаивайте на том, что вы их пройти в квартиру не приглашали и необходимые документы у них отсутствуют. Настаивайте на том, чтобы сотрудники полиции помогли вам защитить ваши законные права.
Если вы попали под внимательный надзор:
• Ни при каких условиях не соглашайтесь отдать своего ребёнка, даже на час, органам социальной защиты, как бы они ни назывались («Реабилитационный центр», «Центр отдыха при комитете…» и т. д.).
• Вежливо отказывайтесь принимать «подарки» и «помощь» от сотрудников опеки. Если вам всё же передали «помощь» через соседей и т. п., её лучше вернуть. Согласие получать материальную помощь подразумевает согласие быть опекаемым, а также равнозначно признанию родителей несостоятельными.
• Будьте аккуратны в беседах с комиссией, никогда не жалуйтесь, что устали, что не хватает денег, что больны, что в семье кто-то пьёт, что ребёнок не слушается, что государство вам не помогает. Ваши жалобы могут быть приняты как доказательство вашей несостоятельности.
• Хорошие люди есть везде, даже в «комитетах», постарайтесь наладить с ними контакт. Только будьте бдительны!
• Не позволяйте себя запугать! Вежливо дайте понять, что не остановитесь ни перед чем, чтобы защитить своего ребёнка.
• Аккуратно объясните ситуацию ребёнку. Ребёнок должен знать, что вы любите его и он вам нужен. Он должен уметь заявить об этом, как и о своей любви к вам, кто бы его ни спросил.
• В самом крайнем случае – бегите. Не бойтесь поменять место жительства.
Составлено по рекомендациям
Дарьи Одинцовой и Марины Соловьёвой
http://rusvera.mrezha.ru/686/6.htm
Серия сообщений "Хронограф "Веры"":
Часть 1 - ЗАЧЕМ?..
Часть 2 - ПЕКЛО
...
Часть 29 - ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА
Часть 30 - ЭТО ВАМ НЕ СТОЛ ЗАКАЗОВ
Часть 31 - ПОЧЕМУ У НАС ОТНИМАЮТ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Часть 32 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!
Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН
Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
О ДВУХ КАПЛЯХ МАСЛА |
Наконец мудрец внимательно выслушал объяснения юноши о цели его визита, но сказал в ответ, что у него нет времени, чтобы раскрывать ему секрет Счастья. И предложил ему прогуляться по дворцу и прийти снова через два часа.
– Однако я хочу попросить об одном одолжении, – добавил мудрец, протягивая юноше маленькую ложечку, в которую он капнул две капли масла. – Всё время прогулки держи эту ложечку в руке так, чтобы масло не вылилось. Юноша начал подниматься и сходить по дворцовым лестницам, не спуская глаз с ложечки. Через два часа он вернулся к мудрецу.
– Ну как, – спросил тот, – ты видел персидские ковры, которые находятся в моей столовой? А парк, который главный садовник создавал в течение десяти лет? Ты заметил прекрасные пергаменты в моей библиотеке?
Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной заботой было не пролить капли масла, которые доверил ему мудрец.
– Ну что ж, возвращайся и ознакомься с чудесами моей вселенной, – сказал ему мудрец. – Нельзя доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живёт. Успокоенный, юноша взял ложечку и снова пошёл на прогулку по дворцу; на этот раз, обращая внимание на все произведения искусства, развешанные на стенах и потолках дворца. Он увидел сады, окружённые горами, нежнейшие цветы, утончённость, с которой каждое из произведений искусства было помещено именно там, где нужно.
Вернувшись к мудрецу, он подробно описал всё, что видел.
– А где те две капли масла, которые я тебе доверил? – спросил мудрец.
И юноша, взглянув на ложечку, обнаружил, что всё масло вылилось.
– Вот это и есть тот единственный совет, который я могу тебе дать: секрет Счастья в том, чтобы смотреть на все чудеса света, при этом никогда не забывая о двух каплях масла в своей ложечке.

Серия сообщений "ПРИТЧИ":
Часть 1 - СВЕЧА ОТ ГРОБА ГОСПОДНЯ
Часть 2 - А доверяем ли МЫ Господу?..
...
Часть 17 - О счастье...
Часть 18 - Притча о счастье.
Часть 19 - О ДВУХ КАПЛЯХ МАСЛА
Часть 20 - ПРИТЧА О БЛАГОЧЕСТИИ
Часть 21 - ДОРОГА ЖИЗНИ (притча)
|
|
Понравилось: 1 пользователю
МОЛИТВЫ ОГОРОДНИКА |
Господи Боже наш, от пречистыя и пребогатыя длани Твоея, предлежащее пред очима Твоима семен подаяние принесохом, Владыко, и сему Тебе вручитися молимся: не бо смеяхом в бездушных земли недрех заключити сия, аще не воззрим на повеление Твоего Величества, повелевающее родити и прозябати земли, и дати семена сеющему и хлеб в снедь. И ныне молимся Тебе, Боже наш, услыши ны молящиеся Тебе, и отверзи нам сокровище Твое великое, и благое, и небесное, и излей благословение твое, донележе удовлимся по неложным Твоим обещанием: и отжени от нас вся снедающая плод наш земный, и всякое наказание праведно проводимое на ны, грех ради наших: и богатая Твоя щедроты ниспосли на все люди Твоя, благодатию и человеколюбием единородного Твоего Сына, с Нимже благословен еси, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитвы перед посадкой деревьев, овощей и ягодных кустов
Господи Боже наш, в начале сотворивший небо и землю и небо украсивший великими светилами для освещения земли и величия, земле же даровавший благоукрашение из злаков и травы и различных семян, сеемых каждое по роду своему, и насаждения цветущих деревьев, и благословивший их! Сам и ныне, Владыко, призри от святаго жилища Твоего на сад этого владения и на насаждаемыя в нём деревья и благословением Своим благослови их и сохрани в полной неповрежденности от всякого чарования, ухищрения, злоумышления злых людей и всякого зла, и дай ему благополучно возросшу приносить своевременно плоды; отгони от него силою благословения Твоего всякого зверя, гада, червей, мух, тлю, саранчу, засуху, жгучие и безвременные ветры, приносящие вред. Ибо Ты один Бог милости и щедрот, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва об урожае
Господи Боже, время посева и жатвы принадлежит Тебе. Ты посылаешь дождь на землю, дабы произращать пищу для поддержания жизни. Мы ничего этого не заслуживаем. Всё приходит как дар Твоей благодати. Я молюсь о Твоём благословении для этого времени роста. Благослови землю и всех, кто возделывает её. Сохрани их в безопасности и дай им радость в труде. Легко воспринимать как само собой разумеющееся, что наши магазины всегда полны. Помоги нам помнить о том, что вся пища – это дар и знак Твоей любви к роду человеческому. Когда Ты повелеваешь земле произвести урожай, помоги нам стремиться к справедливости, чтобы все мы стали причастны к Твоей обильной милости. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Молитва о сохранении посева от червей и птиц
Тебе, Владыко, молимся: услышь наши моления, и да по милости Твоей избавимся, славы ради имене Твоего, ныне справедливо за грехи наши уничтоженные и настоящее бедствие терпящие от птиц, червей, мышей, кротов и иных животных, от всех их, – и далеко изгнанные из этого места Твоею властью пусть они не вредят никому, – поля же эти и воды и сады оставят в полном покое, чтобы всё в них растущее и рождённое служило к славе Твоей и нашим помогало нуждам, ибо Тебя славят все Ангелы и мы Тебе славу приносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Здравствуйте, уважаемая редакция! Несколько месяцев назад мы уже обращались к вам с просьбой о помощи двум детям-инвалидам, писали о том, что наша семья попала в затруднительное положение и негде взять деньги на лечение детей. Вы опубликовали нашу просьбу в одном из номеров газеты «Вера». Мне, как маме детей, от всего сердца очень хочется поблагодарить вас и всех тех, кто откликнулся на нашу просьбу! Воистину мир не без добрых людей! Мы очень благодарны всем за молитвенную помощь и поддержку финансово!
Где бы мы ни были, всегда просим Господа не оставить всех тех людей, имена которых знаем и не знаем... Не рассуждая, достойны мы помощи или нет, люди просто взяли и помогли; многие давали милостыню по-евангельски, втайне, когда «правая рука не ведает, что делает левая».
Щедр и милостив да будет к вам Господь! Сожалею о том, что не было возможности написать сразу: долгие месяцы находились в больнице. Побывали в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, на Святой Земле... Самочувствие деток улучшилось, многие вопросы решились. Они по-прежнему остаются на инвалидности, но у них есть теперь возможность жить дальше.
Сердечно благодарим!
Семья Шкаренковых,
г. Старый Оскол
http://rusvera.mrezha.ru/684/11.htm
Серия сообщений "МОЛИТВЫ":
Часть 1 - КАНОН МОЛЕБНЫЙ АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ
Часть 2 - МОЛИТВА
...
Часть 7 - Когда ты молился в последний раз?
Часть 8 - Молитвы женщин, совершивших аборт (после абортов) Молитва женщины о загубленных во утробе своей душах
Часть 9 - МОЛИТВЫ ОГОРОДНИКА
|
|
Процитировано 1 раз
ЭТО ВАМ НЕ СТОЛ ЗАКАЗОВ |
Ныне исповедание православия стало столь обыденным для госслужащих и вообще людей публичных, что уже и не замечаешь. Но одна история впечатлила... Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин решил на нынешнюю Пасху совершить паломничество в Иерусалим. «У меня была острая душевная потребность побывать в этом году на Святой Земле - в том числе, чтобы помолиться, поблагодарить Бога за удачно проведённую операцию на глазах», - рассказал Торшин «Парламентской газете». Там с ним произошло одно удивительное происшествие: на праздничном богослужении он увидел, что архиерею прислуживает... «отец Александр» - главный герой фильма «Поп». Парламентарий не поверил своим глазам, но загадка вскоре раскрылась. После службы Торшин зашёл похристосоваться к начальнику Русской Духовной Миссии архимандриту Исидору. Рядом с батюшкой стоял Сергей Маковецкий, игравший в фильме «Поп». Он и был иподиаконом на службе.
Можно ли было раньше такое представить? Или вот факт. Накануне 9 мая в Храме Христа Спасителя на пасхальный молебен собрались участники будущего Парада Победы - 4,5 тысячи военнослужащих и курсантов во главе с командующим парадом и командирами парадных расчётов. Славили воскресшего Христа и молились за успешное проведение главного парада России.
А кто бы в советское время мог представить, что Лев Лещенко, певший в ту пору «И Ленин такой молодой…», будет исполнять «В храмах Москвы зажигаются свечи»? Так называется только что написанный гимн «Программы 200 новых храмов Москвы», по которой в столице уже началось массовое храмостроительство. А ведь церкви здесь взрывали динамитом не так давно, какие-то полвека назад. Последняя из взорванных - Преображенская, её разрушили в 1964-м. Прихожане собрали тогда тысячи подписей в защиту храма, несколько дней не покидали его стен, молились - проявив мужество, достойное первых гвардейцев Преображенского полка, похороненных на территории церкви. Изгнать их смогли, только забросав дымовыми шашками... А теперь взорванный храм, как и многие другие, восстанавливают на голом фундаменте.
Конечно, всё это радует. Но стоит ли благодушествовать по поводу «возрождения православия в России»? Да, храмы уже не взрывают. Да, можно открыто исповедовать себя христианином. Но государство как было, так и осталось косной машиной, собранной из атеистических шестерёнок. И храмы сейчас восстанавливаются не этой машиной, которая когда-то их рушила, а живыми людьми. И многое зависит от того, кто государством управляет. Уйдут эти, придут во власть другие - и отношение к Церкви может кардинально поменяться.
Накануне Пасхи греческий церковный интернет-портал Romfea.gr взял интервью у Патриарха Кирилла. На вопрос о государственной помощи наш Предстоятель ответил: «В России уровень церковно-государственного партнёрства существенно ниже, чем в Германии, где государство собирает налоги для Церкви, во Франции, где президент назначает епископов в регионе Эльзас и Лотарингия, в Англии, где монарх является главой Англиканской Церкви, в Греции, где Церковь является государственной, или даже в США, где президент приносит клятву на Библии...»
С точки зрения нынешнего государства, Русская Православная Церковь не многим отличается от обычных некоммерческих организаций (НКО). Вот недавний случай. Прокуратура Ленинского района столицы Мордовии едва не объявила Саранское православное духовное училище «иностранным агентом». Сейчас все НКО проверяются на предмет финансирования из-за рубежа, и федеральный орган Росфинмониторинг обнаружил, что духовное училище получало иностранную помощь. Его ректор, протоиерей Александр Пелин, был вызван в прокуратуру «для дачи объяснения по вопросу исполнения законодательства об общественных объединениях». Действительно, в 2012 году германский православно-католический фонд «Помощь церкви в нужде» выделил СПДУ около 600 тысяч рублей, которые были потрачены на ремонт столовой и трапезной, а не на политическую деятельность. Стало ли от этого церковное училище «иностранным агентом»? И вообще, можно ли церковь причислять к НКО? В данном случае и Росфинмониторинг, и прокуратура ничего «личного» против Церкви не имели - государство просто исполняло свои функции.
Или вот ещё недавний случай - с объявлением голодовки директором школы № 15 города Миасса Челябинской области. На крайний шаг Елену Чешуину толкнуло то, что государство в лице прокуратуры не захотело защитить её от облыжного обвинения в «насаждении православия», из-за которого её уволили с работы. Поводом было следующее. Мама одной из учениц, продавщица, возмутилась, что на фестивале «Музыка души», посвящённом празднику в честь Кирилла и Мефодия, её дочке поручили спеть «Про папу и меня». Это довольно известная шутливая детская песенка. Начинается она так: «День, когда семье родной Бог меня послал, говорят, что папа мой очень горевал. Говорят, четыре дня он не пил, не ел, потому что не меня, мальчика хотел». Далее в припеве повторяется: «Но ему сказали сразу, это вам не стол заказов...» Сюжет в том, что дочка нежно обнимает папу за шею и успокаивает его: «У кого-то девочки тоже быть должны!» Песенка так разозлила маму, что она обвинила директора школы, будто та на занятиях факультатива «Основы православной культуры» насаждает веру в Бога. Тут же подключились СМИ. По словам Чешуиной, журналист НТВ расспрашивал её дочку, ученицу той же школы: «Правда, что у вас директор бесов колокольчиком изгоняет?»
То, что занятия по ОПК, проводившиеся в школе № 15 последним уроком, - дело добровольное и что 86 процентов родителей высказались за них, похоже, никого не интересовало. И власти, которые должны были тщательно разобраться в законности увольнения с работы директора школы, поверили всем обвинениям. Сработала презумпция виновности «религиозников». Такова суть «светскости» нашего государства.
И что у нас в стране всё же происходит возрождение православия - это чудо. За ним стоит не государственная машина, а живая вера, живое искреннее сочувствие конкретных людей, их светлых душ. От понимания этого нынешняя пасхальная радость становится только светлее. Но благодушествовать тут не резон. Живое - значит, ранимое, не всегда постоянное. И от нашей веры, от наших дел зависит, чтобы возрождение не обернулось новым богоборчеством.
Михаил СИЗОВ
http://rusvera.mrezha.ru/684/2.htm
Серия сообщений "Хронограф "Веры"":
Часть 1 - ЗАЧЕМ?..
Часть 2 - ПЕКЛО
...
Часть 28 - По-людски
Часть 29 - ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА
Часть 30 - ЭТО ВАМ НЕ СТОЛ ЗАКАЗОВ
Часть 31 - ПОЧЕМУ У НАС ОТНИМАЮТ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Часть 32 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!
Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН
Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»
|
|
ВНИМАНИЕ! Пренатальная диагностика! |
Это цитата сообщения Julia_Ma [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
http://www.eparhia.ru/altai_news/?id=135402
Внимание! Пренатальная диагностика!
22.02.2013
Возвратиться к этой теме побудили два события: одно – не очень заметное – Краевая научно-практическая конференция «Итоги работы акушерско-гинекологической службы в 2012 г. Стратегические направления развития службы на 2013-2020 гг.» (19.02.2013 г.) с докладами специалистов (почему-то не хочется называть их врачами) центра пренатальной диагностики, расположенном на базе Алтайского диагностического центра.
Их сообщения у некоторых акушеров-гинекологов вызвали состояние легкого шока и/или гипертонического криза, от впечатления масштабами и стратегическими планами деятельности с нашими нерожденными детьми. Сотрудниками центра утверждается необходимость все более раннего вмешательства (10-12 недель) в течение беременности – провозглашаемый принцип «своевременности», использование многих небезопасных и зачастую ненужных исследований по выявлению пороков развития ребенка – принцип «комплексности» и тотальность охвата беременных женщин – принцип «массовости» (планируется открытие филиалов центра в городах Бийске, Славгороде, Рубцовске).
Все это - на фоне отсутствия критичности и, вероятно, внешнего контроля результатами своей деятельности: не описывается вероятностный подход диагностики и риски ложно-положительных результатов, влияние на мать и плод самих процедур, не оговариваются те заболевания и состояния (грубые, тяжелые, несовместимые с жизнью), которые приняты как показания для прерывания беременности. В их устах не звучит, что от этой медицинской услуги можно отказаться. Реально существующие и волнующие общество этические проблемы для сотрудников центра как будто не известны. Как и пренебреженные ими уже выработанные современные моральные принципы: «делай благо», «не навреди», «принцип автономии» и, наконец, «принцип справедливости», обязывающие искать компромисс между интересами общества и отдельного человека. Все вместе это создало ощущение хорошо организованной «облавы» на потенциально больных детей.
Другое событие, связанное с этой же технологичной и развивающейся службой, - демонстрация возможностей центра в его годовщину (21.02.2013 г.) в форме пресс-тура.
Это мероприятие уже вечером того же дня комментировалось теле-журналистами, которые, к сожалению, мало понимали, о чем они говорят. А как иначе, если они восторженно повторяли, что теперь появилась возможность выявлять «малейшие отклонения» у плода? Ни один из них не задал вопрос: «Ну и что дальше?».
А дальше – аборт или прерывание беременности или убийство больного (а может, не больного?) ребенка. Замечу, что происходит это у нас, в Алтайском крае, с сохраняющимся отрицательным балансом «рождаемость/смертность» населения, далеко не лучшими показателями перинатальной (до и сразу после рождения) заболеваемости и смертности детей.
В стратегические направления развития акушерско-гинекологической службы все прочнее вплетается пренатальная диагностика, которая как вирус в компьютерной программе поражает наше общество, изменяя традиционное мышление людей (врачей, пациентов, ученых, организаторов здравоохранения) и подрывая морально-нравственные устои нации. Между тем, Этическим комитетом сказано: «Медицина не должна бороться с болезнями путем убийства больных», «этот моральный принцип отвергает лишь фашистская идеология».
Вероятно, необходимо будет еще многое обсудить, но пока предлагаю:
1. еще раз вчитаться в текст Заявления Церковно-Общественного совета по биомедицинской этике при Московской Патриархии по проблеме пренатальной диагностики патологии плода;
2. вспомнить, что уже было ранее изложено в подборке 2012 года: Православной женщине о пренатальной диагностике, которая явилась откликом как раз на это событие годичной давности – открытие центра пренатальной диагностики;
2. ознакомиться с материалом: «Пренатальная диагностика в качестве евгенической медико-социальной программы в российском здравоохранении» (источник: Демография.ру; 01.02.2010 г.). Юлия Массино, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
Е.В. Харченко,
председатель общества Православных врачей Алтайского края
|
Пасхальные яйца. Идеи оформления. |
Это цитата сообщения lorine [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Рассказы отца Варнавы (Трудова) |
Рассказы отца Варнавы (Трудова)
Недавно, разговорившись с иеродиаконом Варнавой (Трудовым), я услышал несколько историй, о которых он прежде не поминал. Предложил ему записать их, но сложность была в том, что он давно и тяжело болен лейкозом. Болезнь эта то обостряется, то немного отпускает. Три первых рассказа – «Монпасье», «Лотерея», «Находки» – отец Варнава поведал мне в тот день, когда физически был очень слаб. После бессонной ночи полулежал на диване, температура держалась за тридцать восемь. Рассказ «Визит к колдунье» он записал сам, когда стал чувствовать себя получше, остальное надиктовал мне тогда же.
Обращаюсь к читателям с просьбой помолиться об отце Варнаве – давнем друге и авторе газеты «Вера».
Владимир ГРИГОРЯН
Монпасье
Владимир Гаврилович и Лидия Николаевна Трудовы, родители о.Варнавы
Моя мама некоторое время работала уборщицей в административном здании устюжской тюрьмы. Это было большое двухэтажное здание, где одних печек имелось двенадцать штук. Топить их входило в мамины обязанности, но работали мы всей нашей семьёй. Я помогал отцу и трём старшим братьям таскать дрова, а ещё нужно было вымыть полы, вытереть пыль с мебели, поменять воду в графинах. Не всякую работу мне можно было доверить, так что в свободное время я исследовал здание. И так добрался однажды до кабинета, где сидела машинистка. Сначала меня заинтересовали забракованные листы бумаги, где с одной стороны был печатный текст, а на другой – можно было учиться писать. Потом добрался до использованных копирок, стал носить их домой. Это строго-настрого запрещалось, многие документы были секретными, например протоколы допросов. Так что, когда отец обнаружил мою добычу, сжёг бумаги, пояснив: «Ты знаешь, за это могут и срок дать». С тех пор я ничего не брал без спросу.
Хорошо помню колючую проволоку на стене, часовых на вышках, собак, мимо которых нам приходилось быстро пробегать, уж очень злобно они лаяли. Но были и приятные впечатления. Начальство уважало моих родителей за трудолюбие и очень хорошо относилось к нам, детям. На новогодние утренники, которые устраивались в красном уголке, мы всегда получали подарки. Мне всё в тюрьме было интересно. Например, постовой с винтовкой, стоявший у ворот в тулупе до земли. Он постоянно топтался от холода, зимой у него, бывало, один нос торчал из-под шапки. Походишь вокруг, потом бежишь греться в дежурную часть.
Как-то зашёл я туда, прислонился к печке: с валенок течёт, с носа капает. В это время вводят худющего старика в зэковской телогрейке и я слышу, как к нему обращаются: «Тебе посылка!» На столе – небольшой фанерный ящик, больших, видно, не полагалось. Вскрыв его тесаком, оттуда начали выкладывать вещи: какую-то книгу, конверты, бумагу, вязаные носки или варежки, я толком не рассмотрел, как ни вытягивал шею, и, наконец, красивую круглую коробочку. Заключённый заметил, что я её разглядываю. Поманил к себе, но родители приучали нас ни у кого ничего не брать – не быть попрошайками. Так что я не решился подойти к старику. Заключённый, однако, был настойчив, а дежурный – дядя Коля – всем видом давал понять: «Не отказывайся».
Я подошёл. Старик снял ленточку с коробки и, открыв крышку, высыпал мне в руку горсть конфет – монпасье. Потом задумался на мгновение, сказал: «Клади обратно» – и, когда я послушался, сунул мне коробочку со словами: «Бери всё».
– Благословите, батюшка, – произнёс дядя Коля. Тот перекрестил его, дядя Коля приложился к руке заключённого, а потом настала моя очередь. Я ткнулся носом в руку старика, тогда ещё не понимая, что делаю.
Леденцы мы поделили дома поровну, а красивая коробочка осталась у меня. Я долго потом хранил в ней пёрышки от ручек, резинки, значки. Что произошло тогда, в тюрьме, я понял, уже будучи взрослым человеком. Это было первое в моей жизни благословение, многое в ней определившее. Во всяком случае, я так думаю.
Лотерея
Виталя Трудов (слева)
Расскажу в связи с этим такую историю. В конце 50-х у нас в городе впервые начали продавать билеты денежно-вещевой лотереи. Никто понять не мог, что это такое, в чём здесь смысл. Билеты, надо заметить, стоили недёшево – пять рублей, правда старых, дело было до реформы, но мне, скажем, шесть рублей в неделю выдавали на школьные завтраки. Получил я их и в то утро, когда увидел столик, где были разложены большие яркие бумажки.
В школу я старался прийти пораньше, посидеть перед уроками в библиотеке – очень любил читать. Поэтому время постоять перед столиком у меня было. Стал расспрашивать, что да как. Женщина, продававшая билеты, объяснила, что, купив их, можно выиграть разные хорошие вещи.
– А швейную машинку можно? – спросил я, затаив дыхание.
Дело в том, что маме приходилось вручную обшивать всю нашу большую семью. Практически всё, что мы носили, вплоть до шапок и варежек, делала своими руками: перешивала, перелицовывала, подгоняла. Делать это простой иглой было и медленно, и тяжело, поэтому швейная машинка была для мамы большой мечтой. Увы, неосуществимой. Даже если мы затянули пояса ещё туже и залезли в долги, что толку? В магазинах машинок не было – дефицит страшнейший.
– Сколько стоит билет? – спросил я, ещё не зная цены и ни на что не надеясь.
Продавщица ответила. Не без борьбы в сердце я протянул деньги. Недельку поголодал маленько, а что дальше делать – не знаю. Месяц прошёл, начинаю беспокоиться, но у кого спросить: что же мне дальше-то делать с билетом? Родителям не откроешься. За то, что потратился невесть на что, по головке не погладят, но терпеть нет сил. Наконец решил спросить совета у нашего соседа – дяди Володи Мосеева. Он был хороший человек, хоть и пьяница. Работал часовщиком, так что какие-то деньги имел, на выпивку хватало. Придёт, бывало, начнёт скандалить. Весь наш дом сбегается, начинают успокаивать: «Володя, Володя, что ты, ложись лучше спать!» Уговорят. Сейчас бы никто и перстом не двинул, а тогда люди друг за друга держались, особенно такие бедняки, как мы. Дом у нас был старый, жили тесно, но дружно, общая кухня на всех, где сроду никто не ссорился, там и готовили, и по очереди стирали. Раскалят камни в большой русской печи и опускают их в деревянный ушат. Камни шипят, пар валит, вода нагревается. Потом начинается большая стирка.
Так вот, подошёл я к дяде Володе и рассказал о своём затруднении. Пошли на почту. Дядя Володя сунул билет в окошко, а женщина, которая там сидела, стала изучать таблицу выигрышей. Наконец поднимает голову и говорит:
– У вас швейная машинка, можно оформлять, только паспорт давайте.
Что я был ошеломлён, это понятно, что тут рассказывать. Объяснил родителям, что да как, но всё равно в доме нашем долго не верили, что такое возможно. Пока не пришло извещение на посылку и отец не принёс её в большом фанерном ящике – не верили. Хорошая была машинка, подольская, до сих пор у родни где-то стоит. Мама не только шить на ней научилась, но и вышивать, после неё столько вышивок осталось! Радости, конечно, было много. Все соседи сбежались. Не только у нас в доме, но и по всему Устюгу разговоры шли, и многие тогда стали брать билеты. Выиграли или нет, не знаю, но отец мне сказал: «Больше не покупай. Такое больше не повторится». Я и не покупал, хотя понравилось ходить героем, но, может, чувствовал – не в удаче дело. Просто Бог поучаствовал в нашей нужде, сжалился над семьёй нашей. Может, и батюшкино благословение помогло.
Находки
Удача. Что это такое? Деньги и вещи я находил постоянно. Вот один случай.
У нас во дворе росли кусты, деревья, где любили выпивать мужики, приехавшие из деревень. Магазин стоял напротив нашего дома, так что они от него далеко не удалялись. Прикатят на лошадях за солью, сахаром, спичками, мылом, керосином и присовокупят к этому бутылочку. Наши их со двора не гнали, разве что если мужики совсем расшумятся. Бывало, что и ночевали они здесь же, а наутро мы, дети, собирали за ними бутылки, чтобы на вырученные за них копейки купить сладости. И как-то раз я, опередив других мальчишек, полез в кусты и увидел сначала цепь, а потом и красивые старинные часы: серебряные, с римскими цифрами. То, что они серебряные, я, правда, уже позже от отца узнал, но что дорогие – понял сразу. Отец отнёс часы в милицию, там дали объявление, и вскоре хозяин нашёлся. А в газете про меня написали заметку, которая называлась «Честный поступок». Правда, поступок-то был не мой – отца. Он к тому, чтобы чужое присвоить, относился строго.
В другой раз я нашёл в бане крупную сумму – свёрнутые в трубочку 970 рублей старыми. Отец с матерью таких денег и вдвоём-то не зарабатывали, разве что за пару месяцев. В городскую баню мы ходили каждую неделю. Чтобы попасть на помывку, нужно было весь вечер простоять в очереди. Наконец она подходила, и мы попадали в темень и духоту, шум и гул. Как там у Зощенко: «Такой шум стоит, что не знаешь, куда мыло трёшь». Долго искали свободные шайки, но наградой за эти мучения был стакан морса или лимонада. Там при бане имелся буфет, где в углу стояли деревянные бочки со знаменитым устюжским пивом. Мужчины, опрокидывая кружки, ходили вновь наполнять их у краснорожей женщины-продавщицы. Потом возвращались к большому круглому столу, под которым и нашёл я деньги. Посмотрел: никого в буфете уже нет, все разошлись, мы – последние посетители. Положил находку в карман, не оставлять же буфетчице. Когда отец вернулся с лимонадом, говорю: «Папа, я деньги нашёл!» Объяснил, как это вышло, жду, что отец скажет. Сколько нашёл, не знаю, но ясно – сумма немалая и ох какая нелишняя. Отец ответил не задумываясь: «Сегодня в милицию не пойдём, поздно уже. Завтра отнесём». И опять владелец нашёлся, книгу в подарок мне купил.
Ещё случай. В прятки мы с ребятами играли, и я спрятался за поленницей. Вижу – деньги: свёрнуты рулончиком и засунуты между поленьев. Это дядя Володя зарплату получил и напился как обычно. Деньги от жены спрятал, а куда – забыл. Я этого ещё не знал, сунул рулон под майку, а навстречу Алик – парень из нашего двора, хитрющий и до чужого очень охочий. «Что там у тебя?» – спрашивает. Попробуй скажи – непременно выманит, на это он превеликий мастер был. Кое-как от него отделался, и деньги сначала дома припрятал, у себя в сундучке, а потом подумал: «Братья найдут» – и поспешил отдать отцу. На следующее утро слышу крики, это тётя Феня шумит – мать дяди Володи. Жена у него – тётя Саня – была женщиной тихой, библиотекарем работала. Её и не слышно, а тётя Феня – фронтовичка, ходила всё с «козьей ножкой» – самокруткой такой из махорки, и под горячую руку ей не попадайся: залепит так залепит. Весь дом её побаивался. Так вот, тётя Феня кричит, дядя Володя матерится, тут и обнаружилось, кто деньги потерял.
Думаю, всё это проверка была. Время такое было, многие с работы кое-что носили, не своё, продавали и тратили в основном на выпивку. Несунами их называли. А меня Господь испытывал через эти находки. Обходился я всю жизнь без чужого и ничего не потерял. Мама перед смертью, в 1984 году (отца к этому времени давно уже не было на свете), сказала: «Я за тебя спокойна». Это очень важно, когда родители хотя бы за одного спокойны. Звали их Владимир Гаврилович и Лидия Николаевна, Царствие им Небесное и светлая память.
Витя Зайцев
С Витей Зайцевым
На этом фото парнишка – Витя Зайцев. Он обутый, в костюмчике с белым воротничком, а я – босиком, в обносках, стриженный наголо – нас дома болванили под одну гребёнку. Витя был мне, конечно, неровня, даже по возрасту – он старше года на три. Но всё равно мы были друзьями. Как же это так получилось?
Жил Витя в большом селе Усть-Алексеево, это 55 километров от Устюга по реке Юг. Однажды приехал он в наш город к родственникам, они жили на нашей улице. Приехать-то приехал, а их дома нет, когда появятся – неизвестно. Отправился к магазину, который стоял напротив нашего дома. Место это бойкое, вроде привоза, всегда там телеги стоят, люди толпятся. Витя, может, думал найти какую-то помощь, но попался на глаза Алику Попову из нашего двора, я его уже поминал. Наглец это был и хитрован редкий. Увидев Витю, Алик смекнул, что к чему, и выманил у него все деньги до последней копейки.
И сидит Витя у магазина на ступеньках, возле того окна, где хлеб принимают. Дело было к вечеру, когда я его приметил из окна, выходящего как раз на то крылечко. Вижу, мальчик одет прилично, не как мы, но вроде как плачет. Вышел к нему, Бог побудил. Мальчик поначалу был не особо ко мне расположен, опасался, но я вижу, что что-то стряслось, и пригласил его в дом. Это Витю немного успокоило, он согласился. Родители у меня были людьми отзывчивыми, не могли пройти мимо какого несчастья, так что встретили мальчика хорошо. Хоть и скудно жили, отец сходил на автостанцию, купил билет наутро до Усть-Алексеево. Поужинали мы, в шашки сыграли, я книги свои показал, так что Витя повеселел, совсем успокоился. Переночевал, а утром я его проводил.
Честно говоря, я думал, что на этом история и закончится, как многие другие, но дальше всё начало происходить, как в сказке. Прошло, может, с неделю времени. Подъезжает «Газик», из которого выходит высокий человек во френче, в галифе и офицерских сапогах. Внимание на него, конечно, обратили все, кто был во дворе или смотрел в окна, но решили, что это гость к соседям Холоповым. Борис Прокопьевич Холопов был военным, к ним с женой Клавой часто приходили солидные люди. Я, правда, тоже заглядывал, послушать шикарный радиоприёмник. У нас всё вот так запросто было.
Так вот, все решили – человек идёт к Борису Прокопьевичу, который жил в мезонине. Но нет, слышим – по коридору топает к нам. Вошёл: вы такие-то? И объяснил: «А я отец Вити Зайцева, которого вы приютили. Пришёл поблагодарить». Мои родители смутились: «Чего особенного, не оставлять же было парня на улице».
Оказалось, что Витин отец – председатель Усть-Алексеевского колхоза, видный человек в наших краях. Он передал просьбу сына пригласить меня в гости. Мои снова засмущались, разница в социальном положении была слишком велика, но видят, что отец Вити – мужик, в общем-то, простой, свой, что называется. Решено было отпустить меня на неделю. Стали собирать, переодели во что получше. Весь дом вышел провожать, в том числе Алик. «Это он вашего сына обманул», – сказал я Витиному отцу. Тот посмотрел пристально на хулигана и сказал: «Надо бы тебе уши надрать, да и без нас надерут». Так потом и вышло. Закончил Алик свою жизнь где-то в тюрьме. Любого мог вокруг пальца обвести, вот и себя обвёл.
Сел я в машину, а у нас не то что на автомобиле, на лошади было за честь проехать. Барин барином поехал я в гости к новому другу. В Усть-Алексеево меня уже ждали, все были наслышаны. Мать Вити оказалась очень хорошей женщиной, с его младшим братом Юркой и сестрой Галькой мы тоже подружились, а потом я и с другими усть-алексеевскими ребятами перезнакомился. И настала жизнь, какой я прежде не знал. Привык дома работать, а тут только что грядки нужно полить, а всё остальное время мы играли, купались. Так пролетела неделя, и отправились мы с отцом Вити обратно в Устюг. Но вместо того, чтобы проехать к моему дому, остановились перед детским магазином. Куплены мне были ботинки настоящие, каких я сроду не носил, школьная форма с фуражкой, портфель взамен холщовой сумки, с которой я в школу бегал, пальто демисезонное с пояском. Смотрю на свёртки – глазам не верю. Мама как увидела всё, заплакала: «Это ж как вы потратились!» А Витин отец ещё мешок муки выгружает и денег дал, как мама ни отбивалась. Сказал (уж не знаю, правда ли это или чтобы не смущать), что правление колхоза выделило.
Конечно, ради сына отец такую милость явил. Помню, как к моему сыну Антошке, пока был жив, ребята ходили и что ему я давал, то и им тоже доставалось, потому что я сына любил, ради него, через него на всех мог любовь излить. Так Отец наш Небесный любит нас через Сына, изливая милость на род человеческий. Вспомните, как обращался Спаситель к Нему: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». И ещё говорил нам Христос: «И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Таково свойство любви. Для дружбы нужна причина, сходство воззрений, взаимная нужда, а для любви повода не надо, любовь – беспричинна.
Впоследствии я не раз бывал у Вити в гостях и он к нам приезжал, а после вся его семья перебралась в Устюг. Пока я не уехал из родного города, да и Витина семья не рассеялась по стране – все дружили.
Визит к колдунье
В двух шагах от дома, где жила наша семья, буквально за углом жила колдунья. Звали её Клавдия Петровна. Прожила больше ста лет, как и её мать. Их дом, вернее, то, что от него осталось, и сейчас можно видеть в зарослях крапивы, лопухов и всякой сорной травы. Почему-то это престижное место так и осталось заброшенным, ни наследникам не пригодилось, ни покупателей не нашлось на этот участок. Тем не менее в любую погоду, в любой сезон к их дому выстраивалась очередь, приезжали издалека. Особенно когда ещё была жива мать Клавдии Петровны. Шли за исцелением. Получали или нет, того не знаю. Соседи редко пользовались услугами колдуньи.
Как-то зимой, идя из школы, я поскользнулся и, упав на спину, сильно ударился затылком об лёд. Едва добрёл до дому, но отлежался и уже на другой день был здоров. Через какое-то время начались головные боли. К врачам было трудно пробиться, медицина тогда была еле-еле жива в нашем городе. Маме посоветовали сводить меня к Клавдии Петровне. Мама не очень доверяла этой бабке, но капля камень точит, и поддалась она уговорам. Я согласился пойти лишь из уважения к маме, сам старухе не верил. Мы, ребята, её не любили, потому что походила она на Бабу-Ягу, да и ремесло соответствующее.
Хорошо запомнил я тот «визит». Приняла нас колдунья без очереди, как соседей. Что-то шептала над моей головой, чертила пальцем, потом над ковшиком с водой проделала то же самое – чертила по воде пальцем. Затем в приготовленную мамой бутылку вылила эту воду, наказав мне пить каждый день понемногу. Заплатив «за визит», мы ушли, унеся бутылку с «заговорённой» водой.
Для себя я решил, что не стану этого пить. Мало того что старуха в эту воду пальцы макала, так ещё и несло из бутылки чем-то затхлым. До сих пор помню этот запах.
Маме я, правда, пообещал всё выпить и выпил, но прежде поменял воду на чистую и даже бутылку тщательно вымыл. Так закончилось моё лечение у бабки Клавдии, а головные боли с возрастом прекратились. А всё, что нашептала колдунья над моим челом, начертала перстами, «смылось» во святом крещении.
Щелкунчик
Как я пристрастился фотографировать? Хорошо, что у нас не было телевизора в детстве – он убивает всё время для полезных увлечений. Я уже упоминал, что наш сосед, дядя Володя, работал часовщиком. Он и познакомил меня с фотомастером Георгием Николаевичем Вельниковским, они с ним рядом трудились, в одном домике. Георгий Николаевич разрешил приходить к нему, мол, смотри, спрашивай. И стал я у него бывать каждый день. Из школы приду, уроки и что нужно по хозяйству сделаю и бегом – кромки на фотографиях резать, на глянцевателях снимки катать. Потом доверил мне мастер ещё и плёнки проявлять, но это, конечно, не было пределом моей мечты – хотелось самому научиться фотографировать. Георгий Николаевич это прекрасно понимал и, испытав мою способность к послушанию, подарил старенький фотоаппарат «Смена».
И стал я им щёлкать всё что ни попадя. И на уроках щёлкал, и на переменах, и по городу ходил, так что стали меня называть в шутку Щелкунчиком.
Плёнку я покупал уценённую, за копейки, с вышедшим сроком годности, а вот красного фонаря не имел. Поэтому заворачивал лампочку в пионерский галстук, так что он у меня быстро белел и был в подпалинах. В школе меня за это ругали, но, когда я стал делать снимки разных мероприятий, сменили гнев на милость и даже новый галстук подарили. Правда, я и его скоро спалил. Стал потихоньку зарабатывать. По домам ходил, щёлкал устюжан, а потом приносил им фотографии. Кто-то мелочи немного насыплет, кто-то ничего не даст. Лучше других относились ко мне курсанты речного училища. Готовили там будущих штурманов и капитанов – командный состав. Ребята были всё больше из деревень, каждому хотелось отправить домой снимок в парадной форме. Много таких фотографий, наверное, и сегодня висит по стенам изб. Курсанты меня, бывало, покормят у себя в столовой да ещё с собой поесть дадут. Однажды я принёс из столовой целое блюдо котлет, полученных за свою работу. Дома все были этому, конечно, удивлены и рады.
Постепенно накопив денег, я смог купить хороший фотоаппарат «Зенит», а после восьмого класса меня безо всякого ученичества взяли работать в КБО – Комбинат бытового обслуживания. Город обслуживал павильонный фотограф, а я стал разъездным. Например, нужно выпускной класс сфотографировать в каком-нибудь селе – отправлялся туда. Как добираться, это была моя забота. Хочешь план выполнить, доберёшься. Однажды вызвали меня в село Бушково, от Устюга это километров шестнадцать вниз по Северной Двине. Был конец мая. Часть пути я проделал на попутках, часть прошёл пешком. Взял с собой увеличитель, фотобумагу – всё, что нужно, чтобы управиться на месте.
Провёл съёмки, отпечатал фотографии, повесил сушиться. Переночевать мне предложили в просторной учительской. Устроился я там на диване и крепко уснул, намаявшись за день. Разбудил меня грохот грозы. Шум стоял неимоверный, молнии сверкали. Вдруг вижу: влетает в форточку огненный шар. Лежу, не шевелюсь, а молния резко бьёт в горн, стоящий на шкафу, потом в выключатель на стене и, вернувшись к окнам, клюёт телефон – старинный такой аппарат, с ручкой и чашечками сверху. Вот одну из этих чашечек шар и оторвал, вылетев после этого обратно в форточку. Нескоро я в себя пришёл, но живой, и ладно. Сфотографировал, что тут молния натворила. Только после оказалось, что и эта плёнка, и запасная, лежавшая в сумке, оказались засвечены. И не раз потом в жизни повторялось, что беда била рядом, а меня Господь миловал. А бывало, что не промахивалась. Но и тогда Бог хранил. Для чего? Вот и думаю теперь.
Река
Храм Свв. Сергия Радонежского и Димитрия Солунского
Мы с Антошкой несколько раз в Устюг из Котласа на теплоходе путешествовали. Очень ему нравилось чаек кормить. Бросал им что-нибудь из снеди в реку. Когда мимо храма Прокопия проплывали, я ему рассказывал историю, как однажды жители Сольвычегодска Прокопия Праведного обидели и он погрозил жителям с другого берега Вычегды. Я сыну лет с четырёх перед сном истории рассказывал, о том, что было, и о том, чего не было. «Папа, сказку», – просил он каждый раз перед сном. Спали вместе все годы: Антония нужно было часто переворачивать, сам он не мог из-за болезни. Только и слышишь: «Папа, поверни, папа, поправь». Даже после его смерти просыпался от голоса сына: «Папа, поверни». Просыпаюсь, а его нет.
* * *
Из Устюга в Сыктывкар я уехал из-за неудачно сложившейся семейной жизни, а после второй попытки, тоже неудачной, решил: хватит, не моё это. В Сыктывкаре работал одно время фотографом, потом кой-какой коммерцией занялся. Только всё это было пустое, и решил я устроиться сторожем на завод, о смысле жизни подумать. Библию купил, стал в храм ходить.
Антоша
В сторожа меня на заводе брать отказались, уговорив стать мастером. Дали комнату в общежитии. А рядом, в комнате поменьше, жила молодая мать – Вера с годовалым мальчиком, Антоном. Мы с ним чем дальше, тем больше привязывались друг к другу. Вера вечерами работала, трудно ей было, и я, чем мог, старался помочь. Очень самостоятельная, порядочная женщина. Но пошли про нас разговоры, хотя мы и тогда, и после жили как друзья, каждый своей жизнью, разве что Антошка нас связывал, постепенно даже папой меня стал называть. Я его не поправлял. Отец парнишке был нужен. Надеялись, что с возрастом его слабость пройдёт, но лучше не становилось. Предложено было отвезти его в Петербург, проверить. Диагноз оказался страшным, выяснилось, что у Антошки – миопатия Дюшена, прогрессирующая мышечная дистрофия. Прогноз: мальчик проживёт недолго, и болезнь будет протекать мучительно. Так оно и случилось.
В это время врачи обнаружили у меня опухоль, пришлось оперировать в онкологическом диспансере. Не был я к этому готов, пожить ещё хотелось. А на соседней кровати в палате мужчина лежал, как сейчас помню, Сивков, чиновник с почтамта. Выписали его раньше меня, сказав напоследок: «Побудьте на больничном, а потом выходите на работу». А через две недели вижу в газете его фотографию в траурной рамке. Так что когда врач меня напутствовал: «Побудьте на больничном» – я всё понял и попросил у Бога: «Если Ты мне жизнь сохранишь, я Антошку не оставлю. Буду с ним, сколько потребуется». И Господь меня помиловал. Выжил я. Не представлял тогда, конечно, насколько тяжело придётся. Пятнадцать лет мы были с Антошкой рядом, и с каждым годом росли его и наши с Верой страдания.
Мальчик наш жил над землёй, не касался ногами земли с девяти лет и до тех пор, как в землю его положили. А когда человек не связан с землёй, он – над землёй. Когда руки ослабли настолько, что он уже не мог держать молитвослов в руках, стал молиться по памяти. А Евангелие я ему читал. В то утро, когда он умер, мы читали главу из Иоанна, где ученики, увидев слепорожденнного, спросили Христа, кто согрешил – слепой или родители его. А Господь ответил: не он и не родители, а для того этот человек слеп, чтобы явилась на нём слава Божия. Антошку это порадовало. Он сказал: «Значит, я не согрешил, и вы с мамой не согрешили, что я таким родился». Для него это было важно. В том, что я – его настоящий отец, он никогда не сомневался, тем более что с каждым годом росло, по Божьей воле, наше сходство. Иногда «добрые люди» пытались «открыть глаза» сыну, но Антошка им не верил. Спросил меня как-то: «Что значит неродной?» «Это когда ребёночек рождается раньше, чем его папа с мамой женятся». Сына это объяснение устроило. Поэтому, услышав про слепорождённого, он и обрадовался за нас с Верой. Мы с ним поразмышляли на эту тему, а через два часа Антошки не стало. Он очень боялся, что я умру раньше, говорил: «Папа, я молюсь, чтобы Бог тебя раньше не взял». Мама просто физически не справилась бы с тем, чтобы постоянно его ворочать, а я тяжело заболел. Так что страх Антона был обоснован. Но я ответил, твёрдо веруя в каждое сказанное слово: «Бог так не сделает. Пока ты живой, я тоже буду жить».
Сколько раз мне говорили: «И чего ты добился? Семьи своей нет, ни дома, ни здоровья, ничего. Ты всё потерял». В ответ расскажу одну историю. Она случилась вскоре после того, как закончилась война. Женщины пошли с цветами на станцию встречать кто мужа, кто сына. Среди них была мать солдата – тот дал знать, что приезжает. На станции веселье царит, все радуются, смеются, увидев родные лица, но вот поезду уже трогаться скоро, все вышли, а сына той женщины всё нет. Она кричит, подойдя к эшелону: «Сыночек, ты там?!» «Здесь я, мама!» – отвечает солдат сквозь щель в вагоне. «А что не выходишь?» – «У меня ног нет». – «Ты видишь, сынок, я плачу». – «Нет, не вижу, у меня глаз нет». – «Как же так, ты всё потерял?» – «Мама, я не потерял. Я отдал».
Мы бывали в Устюге с Антошкой и его мамой Верой. Тогда он ещё мог ходить, а отец Ярослав Гнып ещё служил в Прокопьевском храме. Вера там и крестилась, а Антошка, несмотря на слабость, выстаивал службы. Но по городу я его всё больше носил на руках. Заходили в музей – ему очень нравился кораблик в витрине под стеклом, это была модель, которую сделали на судоремонтном заводе. «Когда мы приедем домой, сделаем такой же?» – спросил Антошка. Я пообещал. Кораблик мы потом действительно сделали, когда жили с ним в Ульяновском монастыре, но, правда, получился он у нас не такой красивый.
С Антошкой я многому научился, прежде всего терпению. Мне этого не хватало раньше и сейчас не хватает, но его пример меня вдохновляет. Он никогда не жаловался, не роптал. Сначала мы вместе молились о его здравии, потом стали просить, чтобы Господь освободил нас от страданий. Когда я в последний раз сажал Антошку на коляску, он начал задыхаться, показывать, что не может вздохнуть. Потом голова его упала на грудь, глаза закрылись. Мне казалось, что всё это произошло очень быстро, но для Антошки это были, наверное, долгие мучения. Держу его на руках и чувствую, как Господь его принимает, и не знаю, положить или так и держать...
http://rusvera.mrezha.ru/597/3.htm
Серия сообщений "Рассказы":
Часть 1 - О ВОЙНЕ
Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!
...
Часть 26 - Простая лесная дорога.
Часть 27 - ДВЕ КРАЖИ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ. Рассказ Нины Павловой.
Часть 28 - БЛАГОСЛОВЕНИЕ Рассказы отца Варнавы (Трудова)
Часть 29 - ГЛАВНЫЙ ПОСТУПОК
Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)
Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ
Часть 32 - Печать дракона
|
|
АЛЬТЕРНАТИВА Попытка реабилитировать армию генерала Власова не стала прорывом к правде |
АЛЬТЕРНАТИВА
Попытка реабилитировать армию генерала Власова не стала прорывом к правде
«Не было бы победы...»
Книга протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России: “запретные” темы истории ХХ века в церковной проповеди и публицистике» вызвала серьёзные споры, как внутри Русской Церкви, так и в российском обществе.
Это была не первая и притом довольно скромная попытка реабилитировать генерала Андрея Власова. Но так получилось, что именно она привела к взрыву. Отчасти это можно объяснить тем, что работу отца Георгия высоко оценили в Зарубежной Русской Православной Церкви. Здесь нет ничего неожиданного. Немало прихожан ЗРПЦ – дети и внуки власовцев, которым удалось убедить себя в том, что они потомки героев. Это человеческое, простительное, тем более в свете заповеди «Почитай отца...».
Но главная причина той волны гнева, который вызвала книга отца Георгия, все-таки в другом. Попытки опорочить нашу Победу стали общим местом на Западе, перекинулись на Прибалтику, продавливаются властью на Украине. Включение в эту работу представителей российского духовенства стало для многих последней каплей. Тему подхватило телевидение, не пожелавшее упустить столь лакомый повод для скандала. Ведь для СМИ это не только рейтинг, но и возможность самоутвердиться. Телеведущий Александр Архангельский смотрелся довольно выигрышно, пытаясь получить ответ у отца Георгия о его отношении к нацизму. Сначала вопрос прозвучал довольно обтекаемо, в том смысле, что вот генерал Власов попал из одной тоталитарной системы на службу другой: «Вы как на эту проблему смотрите?» Ясного ответа Архангельский не получил и задал вопрос уже в лоб:
– Отец Георгий, но нацизм – зло?
Священник не слышит его, Архангельский настаивает:
– Я всё-таки возвращаю к своему вопросу: нацизм – зло?
Протоиерей Георгий Митрофанов
– Безусловно, зло, – соглашается, наконец, отец Георгий. Увы, слишком поздно, ведь он не на академической кафедре. Миллионы телезрителей этот ответ, вырванный не без труда, уже не способен удовлетворить. Особенно важна реакция той части образованных, думающих людей, которые всё ещё стоят на пороге Церкви, но вместе с тем ищут опоры в Победе. Благодаря этой общей святыне мы, православные люди, можем находить с ними общий язык. К сожалению, выступления отца Георгия не в первый раз производят обратное действие. Как, не выдержав, заметила однажды публицист Людмила Ильюнина:
«Не так давно протоиерей Георгий Митрофанов назвал празднование 60-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне «победобесием». Объясняя смысл изобретённого им термина, отец протоиерей говорил о том, что надо помнить, какой ценой куплена победа, о миллионах погибших не только на поле боя, но и в сталинских лагерях, о настоящих героях – бойцах армии Власова, о различных мифах о войне. Все перечисленное – теперь уже общеизвестные вещи. Но, думается, никакое русское сердце, пусть и принимая исторически верную аргументацию отца Георгия, не согласится с тем, чтобы назвать нашу память о Победе «победобесием»».
Продолжу эту мысль. Много лет празднуя День Победы, видя переживания других людей, я могу сказать, что наши чувства никогда не отравляли беспамятство или гордыня. Это День нашего спасения от верной смерти, прекращение таких страданий, что спустя столько десятилетий текут слёзы. А когда я пришёл в Церковь, то понял, что Победу мы празднуем не только над нацистской, но и большевистской идеологией. Она вылиняла, лишилась девяти десятых своей злобной силы перед лицом победившего народа.
У отца Георгия Митрофанова другая позиция по этому вопросу. Пытаясь разъяснить её, игумен Пётр (Мещеринов) недавно произнёс: «Война же 1941–1945 гг. примечательна для церковно-исторического анализа о. Георгия тем, что победа в ней лишила наш народ и самой возможности покаяния».
Но, как заметила на это одна православная христианка, «не было бы победы в войне – и каяться было бы некому. И негде».
О христианской свободе
Почему отец Георгий не понял того, что оказалось доступно простой прихожанке? Это очень трудный и далеко не риторический вопрос. Меньше всего мне хотелось бы выступить в роли судии. Что-то в его деятельности я уважаю, с чем-то категорически не согласен. Но совершенно не приемлю обвинение, которое иногда звучит в адрес отца Георгия: «Враг Церкви».
Святейший Патриарх Тихон не отрицался ни от богослова-вольнодумца Михаила Тареева, ни от архиепископа Фёдора (Поздеевского), которые осуждали его «слева» и «справа». Он сознавал цену христианской свободы. Очень важно, когда православные люди, пусть даже заблуждаясь, ищут правду и побуждают делать это собратьев во Христе. Вольно или невольно, они учат не только отстаивать свои убеждения, а осмысливать, глубже понимать, во что веруют. Единодушие – драгоценный плод, вырастить который очень непросто. Навязать его силой – это как минимум неискренность по отношению к Богу, как максимум – хула на Духа Святого. Подобный путь неизбежно ведёт Церковь к утрате духовного иммунитета и конформизму, а это иногда страшнее того, против чего нам предлагают бороться.
Мнение отца Георгия, на мой взгляд, ошибочное, нуждается в тщательном исследовании, серьёзном ответе, а не в приговоре или проклятии.
«В России никогда...»
Есть и другая причина, по которой неприемлемы тяжёлые подозрения в адрес отца Георгия. Игумен Пётр (Мещеринов), наиболее активный его защитник, заявил недавно: «Я не знаю большего русского патриота и более церковного человека, чем прот. Георгий Митрофанов».
Здесь, конечно, очевиден явный перехлёст. Кроме того, я твёрдо могу сказать – отец Пётр не имеет морального права рассуждать о патриотизме после своего заявления: «Бог с ней, с Россией. В конце концов, мне до неё (как, впрочем, и до всех других стран) особого дела нет – ведь у меня, как у христианина, вид на жительство в Небесном Царстве». Это было произнесено после рассуждений о том, что наша страна не сегодня завтра распадётся, издохнет в муках. «Бог с ней» в данном случае употреблено не просто всуе, а противоречит всему контексту этого пожелания. Надеюсь, отец игумен не сочтёт мои слова очередным «доносом» на него.
Но что касается отца Георгия, то, хотя высказывания батюшки не раз вызывали у меня огорчение, сомнений в патриотизме автора «Трагедии России...», в его преданности Церкви не возникло ни разу. Он серьёзный, смелый человек, яркая, незаменимая для Русской Церкви личность. Искренне надеюсь, что отец Георгий станет, в том числе и после нынешней дискуссии, бережней относиться к чужим убеждениям. Речь, разумеется, не идёт о необходимости поступаться христианскими или гражданскими принципами. Наоборот, разногласия сплошь и рядом основаны на недоразумениях. Приведу несколько примеров.
* * *
Помню, как со страниц нашей газеты отец Георгий произнёс, что на каждого убитого фашиста приходилось десять погибших красноармейцев. То есть довольно немцам было пожертвовать пятью миллионами солдат (в Вермахт и СС было призвано минимум 18 млн. человек) – и мужчин в СССР не осталось бы вовсе. Ни одного.
Затем в «Слове на панихиде в день 60-летия казни генерала А. А. Власова» батюшка заявил о почти «двух десятках миллионов русских солдат», погибших на войне. Так как страны гитлеровской коалиции потеряли на Восточном фронте около пяти миллионов убитыми и умершими, соотношение получается уже 4:1.
Не знаю, будет ли оно меняться. Допустим, все профессиональные российские историки лжецы. Но ведь и, согласно данным британской исторической науки, потери наших войск составили от 8,8 до 10,7 млн. человек. Это, по крайней мере, вдвое меньше, чем думает отец Георгий. В любом случае «десять к одному» – миф, рождённый «отцами русской демократии». Никакого отношения к реальности он не имеет.
* * *
Напомню ситуацию, которая предшествовала скандалу вокруг «Трагедии России...». В прошлом году отец Георгий заявил на конференции о браке и семье, что «вопреки мнению многих современных проповедников и историков-патриотов, в России никогда не преобладало христианское представление о семье и браке. Среди сонма русских святых практически отсутствуют семейные люди». На вопрос о святых Петре и Февронии, как примере идеальной супружеской пары в русской агиографии, отец Георгий ответил: «Нам неизвестно доподлинно, существовали ли эти люди вообще».
Так далеко не заходили даже советские специалисты по древнерусской литературе. Максимум, что они себе позволяли, – это мнение, что трудно установить, кого именно из исторически известных князей Муромских следует иметь в виду под именем Петра и Февронии. Вот строго научный подход, которым отец Георгий в данном случае пренебрёг. Так же как и совершенно очевидным обстоятельством – даже если допустить, что история Петра и Февронии лишь красивая легенда, сам факт их прославления и широкого почитания ничего не оставляет от тезиса: «В России никогда не преобладало... среди сонма русских святых практически отсутствуют...»
Понятна мысль отца Георгия, которую он пытался довести до участников конференции – нам не нужно идеализировать дореволюционную семью. Трудно не согласиться с тем, что «Домострой» для современного человека скорее опасен, чем полезен. Он создавался для смягчения средневековых нравов, а нынешние – расхристанные, размытые – может ужесточить, а не исправить. Но, заявив, что «в России никогда не преобладало христианское представление о семье и браке», батюшка лишь абсолютизировал свои печальные фантазии о русском прошлом.
Дальше хуже. Кто-то из участников конференции напомнил о другой семейной паре святых, которая может стать для нас идеалом, – Царственных страстотерпцах. Ответ отца Георгия изумил в том числе своей фактической несостоятельностью: «Ошибочно было бы воспринимать нашего последнего императора как пример во всём. Так можно дойти до абсурда... Рассматривать Царскую Семью как идеал православной семьи не приходится, хотя это и была очень хорошая семья. Дело в том, что эта семья стала для Государя определённым искушением. Если бы он, имея такую семью, был бы не императором, а как и мечтал, гвардейским полковником, цены бы этой семье не было. Но он стоял во главе государства и оставил свою большую семью – Россию – ради малой семьи».
«Оставил» – это гипотеза отца Георгия, ни на чём не основанная. Довольно вспомнить два эпизода. Когда в 1915 году Русская армия была, по сути, разгромлена, Царь оставил не Россию, а жену и детей, добровольно отправившись на фронт. Как пишет историк Керсновский, «история часто видела монархов, становившихся во главе победоносных армий, для лёгких лавров завершения победы. Но она никогда ещё не встречала венценосца, берущего на себя крест возглавить армию, казалось, безнадёжно разбитую, знающего заранее, что здесь его могут венчать не лавры, а только тернии». Так войска обрели командующего, которому могли доверять. Наше положение было восстановлено, причём без тех чрезвычайных мер и шпиономании, к которым был так склонен прежний главнокомандующий – Великий князь Николай Николаевич. Это вполне показывает, насколько спокойствие, отсутствие какой-либо дёрганности и жестокости в Царе влияло на народ. Люди сами успокаивались и брались за дело, даже если накануне оно казалось безнадёжным.
Вторая история. В 1918-м большевики под давлением немцев решили вывезти Царскую Семью в Москву. Для какой политической комбинации им это понадобилось, доподлинно неизвестно. Государь предполагал, что его попытаются принудить к поддержке позорного Брестского мира. Так как Наследник был болен, Император Николай Александрович решил отправиться без семьи. Однако Государыня вызвалась сопровождать мужа, чтобы поддержать его морально. Оба они готовились бороться с немцами до конца. Оставить во имя своей родины сына, который мог умереть в любой момент, – шаг, который ярко характеризует, насколько вопросы долга были для Царственных страстотерпцев важнее их частной жизни. Более того, единственный шанс выжить, который мелькнул перед ними, святые твёрдо решили проигнорировать. А ведь речь шла не о соглашательстве с гитлеровской Германией, желавшей уничтожения России и русского народа, а с кайзером Вильгельмом – человеком вполне вменяемым.
Вот разница между Царём-мучеником, которого профессор Митрофанов отказывается уважать как правителя (слава Богу, почитая его как страстотерпца), и генералом Власовым, которого отец Георгий пытается реабилитировать. Государь был христианином и руководствовался совестью, а не политической целесообразностью. То же можно сказать об Антоне Ивановиче Деникине, который через всю жизнь пронёс молитву отца – майора Императорской армии: «Господи, пошли умереть вместе с Тобою...» Не выжить любой ценой – умереть. После начала Великой Отечественной войны генерал Деникин подал прошение – зачислить его рядовым в Красную армию. Можно вспомнить, как Иван Солоневич, искренне ненавидевший советскую власть, поначалу поддержал Гитлера, но уже осенью 1941-го прозрел, предсказав победу русского народа. За это он был брошен фашистами в тюрьму, а затем отправлен в ссылку.
Те понятия о чести, которые эти русские люди почерпнули в своей вере, диктовали их поведение вопреки идеям и выгодам. С Власовым всё обстояло совершенно иначе, и нельзя сказать, что отец Георгий не сознаёт этого вовсе. Просто та идейная конструкция, которую он выстраивает вопреки фактам и здравому смыслу, заставляет его в рассуждениях о генерале Власове игнорировать правоту тех, кто предпочёл союз с Богом против нацизма, а не с чёртом против большевиков.
«Наш народ»
Публикация его книги почти совпала по времени с высказыванием архиепископа Волоколамского Иллариона в интервью журналу «Эксперт».
«Я считаю, что Сталин был чудовищем, – пишет он, – духовным уродом, который создал жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несёт личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером... Но, несмотря на все чудовищные репрессии, народ проявил небывалый героизм. Иначе как чудом это назвать нельзя. Победа в войне – это победа народа. Народа, который проявил величайшую волю к сопротивлению. Чудо победы в войне – это великое явление силы духа нашего народа, которую не сумели сломить ни Сталин, ни Гитлер».
Вот так получается, не у меня, а у отца Георгия и архиепископа Иллариона, что, обрушившись на Сталина, они неизбежно приходят к уравниванию советских ценностей (а ценности были, пусть и искажённые) с нацизмом, в котором трудно отыскать что-либо, кроме животной ненависти к человеку и полному отрицанию Христа. Владыка Илларион, между прочим, высказался, желая дополнить, уточнить мнение Патриарха Кирилла, которое прозвучало по украинскому телеканалу «Интер».
«Недавно Совет Европы принял постановление, в котором ставится на один уровень нацизм и сталинизм, – говорил Святейший. – Я отнюдь не являюсь сторонником или защитником сталинской эпохи. Я уже имел возможность рассказать украинскому народу, и не только ему, что мой дед почти тридцать лет просидел в тюрьмах и лагерях только потому, что был христианином. Мой отец сидел в тюрьме: накануне своей свадьбы он был посажен только потому, что, будучи студентом высшего учебного заведения, пел в хоре Киевского подворья в Санкт-Петербурге, где, кстати, он познакомился с моей мамой.
У меня свой критический взгляд и своя боль, связанная с этой историей. Но вот о чём нужно сейчас, может быть, подумать: и в нацизме, и в сталинизме были репрессии, и против собственного народа тоже – как и во многих других режимах, которые существовали. Но чем нацизм отличается от любой другой системы? Он отличается своим человеконенавистничеством. Сейчас все имеют доступ к документам той эпохи – известно, что говорил Гитлер, что говорил Гиммлер, считавший, что 30 миллионов славян нужно уничтожить просто для того, чтобы они не путались под ногами; что говорил Кох в отношении Украины, когда он предлагал высасывать из этой земли всё, что только можно, а остальное, мол, шлак. Это политика и философия, которая оправдывала любую человеческую жестокость, которая ставила своей целью уничтожение людей.
И вот почему ещё нельзя ставить всё на один уровень: думаю, на Украине с уважением относятся к политическому выбору западных стран и к их приверженности демократии, свободе, правам человека, но ведь эти же страны вошли в коалицию со Сталиным против Гитлера, а не с Гитлером против Сталина. Антигитлеровская коалиция со странами, которые провозглашали демократические принципы, является лучшим доказательством того, что нельзя ставить на одну доску нацизм и сталинизм.
Наш народ – когда я говорю «наш народ», я имею в виду и россиян, и украинцев, ведь мы жили тогда все в одном государстве, – заплатил колоссальную жертву за освобождение Европы и всего мира. И поэтому оправдание гитлеризма и нацизма, под каким бы соусом это оправдание ни осуществлялось, – это оправдание зла, такого зла, которое в политической практике не встречалось на протяжении всей человеческой истории.
Я думаю, что не оправдывая, а осуждая репрессивные режимы, мы должны всё-таки делать различие между режимом репрессивным и режимом человеконенавистническим. Для меня нацизм – это режим человеконенавистнический. Сталинизм – это репрессивный режим и в какой-то степени режим преступный, потому что в результате действий этого режима погибали невинные люди. Но при этом именно Советский Союз более всего жертв положил на алтарь освобождения и своей страны, и всего мира от того, что несло угрозу всей человеческой цивилизации».
Крик поднялся на весь крещёный мир: «Слова патриарха Кирилла содержат пренебрежение к человеческой жизни и фактическое оправдание сталинского режима». Это заявление украинских националистов, пытавшихся подать на Патриарха Кирилла в суд. Новодворская, в свою очередь, обвинила Святейшего в кощунстве по отношению к жертвам сталинизма. Это люди болящие, жертвы, но вместе с тем носители и возбудители тоталитаризма. Не те или иные слова Патриарха, а его душевная тонкость и взвешенность позиции вызывали у них приступ ненависти. Поэтому подыгрывать им бессмысленно.
Мы и Сталин
«Архипелаг ГУЛАГ», «Красный террор в России», «Россия в концлагере» и т. д. – всё это, прочитанное ещё в молодости, привило моему поколению отвращение к тому, что происходило у нас в Гражданскую войну, к репрессиям, к гонениям на Церковь. Наивные идеи евразийцев, наших эмигрантов, полагавших, что сталинский режим есть какое-то воплощение особого пути России, и сейчас не вызывают у меня ничего, кроме горькой иронии. Отец Георгий очень убедительно показал в своей книге их несостоятельность.
Война. Вот ключевое событие, которое не только Деникина заставило сделать выбор между мечтами о реставрации старой России и спасением той, что есть. Стало ясно – милюковы и керенские, сохрани они власть, выиграть этой войны не могли. Они и не сохранили её, власть, именно вследствие своего бессилия. Открою ещё одну «запретную тему»: в Первую мировую войну германцы были сильнее нас по всем параметрам, кроме одного. Часть нашей армии – 10-20 процентов, не больше, – была тем образцом, которого немцы не имели. Она состояла из людей духа, способных ворочать горами. Но в целом германская армия с её тяготением к середине, без взлётов и падений была определённо мощнее.
И не спасли бы нас даже союзники после поражения 1915 года, если бы во главе армии не встал святой Царь. К этому убеждению я пришёл не потому, что начитался монархических брошюр, а внимательно изучая историю Великой войны. Присутствие Государя во главе армии восполнило недостаток её стойкости. И армия это знала. «Тихое сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14-й и 15-й дивизий весть об отречении своего Императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слёзы», – писал Деникин, не такой уж ярый монархист, чтобы придумать эту сцену.
Чем восполняли бы нашу слабость милюковы с керенскими в 41-м, я не знаю. Каким образом они могли бы создать первоклассную военную промышленность, существенно лучше той, что имела Германия? Свергнув Государя, мы не оставили Господу других вариантов, кроме Сталина. Это не я придумал. Так было. А тем, кто не верует в промысел Божий, предоставляю право изобретать альтернативную реальность, где всё само собой устраивается невидимой рукой демократии.
Погибающая в результате свержения Царя-мученика Николая Второго, массового предательства страна не могла быть подготовлена к борьбе за выживание умно и красиво. При этом её система управления была построена не только на лжи и терроре, но и высочайшей самоотверженности. Она стала отражением нашего духовного состояния со всеми его противоречиями. Неправда, что Сталин и народ были двумя разными явлениями – одно губительным, другое спасающим. Линия разлома прошла через каждого отдельно взятого гражданина нашей страны. Быть может, никогда он в такой степени не принадлежал диаволу и никогда так не тосковал о Боге, не нуждался в Нём. Не только Сталин, но миллионы мужчин и женщин несут ответственность за случившееся со страной. Виновен каждый, кто рукоплескал Февральской, а затем Октябрьской революциям, молчал, когда нужно было кричать, и кричал, когда требовалось молчать.
Вопреки этому, наш народ во главе со своим верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным смог проявить величайшую волю к сопротивлению и победить. Это действительно было чудом, которое явил нам Господь, но чудо это стало возможно благодаря тому стоящему, что всё ещё сохранялось во властях и воинствах страны, в тех наших предках, согражданах, кто отдал жизни и здоровье во имя Победы. Несмотря на страшные методы, с помощью которых Сталин добивался своей цели – спасения страны, он не может быть сопоставлен с сатанистом Адольфом Гитлером.
Вместе со Сталиным мы грешили, вместе побеждали. После того как мы разрушили свою родину, изменив святому Царю, нам чистенькими уже не остаться. Мы предпочли доброму Государю жестокого генсека и поэтому вместе со Сталиным должны быть осуждены, но, если будет на то воля Божия, можем быть помилованы. Да, Сталин был стержнем репрессий, после его смерти взрослых казнить перестали, переключившись на детей. Их стали убивать миллионами – абортированных младенцев, не оставивших по себе мемуаров. Так душегубство стало обыденностью – и сколько ещё такой лжи в нашей жизни? Не может быть и речи о том, чтобы забыть то горе, которое Иосиф Сталин лично причинил России, о жертвах его отступления от Бога. Но пора прервать эту позорную и безумную традицию искать в правителе козла отпущения, судить его, обеляя себя, выставляя народ случайной жертвой. Нам говорят: покайтесь, отрекитесь от своего прошлого. Мы отвечаем: покаяние не может быть основано на самообмане.
Вот почему я не принял слов архиепископа Иллариона.
Владимир ГРИГОРЯН
http://rusvera.mrezha.ru/597/5.htm
|
ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ |
613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Халтурина, д. 10, кв. 10.
Волковой Ксении Николаевне (это дочь, сама я хожу плохо – ноги болят).
* * *
Добрый день, уважаемые издатели и читатели «Веры»! Обращается к вам Лемаева Наталья, 46 лет. Сподвигло написать вам прескорбное положение нашей семьи. Мои двое детей и я голодаем – закончилась картошка, которая кормила нас зиму, все припасы подошли к концу. Хоть и в райцентре проживаем, а работы нет. Летом ещё можно найти временную или сезонную подработку, а сейчас, с зимы, – мёртвый сезон. Ухаживаю за двумя старушками от Пенсионного фонда, получаю меньше 500 рублей в месяц, вот и весь заработок. Сын-шестиклассник болен синдромом Пертеса (это разрушение тазобедренного сустава). Мы немного подлечились, врачи говорят, лет до 40 сустава ему хватит, а дальше надо будет ставить титановый. Очень переживаю за его судьбу. У меня самой здоровья нет, и всё усугубляется нашей нуждой и долгами. За коммуналку должны уже больше 20 тысяч, газ могут отрезать в любой момент, у нас с этим не церемонятся. Я вцепилась бы в любую работу, но нет ни одной вакансии. Особенно горько, когда приходят праздники, а у нас – хоть зубы на полку. Очень прошу помочь нам, надеюсь на ваше милосердие. Буду обо всех молиться Господу. Заранее признательна – Наталья.
607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная, д. 85, кв. 19.
Лемаевой Наталье Петровне.
* * *
Очень прошу молитв о себе и моей дочери, отроковице Елисавете (7 лет), чтобы Господь устроил нашу жизнь, помог в воспитании дочери. Начинает одолевать уныние. Спаси Господи! Мария.
* * *
Уважаемые сотрудники газеты «Вера» и читатели! Обращается к вам Пономарёва Людмила Михайловна из Смоленской области. Я вдова чернобыльца-ликвидатора. После безуспешного лечения в течение нескольких лет мой муж умер, и я осталась одна с двумя сыновьями на руках, Мишей и Алёшей (в то время они были совсем маленькими). Всё это время мы с трудом, но сводили концы с концами. На детей выплачивают пенсию по потере кормильца, а сама я работаю завхозом в школе. Но потом началось самое страшное. То, что мой муж был в Чернобыле, отразилось на здоровье детей. Мы прошли все районные и областные больницы, и в 2005 году детей поставили на учёт в детском научно-практическом центре противорадиационной защиты при НИИ педиатрии и детской хирургии г. Москвы. До 2011 г. (пока мальчикам не исполнилось 18 лет) мы ежегодно проходили там обследование, а потом длительные и дорогостоящие курсы лечения. Все поездки и лекарства я оплачивала сама, приходилось постоянно влезать в долги, считать каждую копейку. Обращалась за помощью и в вашу рубрику (спасибо вам за поддержку в тот час!). Сейчас мои мальчики повзрослели. Мише 19 лет, Лёше – 18. Всё это время мы не опускали рук, боролись с невзгодами. Мальчики закончили школу на ґ» и µ» и поступили в вузы. Миша учится на 1-м курсе Смоленского торгово-экономического университета, Алёша – студент 1-го курса Смоленского госуниверситета. Но сейчас у нас сложилась такая ситуация, что я не знаю, смогут ли мальчики учиться дальше. У Миши и Алёши множество болезней, которые никуда не делись; количество лекарств, необходимых мальчишкам, просто зашкаливает, и они очень дорогие. А ведь мне ещё нужно заплатить за общежитие и за учёбу. Алёша учится на бюджетной основе, а у Миши обучение стоит 37500 руб. в год. Кроме того, нужно купить им ноутбук для занятий, одеть, обуть, им необходимо усиленное питание. У меня самой очень много проблем со здоровьем. Сейчас у нас долг по коммунальным платежам 22 тыс. руб. Под свою зарплату я взяла в банке 25 тыс. руб; больше не дают. Но всё равно не могу поддержать мальчишек. Помощи нам ждать неоткуда. Может быть, люди помогут моим мальчикам. Они у меня крещёные, посещают нашу церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы. С низким поклоном прошу помощи для своих сыновей. Заранее всем благодарна!
216450, Смоленская обл., г. Починок, ул. Твардовского, д. 4, кв. 31.
Пономарёвой Людмиле Михайловне.
* * *
Дорогая редакция! Хочу попросить помощи для замечательной многодетной семьи Курочкиных. Терпеливо, с большой любовью родители занимаются воспитанием своих троих детей, отдавая им всё тепло души. (Сыновьям 15 и 11 лет, дочке идёт четвёртый год.) Три года назад в их дом пришла беда. Страшный диагноз – «онкология» – был поставлен матери, Наталии Михайловне. Рак бьёт по всей семье. В прошлом году Наташа 12 раз съездила на химиотерапию и облучение в г. Кострому, за 500 км от дома, и сколько это потребовало сил и средств! Помочь им некому. Приходится супругам с утра до вечера работать, чтобы как-то выживать. Но болезнь часто даёт знать о себе. Поэтому считаю своим долгом обратиться в вашу газету, чтобы чем-то скрасить их жизнь. Тепло и забота людей продлят жизнь многодетной маме, а детям подарят радость и чувство, что их семья не одинока в своём несчастье. С уважением – Надежда.
157777, Костромская обл., Вохомский район, пос. Лажборовица,
Курочкиной Наталии Михайловне.
http://rusvera.mrezha.ru/682/11.htm
|
НОВЫЙ ВАВИЛОН? О тотальном контроле и сопротивлении |
О тотальном контроле и сопротивлении
От ИНН – к УЭК
«Когда же вы напишете об электронных паспортах?» – доносится голос из трубки. Из Ленинградской области звонок. Вот уже и по телефону начали спрашивать. А до этого письма присылали с просьбой разъяснить ситуацию с «наступлением электронного концлагеря».
Да что тут разъяснять... Ещё в 2008 году на Архиерейском Соборе РПЦ было однозначно сказано: «Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля». И на последнем Соборе, который состоялся в феврале нынешнего года, наши иерархи (а их было 280 – самый представительный Собор за всю историю Русской Православной Церкви) единодушно выступили против «дискриминации граждан, отказавшихся от использования электронных способов учёта и идентификации личности». Также иерархи признали «обоснованными опасения, что с помощью таких средств в будущем может осуществляться тотальный контроль за человеком без его согласия».
Тема электронного контроля на нынешнем Соборе впервые была выделена в отдельный вопрос для соборного обсуждения, и в итоге был принят основательный документ, с которым может познакомиться каждый, кто этим интересуется. Называется он «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учёта и обработки персональных данных». В нём сказано: «Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учёта персональных данных и личной конфиденциальной информации». Там же предложено государству выработать альтернативные формы учёта, а также, согласно Конституции, обеспечить граждан правовыми, техническими, организационными гарантиями, чтобы они могли пользоваться социальными благами без электронных документов. Что ещё к этому добавить?
Мог бы я так и ответить женщине, позвонившей из Ленобласти. Но в душе-то понимаю, что это не ответ... Тут же вопрос практический: принимать или не принимать? Причём ситуация развивается столь стремительно, что не успеем оглянуться, как этот выбор встанет перед всеми нами.
Новый электронный паспорт многое возьмёт от УЭК
Началось всё с введения 1 января 1999 года индивидуальных налоговых номеров (ИНН). Уже тогда стали говорить об электронном банке данных, который может использоваться для тотального контроля над людьми. Государство, отмахнувшись от протестов и высказанных Церковью опасений, стало вводить и другие формы электронного учёта, вроде «карточки москвича». А на обычных паспортах граждан под фотографиями появились магнитные полоски, на которые можно записывать информацию и дистанционно её считывать. Чиновники уверяли, что эти магнитные носители будут лишь дублировать сведения, содержащиеся в паспорте. В такие объяснения верилось с трудом. Дальше – больше. В 2010 году на территории РФ ввели в обращение УЭК – универсальную электронную карту, которая является одновременно идентификационным и платёжным средством. Возможности её поражают воображение. Теперь можно, «не выходя из дома», узнать состояние пенсионного лицевого счёта, записаться на приём к врачу, держать на карточке электронную историю болезни, хранить и использовать электронные билеты в кино, на поезд и все квитанции, что ты где-либо покупал или заказывал. С помощью электронной подписи, содержащейся в карточке, можно совершать самые разные юридические процедуры, и сведения о них фиксируются там же. На УЭК можно держать школьный дневник с оценками детей, студенческую зачётную книжку и т. д., и т. п. Фактически в ней отражена вся жизнь, все значимые действия человека. И доступ к этим, собранным воедино, сведениям открывает возможность не только узнать пристрастия человека, но и манипулировать им.
Как было объявлено, получение УЭК – сугубо добровольное дело. К концу марта нынешнего года в 75 регионах страны таких карточек распространили лишь около 30 тысяч. Всего лишь. Но не успели этот проект толком обкатать, как запустили уже новый. В конце января нынешнего года Госдума проголосовала за замену нынешнего паспорта его электронным аналогом. Это будет пластиковая карта типа УЭК со встроенной электронной микросхемой. Как сказано в законопроекте, с 2015 года такие паспорта станут выдавать гражданам РФ, кому исполнилось 14 лет. А все, кто имеет старые паспорта, должны их заменить к 2025 году.
Вот как к этому относиться? Принять как неизбежное? Протестовать? Пикетировать Госдуму и правительство? Но тут же вспоминается «борьба с ИНН» и... руки опускаются. Уж очень не хочется оказаться в числе «маргиналов». Ведь как тогда получилось? Против ИНН выступили и нормальные, искренне верующие православные, и люди, так скажем, полусумасшедшие. Всех скопом их в сумасшедшие и записали. И теперь попробуй докажи, что ты не из «пензенских затворников», которые конец света под землёй ждали.
Поэтому что тут советовать? Наверное, каждый должен решать исходя из своей совести и понимания происходящего.
Когда это началось?
Лично у меня взгляд на происходящее, так скажем, «исторический». Честно скажу: я сочувствую тем, кто не принял современных паспортов, и даже тех же пензенских пещерных сидельцев понимаю. Помнится, их руководительница, 82-летняя игуменья Антония, тогда, в 2007 году, называла ИНН «печатью дьявола» и предрекала приход антихриста. Была ли матушка сумасшедшей? Позже архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет сказал в интервью: «Это обычные православные христиане». По сути, их протест был понятен, только средство его выражения оказалось слишком уж экстремистским.
А если вспомнить о тысячах и тысячах русских людей, которые в XVII веке уходили в леса, спасаясь от «прихода антихриста»? Тоже нормальные православные люди. Антихрист всё же тогда не явился, но интуиция людей не подвела: мир изменился, наступило обмирщение жизни, которое в конечном итоге вылилось в страшное богоборчество XX века. Эта апокалипсическая волна катилась с запада на восток. Предчувствие духовного слома было не только в церковной среде, но и у художников, которые тонко чувствовали время. Уже в 1498 году Дюрер в Германии написал свою знаменитую серию гравюр «Апокалипсис». Спустя семь лет он приехал в Рим и увидел, как по указанию Папы из земли выкапывают античные статуи Ахиллы, Минервы, Юпитера и устанавливают их на улицах священного города. Прошло ещё два десятка лет, и Рим захватывают лютеране-ландскнехты – они водружают на себя епископские митры, расстреливают из аркебуз иконы и распятия Христа, режут священника, который отказался дать Святые Дары ослу. А ещё через тридцать лет, когда новый секулярный дух только-только начал утверждаться, Брейгель написал картину «Вавилонская башня». Вдохновился он на это, наблюдая за строительством грандиозной ратуши – органа управления людьми. Строилась она в Антверпене, который в ту пору стал новым финансовым и экономическим центром западного мира. Здесь уже действовала первая международная Биржа, на торги которой съезжались со всего света. Фактически уже в этом бельгийском городе начался тот мир, каким мы его знаем...
«Вавилонская башня» Питера Брейгеля и здание Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
А история продолжается. В той же Бельгии, только в городе Страсбурге, в 2007 году Святейший Патриарх Кирилл пытался убедить евродепутатов: «Технологический прогресс по-новому ставит вопрос о правах человека. Человек должен оставаться человеком – не товаром, не подконтрольным элементом электронных систем, не объектом для экспериментов, независимым организмом. Пора признать, что религиозная мотивация имеет право на существование...» Но слова прозвучали как глас вопиющего в пустыне. Европа вовсю опробывала тогда новую модель объединения человечества на секулярных ценностях. Прежние такие модели, в том числе коммунистический проект в Евразии, уже рухнули. Но теперь появились новые, электронные, технологии, которые способны объединять в массу, контролировать и принуждать к сотрудничеству отдельных индивидуумов. И может, на этот раз у них получится?
Ирония в том, что здание Европарламента, где наш Патриарх пытался обратиться к евродепутатам, с виду очень напоминает брейгелевскую Вавилонскую башню. Заметив это в первый раз и не поверив глазам, заглянул в справку. Действительно! «Здание Европейского парламента в Страсбурге спроектировано по образцу картины с изображением недостроенной Вавилонской башни Питера Брейгеля. Также к образу Вавилонской башни отсылает девиз Европейского парламента: "Много языков – один голос". Здание построено так, чтобы производить впечатление недостроенного. Строительство его закончено в декабре 2000 года – за несколько дней до наступления календарного перехода в XXI век».
Сразу вспомнился архитектор Щусев, который за основу проекта мавзолея Ленину взял Пергамский алтарь, названный в Священном Писании «престолом сатаны» (Откр. 2, 12-13). Шутил он так? И французские архитекторы, строившие Европарламент, тоже шутили? Или это происходит непроизвольно, под веянием времени?
Так совпало, что накануне этого своего «открытия» я спорил с одной православной девушкой о трёх шестёрках в штрих-коде и в современном паспорте.
– Даже если там имеются 666, то это получилось случайно, – убеждал её. – Ну кому, скажи на милость, придёт в голову рисовать эти шестёрки? Вот где они, покажи...
Девушка, раскрыв паспорт, указала на цифирьки нумерации нечётных страниц, обрамлённые узором. Если приглядеться, то в узоре можно увидеть 666. А если просто так смотреть, то перед глазами лишь три завитушки.
– Эх, о чём с вашим братом говорить! – вздохнул я и взял из её рук паспорт, чтобы убрать в карман. Своего-то паспорта у неё не было.
«Мы не рабы...»
Ко времени той нашей встречи Фотиния уже много лет жила по недействительному советскому паспорту.
– У меня даже нужная фотография не вклеена, – рассказывала она. – Вообще все, кто не принял современный паспорт, делятся на две категории. Первая – кому успели вклеить фото по достижению 45-летнего возраста, так что паспорт стал «пожизненным». И вторая – люди, кому «вечно» 16 и 25. Когда мне 25 исполнилось и пришёл срок вклеивать новое фото, я как-то этим не озаботилась – такая кипучая жизнь у нас была на приходе, чувствовалась защищённость общины. Спохватилась в 2000-м, но мне сказали: «Время ушло, мы такие паспорта не продлеваем».
– А не всё ли равно – с фотографией или без, – засомневался я. – Ведь по советскому паспорту жить нельзя.
– Но я же живу! Конечно, он уже ни к чему не пригоден, но билет на поезд я купить могу. Туда вписывают номер паспорта и помечают «у/л» – «удостоверение личности». С каждым годом всё труднее бывает договориться, но выручают два обстоятельства. Всегда я стараюсь встать в очередь в окошки, за которыми сидят молоденькие кассирши. Обычно они не знают, что в советском паспорте несколько фотографий, поэтому даже страницы не листают. Смотрят на первую, где мне 16, ну и что – там у меня нет бороды, в принципе такая же на вид. Если всё же вижу по глазам кассирши, что она в сомнении, то пускаю в ход запасное оружие, говорю: «Посмотрите, там сзади в паспорт вложены старые билетики, по которым уже ездила, они выписаны по этому паспорту». Но бывает, что кассир упирается: «Я вам билет продам, но вас могут по нему не пустить в поезд». Такие случаи тоже происходили – приходилось бегать к начальнику состава. И даже письменные заявления писать, что если меня контроль где-то высадит, то МПС не несёт ответственности и стоимость билета мне не компенсирует.
Обычно стоишь в очереди на посадку, молишься Николаю Чудотворцу... Сейчас-то меньше переживаю, наверное, «мозоль» какая-то наросла, а раньше задолго до поезда начинало под ложечкой сосать: «Получится или нет?» Как-то раз ехала к маме транзитом через один городок, и вот состав уже на путях стоит, а я всё у окошечка кассы уговариваю... И ведь на автобусе оттуда было не уехать, междугородных рейсов-то нет. Тут вся очередь к уговорам подключилась, кое-как убедили. А вот на Украину вообще не выехать. Одна сестра из нашей общины поехала к родственникам, так ей сказали: «Мы с территории России вас по этому паспорту выпустим, но там вас не примут на таможне, обратно завернут». Хотя недавно ей каким-то чудом удалось съездить туда на похороны. Люди хорошие есть везде.
Слушал я этот рассказ и думал про себя: «Стоит ли так жизнь себе ломать из-за каких-то магнитных полосок в паспорте?» И вот сейчас, когда паспорт обещают сделать вообще электронным, разумно ли будет пойти против течения?
Ведь есть и такие мнения. Игумен Пётр (Мещеринов) не так давно заявил: «Электронные документы не наркотик, не излучение, парализующее волю человека. Электричество может дать сбой, а волю христианина, по слову апостола, поколебать не способно ничто: ни Ангелы, ни Власти, ни жизнь, ни смерть, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе...»
Батюшка пошёл дальше, даже указал на «положительный фактор»: «В современном электронном мире жизнь человека становится совершенно прозрачной. Но что с того для христианина? Если я стараюсь жить чисто, стараюсь исполнять Божьи заповеди, то меня не должно волновать, где, у кого мои данные. Вот я, весь открыт, прозрачен, – я христианин. И потому не промыслительно ли это? Бог, видя нашу немощь, слабость, даёт нам эту подпорку: вы сами не можете управить свою жизнь по-христиански? Ну вот вам прозрачность; может, хоть людей постыдитесь. Слишком прислонились к государству? Вот вам государство до предела. Не получается у вас созидать подлинные общины, в свободе и любви Христовой? Вот вам антиобщина, с тоталитарным контролем... Полная прозрачность мира делает выбор воли отчётливо ясным. Поэтому, на мой взгляд, с богословской точки зрения это помощь Божия христианам».
В чём-то с ним солидарен протодиакон Андрей Кураев: «Да, электронные документы – это такое средство контроля над жизнью каждого человека, которое не снилось никаким тиранам прошлых столетий, в том числе и XX. Поэтому проблема есть. Это проблема социально-политическая. Но не надо думать, что у этой проблемы есть такое прямое духовное приложение... Если за мною следят, грешит тот, кто следит, но не тот, за кем следят».
Кому-то может показаться странным, но официальные представители Московской Патриархии, которых иногда обвиняют в излишнем сотрудничестве с государством, на это дело смотрят жёстче. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин предупреждает:
«Когда о человеке знают практически всё, такому человеку очень легко ставить условия, в том числе и условия мировоззренческие, условия, связанные с его религиозным выбором. Мы помним, как боялись люди в Советском Союзе... В условиях, когда контроль был вовсе не тотальным и вовсе не абсолютным, большинство с лёгкостью подчинялось этому контролю, не допуская даже тени высказываний и действий, которые могли идти вразрез с действующей идеологией.
Когда о человеке будут знать всё и человек будет знать, что о нём знают всё, такое психологическое давление со стороны национальных или мировых центров власти окажется гораздо более серьёзным. Если в обмен на подтверждение лояльности у человека будут требовать верности той или иной идеологии, человек в большинстве случаев подчинится.
Сегодня возникают попытки ввести в корпус права или в корпус обязательных политических постулатов идеи, зеркально противоположные христианству, идеи, не совместимые с христианской верой и христианским образом жизни. Чего стоит одно преследование митрополита Черногорского Амфилохия за то, что он позволил себе публично выразить христианский взгляд на гомосексуализм. Сейчас от этого иерарха, одного из самых уважаемых людей в Сербской Православной Церкви, требуют, чтобы он отказался от своих слов, принёс извинения гомосексуалистам, и это подаётся как законный шаг государства. Возможно, такой закон вскоре потребует христиан отказаться и от утверждения истинности их веры.
Многие не согласятся пойти на это исповедничество, не смогут сохранить свою свободу. Героев, подвижников духа среди людей очень немного. И поэтому очень важно сохранить для любого человека, сильного или слабого духом, свободу иметь свои убеждения».
Отец Всеволод указывает и на истинные интересы самого государства: «Как известно, один из лучших способов защиты информации – это её децентрализация, это стремление не складывать все яйца в одну корзину. Между прочим, уважающие и ценящие свою безопасность страны, такие как Великобритания и Германия, отказались от создания единой базы данных и единой карты. Думаю, что их опыт стоит внимательно изучить и в России». Как минимум российские власти должны предложить своим налогоплательщикам альтернативу – добровольный выбор и возможность нормально жить без электронного учёта.
То есть такие, как Фотиния, не должны существовать на положении рабов, лишённых самых элементарных человеческих прав.
Что будет дальше?
Между тем закон об электронном паспорте принят. Вводить его собираются уже скоро, в 2015 году. Одновременно с этим «советский паспорт утратит свою силу». Когда это прочитал, то удивился: а разве он ещё действует? И сразу вспомнил о давней своей знакомой. Где она теперь?
Вот уже несколько лет, как Фотиния по благословению уехала в другой город и утратила связь с прежней общиной. Будучи в этом городке, я созвонился с ней и договорился о встрече.
Годы почти не изменили молодую женщину. Всё такая же светлая и бодрая, подкупающая своей чистой, христианской искренностью. Как человек весьма образованный, с отличным дипломом и большим опытом работы, она смогла устроиться на высокооплачиваемую работу. Но современный паспорт так и не приняла.
– А как же зарплату получаете и на пенсию откладываете? – удивляюсь я.
– Современные бухгалтерские программы предусматривают выбор документа, там в меню есть строчка «паспорт СССР», – объяснила она. – И в налоговые формы отчётности старый номер паспорта, хоть он и не совпадает по количеству цифр с новым, всё равно нормально встаёт – налоговая их принимает. А пенсия идёт по номеру СНИЛС, который мне присвоили автоматом, как и ИНН тоже. Воли моей в этом не было...
– То есть жизнь у вас наладилась?
– Да как сказать... Прописки нет, замуж не выйти, ребёнка не родить. И болеть не могу, потому что частных клиник в нашем городке нет. Можно бы и на права сдать, машину купить в кредит – очень она нужна мне по работе. Но без паспорта это невозможно. Говорят, с 2014 года даже для проезда на автобусе, на междугородных рейсах, будут требовать паспортные данные. С чем это связано, не знаю. А ещё у меня мечта в Иерусалим попасть – был бы паспорт, то первым делом поехала бы туда, на Святую Землю.
Недавно маме сказала, что придётся, наверное, паспорт всё же менять, ведь надо что-то делать с квартирой, ипотеку брать или ещё что. Мама так обрадовалась! Но в какой-то момент я остановилась – начался Великий пост, слава Богу. После Пасхи будет видно, что дальше делать. А когда вы позвонили, попросили о встрече, то вот, думаю, тоже неслучайно...
– Но бороться-то с этим электронным контролем всё равно нужно. Свои взгляды вы ведь не изменили?
– Конечно, нужно! Каждый человек имеет право быть свободным и сознавать, что в его личную жизнь никто не лезет. «Уплати налоги и спи спокойно» – так ведь государство говорит? Но мы всё выплачиваем, законы все выполняем. Что им ещё надо? А народ продолжают пугать, по телевизору постоянно ужасы показывают, как детей крадут и насилуют. Мол, без тотального контроля наших детей не спасти, насильников и террористов не выловить. И люди в это верят, готовы подчиниться этому контролю.
– Но какой-то надзор, в разумных рамках, ведь должен быть?
– А кто эти рамки поставит? Сами люди вряд ли разберутся, в каком месте сказать «нет», «я не пущу вас в свою жизнь». Тут можно спастись, лишь когда есть духовник, всё это понимающий, когда есть общинная жизнь. Вот, держась за это, за общую Чашу Причастия, только тогда и можно устоять от соблазнов комфорта и удобств. Ведь тотальный контроль доставляет удобства не только надзирателям, но и поднадзорным. Это как в благоустроенной тюрьме – всё за тебя продумают и сделают. Одному устоять против этого невозможно. Это надо быть древним пустынножителем или Марией Египетской, которую Господь просветил, и ей было всё равно, что вокруг неё – львы, гусеницы, змеи. Она знала, что делает. Но кто из нас похож на Марию Египетскую? У нас будет так: раз я принял это, то могу принять и то, и другое. Чёткой границы нет, мы просто становимся частью этой системы, поэтому в нужный момент не сможем увидеть ситуацию со стороны – что на самом деле происходит.
– Наверное, людям это надо объяснять?
– Сейчас я только с батюшкой на исповеди об этом говорю. А с регентом, с девчонками, с которыми подружилась в новой своей общине, вообще не общаюсь на эту тему. Что я им скажу? Что такая умная и отличаюсь от всех? Что раз у меня нет паспорта, то я такая святая? Но это же не так. Вот смотрю я на людей «с паспортами» – они же духовней меня и умней, иногда просто поражаешься мудрости наших православных. Живя и причащаясь из одной Чаши с ними, я вижу, что они спасаются. А кто я, со старым паспортом и со своими грехами за плечами?
Что я могу им предложить? За эти два десятилетия у меня уже дети должны были вырасти, муж, квартира... а ничего этого нет. Хотя, конечно, ни о чём я не жалею, всё по Божьей воле.
– С детьми тоже проблема, – вдруг вспомнилось мне. – У моего друга дочка ЕГЭ скоро будет сдавать, так он воюет, чтобы её имя в базу данных не вносили.
– В той нашей общине этот вопрос просто решали – из 9-го класса переводили детей в техникум или училище. Туда без ЕГЭ поступить можно, и паспорт там особо-то не требуют, достаточно свидетельства о рождении.
Знаете, во всех этих уловках есть какая-то неправда. Это я на своей шкуре познала. Когда ты живёшь без документов, «вне государства», то всё равно тебя кто-то «крышует». У нас в общине ведь были люди, которые приняли ИНН, и через них многие житейские проблемы решались. Или вот сейчас за счёт кого я живу? Глава фирмы защищает, главный бухгалтер за меня расписывается, и квартира, где я живу, по документам другому человеку принадлежит. Даже вот мой сотовый телефон – симка на фамилию подруги куплена. У меня-то «чистая» фамилия, меня нет нигде в электронных базах, а подруге-то что, жалко? – всё равно же она «засвечена». Такое вот лукавство получается. Уж если отделяться от государства по-настоящему, то надо уходить в лес на натуральное хозяйство, на грибы и ягоды. Но даже там без «крышевания» не выжить. Грибами сыт не будешь, кто-то должен привозить продукты «оттуда», зарабатывать деньги на это.
Всё очень сложно... Вот мне звонят друзья из Пушкино, которые приняли документы, и в общине их отвергли. Тяжело им. Некоторые разбежались по конфессиям – одни к одним примкнули, другие к другому катакомбному течению, третьему. И все эти течения не признают друг друга. И так горько от всего этого. Я не знаю, как меня там сейчас поминают. Сильно не задумываюсь, но снятся они мне часто. Живу и живу, не знаю, как будет дальше. Одно знаю: на всё была Божья воля. Я ведь ничего не ломала, не крушила, так уж вышло, что оказалась в другом городе.
– Как думаете, что будет дальше?
– Россия настолько насыщена молитвой угодников Божьих, как ни одна страна. И если мы не станем бороться с глобализацией, то и никто другой не станет. А каким образом это сделать... Я не политик, а простой человек, что могу сказать? Раз об этой проблеме заговорили иерархи наши на Соборе, значит, что-то должно меняться. У них молитва сильная, и Благодатный огонь каждый год на Святой Земле сходит, и мы сейчас в конце поста ждём этого – значит, мы живы, значит, православие есть и путь к спасению открыт. А если что-то будет реальное предприниматься в плане решения проблемы с электронным контролем, то я поучаствую, в стороне не останусь.
Михаил СИЗОВ
http://rusvera.mrezha.ru/682/3.htm
|
Пасхальные яйца. Идеи оформления |
Это цитата сообщения lorine [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
|
Евгения Белякова: "Осторожно, психолог!" |
Это цитата сообщения Julia_Ma [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
http://www.felicidad.ru/2011/12/blog-post.html?mid=5414560
Евгения Белякова: "Осторожно, психолог!"
***
|
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ |
Игумен Игнатий (Бакаев)
Слава Богу, хорошо прожили начало Великого поста. Утихла боль в мышцах от поклонов, при которых многократно просили молитвой Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Приходит стойкое понимание, от каких духов мы должны оградиться с помощью Божией и каких духов и даров попросить у их Подателя.
Постимся, молимся, между службами хожу на лыжах, колю дрова – стараюсь по полтора-два часа быть на свежем воздухе. Вечером с монахиней Марией читаем Псалтырь (остальные братья и сёстры прочитывают кафизмы по домам), с поминанием: полторы тысячи имён о здравии и примерно столько же за упокой. От такой правильной, размеренной жизни душа наполняется радостью и благодарностью к Богу, ликует: «Слава Богу за всё!» Снижается артериальное давление, пульс, сахар и, конечно, вес. Понимаешь, что грешил, ел не по потребности, а по велению «любезного для всех и лукавого владыки, чрева», рабом которого действительно являюсь. Господи, прости, спаси и сохрани от этого рабства! И Господь явно помогает, пятнадцать дней живу в радостном воздержании, хорошо бы так прожить до конца земных дней своих.
Заехала повидаться монахиня, которую очень уважаю, люблю, дорожу её мнением. Стал говорить, как мне радостно жить, что у нас достаток. Есть два храма, книги, батюшки, прихожане. Вижу, мрачнеет: «Батюшка, но ведь это неправильно, нужно, чтобы не тебе было хорошо, а людям вокруг тебя». Я начал упорствовать: «Если мне будет плохо, то и людям вокруг меня не будет от этого хорошо». Это как любовь. Она тоже начинается с себя. Матушка запротестовала: «Что ты говоришь, нужно любить Бога!» «Матушка, – отвечаю, – если я не люблю себя, нерадостен, то как я могу полюбить ближнего и Бога?» Она попрощалась и уехала.
После её отъезда я несколько дней размышлял, как вдруг мне позвонил старый знакомый, близкий человек, попросил о встрече. Я за него молюсь каждый день, утром и вечером. Он впадает иногда в ужасную депрессию, страдает ею много лет. Иногда даже просит, чтобы я помолился и Господь его забрал к Себе. Разговор очень тяжёлый, я с трудом поддерживаю беседу. Говорю: «Ты не умирай, когда плохо, всё пройдёт, только причину нужно найти, почему тебе плохо». Стал приводить примеры. Он ответил, что слышал это не раз, и попросил вызвать такси. Я сам отвёз в город, чтобы по пути поговорить.
Ночью плохо спал, хотелось понять, что с этим человеком происходит, поставить диагноз. Проснулся в начале четвёртого, сел на кровать и подумал с горечью: «синдром, синдром... одинокого полена». Он просто очень одинок, хотя есть семья, дети, внуки. А полено тут при том, что даже в печи одно не горит. Он не чувствует себя частичкой целого. Пришёл на ум Березовский: он тоже был одиноким поленом, хотя имел все блага, которые можно купить за деньги. На следующий день на коленях помолился; надо этого человека исцелить от одиночества. Он позвонил, согласился, наконец, приехать пособороваться вместе с другом – прежде отказывался, мол, что толку. А на следующий день они причастились. После службы за трапезой передо мной сидели сияющие, радостные люди, среди них тот близкий мне человек, что ещё недавно мечтал о смерти. Вдруг произносит: «Давно мне не было так хорошо!» И ко мне вернулась радость.
На неделе зашёл в магазин. В это время позвонил дорогой наш прихожанин Георгий: «Батюшка, ты можешь говорить?» Отвечаю: «Я могу слушать, говорить мне трудно, вокруг люди». – «Знаете, в Интернете прочитал, что отец Дмитрий Смирнов обратился в Госдуму с предложением, чтобы в школе преподавали предмет о смысле жизни». У меня ноги подкосились от волнения. Вот это главное, что может изменить нашу страну в лучшую, нормальную сторону. Даже если один процент людей будет знать, зачем живёт, они повернут страну к Богу. А Георгий продолжает: «Батюшка, я вот думаю: а как школа без этого предмета может вообще существовать?»
А в чём смысл жизни? Спрашивает меня знакомый, которому тяжко на душе, нет ли знакомого старца, который бы разрешил все его проблемы. Я пытался объяснить, что нет на свете старца, у которого Бог в послушании, на побегушках. Меняться нужно самому. Это так просто, и в то же время нет понимания этого. Все эти революционеры, выходящие на митинги, – их можно понять, у них нехорошо на душе, дискомфортно, они верят, что, если изменить мир, им станет лучше. Это, конечно, наивно, я сам через это прошёл, пребывал в мятежном, беспокойном состоянии, натыкаясь на превосходящие силы противника. Потом понял, что Бог этот мир почему-то терпит, а мои планы переустройства сводятся к переливанию из пустого в порожнее, при этом на сердце легче не станет. Никому не станет.
Чему нужно учить на уроках о смысле жизни? Предвижу крики: «Опять попы лезут в школу!» Нет, это не так. На этих уроках я предлагаю человеку просто поразмышлять, ради чего он живёт, что такое совесть, научить думать о таких вещах, мимо которых он сейчас на пути ЕГЭ пробегает, не оборачиваясь. Одноклассница недавно говорит мне: «Саша, ты же с высшим образованием! Неужели ты веришь во всю эту чушь – загробную жизнь и прочее?» Стала загораться. «Ты знаешь, – говорю, – сегодня на службе было человек сто пятьдесят. Из них треть причастилась. Они оставили свои дела, приехали в храм, потеряли около четырёх часов времени. Чем-то пожертвовали. И что? Они глупее тебя? С высшим образованием там, кстати, добрая половина. Смотрю по телевизору про Байконур, где я служил когда-то, отец Сергий освящал там космический корабль. Ни один космонавт сегодня не улетает в космос, не исповедавшись и не причастившись. Ты думаешь, они тоже темнота? Это как к академику Павлову, который сидел перед храмом – ждал, когда откроют, – подошли матросы и предложили: "Пойдём с нами, темнота"».
Человек, который ищет смысл жизни, вряд ли предпочтёт пойти на дискотеку вместо храма, не выберет героин вместо Тела Христова. Все беды наши в том, что двадцать лет назад объявила дьявольская инженерия: нет смысла, всё пустое, живи для себя. Не получилось. Люди начали умирать миллионами, вместо того чтобы жить. Нельзя без смысла.
Игумен Игнатий (Бакаев)
http://rusvera.mrezha.ru/681/11.htm
|
ТАЙНА СТАРОГО САДА (Полтавское чудо) |

Прошлой весной в одном селе близ Полтавы случилось чудо. На спиле ветви старой груши и на самом стволе дерева в продолжение нескольких часов как бы проявился образ Пресвятой Богородицы. Весть о случившемся в считанные дни облетела все окрестные сёла и города. А вскоре узнали о чудесном явлении не только на Украине, но и в России. День за днём сюда шли и ехали сотни и сотни людей. В самые знойные дни июля я гостила в Краснограде, небольшом городке районного значения по соседству с Полтавской областью. Меньше двух часов езды от того самого сада. Как-то в одночасье собрались, рано утром – ещё до жары – брат вывел из гаража машину, и отправились мы в Машевский район Полтавщины, где всё и произошло.
Когда подъехали, у груши шёл водосвятный молебен. Священник произносил возгласы, паломники благоговейно крестились, а после окропления святой водой протянулась длинная очередь к новоявленному образу. Люди молились – каждый о своём, благоговейно прикладывались, припадали к стволу старой груши, которую избрала Себе престолом в этом месте Пресвятая Богородица. Быть может, прежние хозяева дома отличались особой набожностью, и кто-то из предков, уже переселившись во обители небесные, взывал о милости Божией к этой земле, к людям, которые на ней живут.
Солнце ещё до обеда стало припекать, и было не просто жарко – душно. Но, казалось, никто не спешил. Все двигались, как в замедленном кино. Никому не хотелось вот так сразу покинуть столь благодатное место. Набирали святую воду, снова и снова подходили поближе к той самой груше, тянулись, чтобы хотя бы через чьё-то плечо ещё раз увидеть новоявленное чудо.
С волнением подошли и мы. Да! Действительно, на свежем спиле ствола груши был отчётливо виден не только силуэт Богородицы, но и Богомладенец на руках. Всё читалось в никем не написанных линиях и, конечно, вызывало изумление. Повергало людей в трепет. Был среди нас художник. Подошёл, внимательно вгляделся в «рисунок» и недоумённо застыл, невольно комментируя увиденное: да, это не человеком сделано.
…Одни приезжали, другие уезжали, а мы с братом и его семья не спеша обошли святое место, спустились к ивам плакучим на берегу пруда – а сад тянулся почти до воды, – запоминая живописное место посреди невысоких холмов, полей, садов, украинских хат. И всё время не давал покоя вопрос: почему это случилось здесь, в глухом безвестном селе? Почему именно сюда едут теперь со всей Украины? И что всё это значит? Благочестивые христиане считали и считают, что чудо – всегда призыв или предупреждение. Тому есть множество подтверждений в истории Православной Церкви.
Уже на следующий день я была в красноградской Благовещенской церкви. Беседовала с настоятелем протоиереем Николаем.
– Батюшка, мы вчера видели святыню: на срезе груши – образ Пресвятой Богородицы. Конечно, это тайна, и нам не дано её разгадать. Но всё же: как вы полагаете, это какой-то призыв или, может быть, предостережение?
– Это явление особенное. Там уже побывали тысячи людей. Там постоянно служатся молебны. Читаются молитвы, люди прикладываются. Многие люди получили исцеления, и тому уже есть свидетельства. Несомненно – это явление Божие. Думаю, что Господь хочет нашего пробуждения. Потому что язычество и неверие процветают в жизни людей. Я думаю, такие явления даются Богом, чтобы призвать тех, которые сегодня остаются вне Церкви. Сегодня, к сожалению, не слышен для них голос Церкви и пастырей. И неизвестно, кто и что может пробудить их для того, чтобы они изменили свою жизнь. Как к ним достучаться? Может, это поможет людям понять их предназначение на этой земле и прийти к Богу. Может, только таким чудесным образом хоть какая-то душа проснётся. Неверие – оно разделяет нас с Богом и лишает Божьего благословения.
– Вот я родом из Полтавской области. И знаю, что там на весь район Карловский оставалась одна церковь. Похожая ситуация была повсюду. Почему так случилось? Во время войны всё сожжено было или раньше?
– Очень непростой был период для Церкви. За веру и в тюрьмы отправляли, и испытаниям многим подвергали. Потому всё было стёрто, всё было взорвано.
– При советской власти?
– В Краснограде было три храма. А не осталось ни одного. И так было в каждом районе. Мы собрали сведения. Здесь ведь раньше тоже была Полтавская губерния (город тогда назывался Константиноградом). В каждом селе были церкви. Ни один из них не сохранился. Если и есть, то новые. В нашем районе остался только один старинный храм – в селе Берестовенька. Такая волна прокатилась неверия и сатанинской злобы. Мы знаем, что на Украине многие епископы и священники были осуждены именно за то, что пытались защитить храмы, пытались сохранить общину. Так произошло и в Полтавской области, где атеистический режим был усиленный. В других городах сохранились хотя бы старинные церкви, а в Полтаве остался только один собор, да ещё один храмик.
– Сейчас всё поднимается достаточно быстро, бурно строятся храмы…
– Лет 20 назад я пришёл сюда после Московской семинарии. А храм мы построили за четыре года – в 94-м. Храм построить было нелегко. Но самое трудное – души человеческие воссоздать, чтобы они начали жить согласно заповедям Божьим. Сегодня строится много храмов. Но самое важное – обрести себя в Церкви Вселенской, чтобы мы были не только формальными прихожанами и крещёными, чтобы мы были народом Божьим, чтобы это было нашей жизнью, чтобы наши поступки и наши дела говорили о том, что мы – Христовы, что мы – Божьи, что мы живём по Божьему закону.
Время сейчас благодатное. Казалось бы, человек, обратись, начни жить по-Божьему – и ты будешь действительно счастлив. У тебя есть всё: земля прекрасная, плодородная, работа на земле есть. Живи только по-Божьему. И Господь будет вести тебя по жизни, будет помогать тебе в твоих трудах, получишь Божье благословение. Беда в другом. Вот у нас, например, эти раздоры, междоусобицы. Это дух, присущий нашему времени. Мы забыли, для чего мы живём, что нужно делать на этой земле.
– То есть между украинской церковью, которая считает себя «самостийной», и другими Церквами отношения по-прежнему не мирные?
– И государство, и Церкви некоторые пытаются разрушить мир. Возникают расколы, разделения. И мы знаем, кто начальник этого всего – отец лжи. Это и сегодня разрушает, людей ставит по разные стороны, чтобы они между собой имели вражду.
– В вашей общине есть и воскресная школа, и своё производство небольшое: вышивание икон, пошив облачений, изготовление предметов церковного обихода…
– Конечно, духовная жизнь – это прежде всего. Надо начинать не с производства. Это уже как дополнение, помощь храму. Да, это нужно было, чтобы свой храм благоустроить, обшить себя. Потом начали делать для других. Потому что рядом строились храмы. Так зародилась наша мастерская. Здесь сегодня изготавливают уже такие изделия, которые имеют художественное значение… Надеемся, что они послужат Церкви Христовой. В нашем приходе есть люди, которые стараются проявлять себя как христиане добрые. Навещают больных, ухаживают за ними. Часто причащаем в больнице. Есть воскресная школа.
– По вашим ощущениям, больше стало верующих? Или больше номинально верующих, окрещённых, но не воцерковлённых?
– Вы знаете, в храмах стало больше прихожан. Но я всё-таки замечаю, что процветает у нас какой-то внутренний эгоизм. Особенно среди молодёжи. Нет той жертвенной любви, которую бы хотелось видеть даже по отношению к родителям, к старым людям. Культивируется совсем другой образ жизни, где во главе всего стоит «я». Это очень страшно. Это завтрашний день, который не будет радостным, если каждый будет носиться только со своим «я». Мир тот прекрасен, где люди живут для других, а не для себя. Дай, Господи, чтобы мы устояли в вере, научились жить, научились любить друг друга. Как сказал один старец, пока будут дети в храме, будет стоять мир. Если ребёнок причащается с детства, значит, с ним будет прибывать Божья милость, Божья благодать. И надеемся, что Господь поведёт его по жизни. Здесь многое, конечно, зависит от родителей – чему они научат его, какой образ жизни привьют. Ребёнок всё впитывает. Когда он соприкасается с грязью мира сего и нет рядом того, кто бы поддержал, ему очень трудно устоять.
– Как на Украине относятся к России? В СМИ утверждают порой, что – враждебно. Так начинают думать и некоторые россияне.
– Уверен, что всё это надуманно. Никакими способами нас нельзя разъединить. Потому что мы – один народ. Навязывается такое мнение, что якобы враждебность исходит от людей. Нет. Люди готовы сегодня обняться. На Украине любят Россию, потому что видят в ней какой-то оплот православия. Мы же братья все, мы же христиане. Как мы можем объединяться с кем-то другим, с совершенно другой культурой, с другой верой? Невозможно это. Я много встречаюсь с людьми. Все настроены очень доброжелательно к России. Нам надлежит быть всем вместе в единении духовном. Да мы и по крови едины.
вышли мы с батюшкой из церковного домика, а навстречу нам священник идёт. Оказалось, гость – иеромонах Николай (Романов) из Свято-Введенского монастыря города Иваново. Зашли мы с ним в книжную лавку и разговорились.
– Я ездил в Киево-Печерскую лавру, – рассказал он. – Побыл там, как будто на небе Божьем. Ей-богу! Сейчас направляюсь в Москву. Сколько я ни ездил в электричках, сколько ни был в церквях – что в Киеве, что на Львовщине, – ко мне никто не относился грубо. И вот добрался до вашего храма. На Украине враждебности нет. А то, что раскольные церкви, – просто здесь появился самозванец, называющий себя патриархом всея Украины. Не боятся ни Бога, никого. Что поделать, такое случалось в истории не только Украины. Будем уповать, что Господь вернёт на эту землю мир. И тому, что Он стремится помочь нам, свидетельством – вот эта удивительная груша, выросшая в саду…
Татьяна ХОЛОДИЛОВА
(2009г)
http://rusvera.mrezha.ru/596/13.htm
Серия сообщений "О ЧУДЕСАХ":
Часть 1 - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
Часть 2 - Три христианские святыни содержат следы одной группы крови
...
Часть 25 - ПУТЬ К ПРЕПОДОБНОМУ
Часть 26 - АНГЕЛЬСКИЙ ЧИН
Часть 27 - ТАЙНА СТАРОГО САДА (Полтавское чудо)
Часть 28 - СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа
Часть 29 - ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ!
Часть 30 - Печать дракона
|
|
НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОГО ГРАДА |

В начале нынешнего года совсем нежданно для себя обрёл я друга. Неизвестный мне человек написал письмо из Москвы и тепло благодарил за публикации в «Вере» об отце Сергии Колчееве (†2003). Первый раз мы упоминали о нём ещё в 1992 году в очерке Над пепелищем (в №59), затем с разрешения батюшки печатали часть переписки с ним (в №№ 72-73), и потом неоднократно имя этого замечательного священника и просто человека появлялось на страницах «Веры», большей частью уже после его смерти.
Лично для меня его уход был неожиданным ударом. Уж сколько лет прошло, а всё корю себя, что откладывал поездку в Никольск, хотя батюшка не раз приглашал. В начале 90-х переписка с ним многое мне дала для понимания жизни, так и звучат его слова: «В Царство Небесное можно войти только ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, пойми это, дорогой брат. Некогда грустить, тосковать, уставать...»
Но вживую так с ним и не встретился. И вдруг приходит письмо от его давнего друга, Данилы Кольцова, – словно через него сам батюшка напомнил о себе.
С радостью узнаю от Данилы, что людей, для которых отец Сергий ещё жив, очень много и в Москве, и у нас на Русском Севере. В Кич-Городке – отец Сергий Щепелин. В Никольске – отец Александр (Мелков). Директор Никольского музея Т. Шиловская была членом последнего приходского совета в Никольске, и музей регулярно проводит мероприятия в память о батюшке. В нынешнем году организовали выставку и вечер памяти. Вышел спецвыпуск местной газеты, посвящённый отцу Сергию. Снят даже фильм о нём, и много воспоминаний собрано на сайте Воломской пустыни (www.volomy.ru).
Поделился с Данилой этим своим радостным удивлением: вот ведь, батюшка остался с нами! Данила ответил: «Для меня всё не закончилось. Я вижусь и дружу с мамой отца Сергия, она крёстная моей дочки, а отец Сергий крёстный. Для меня во многом всё только начинается...» И ещё Данила пообещал написать, каким он был, отец Сергий. И вот недавно пришло ещё одно письмо, которое мы и публикуем.
Михаил Сизов
Всем друзьям
отца Сергия
Колчеева посвящаю
Здравствуй, Михаил. Прошло несколько месяцев, прежде чем я решился написать тебе про батюшку. Не знаю почему. Надо было подумать. И надо было, чтобы письмо моё было не без пользы, небезрадостное.
Батюшка Сергий – какой он был? Время идёт, и какие-то вопросы проступают вперёд, а какие-то исчезают, затушёвываются. Наверное, тебе интересно, какой он был в институте, до священства? Он был разный. Я бы так сказал: он был спокойный, ровный, ясный и необыкновенно, несоразмерно одарённый. В 1988 году, при почти 11-летней разнице в возрасте, на этюдах, на институтской практике в Кашине, мы стали общаться и чем-то стали интересны друг другу. Он был очень глубок в своих мыслях, но излагал всё всегда так просто, лаконично, часто с шуткой, что всё воспринималось как само собой разумеющееся. Но ничего не бывает в жизни само собой...
С картины о.Сергия Колчеева
Признаюсь тебе: когда Сергей Колчеев уехал из Москвы в глухую вологодскую деревню, я не понял, почему он это сделал. Перед ним было много блестящих путей. В 1978 году он закончил международное отделение факультета журналистики МГУ и мог стать журналистом-международником. Потом служил в танковых войсках, и неплохо служил. Решив стать художником (а он был незаурядным пейзажистом), поступил на художественно-постановочный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, с отличием закончил его в 1988 году. А спустя год уехал в деревеньку Кожаево под Никольском. Там стал помогать иеромонаху Ефрему совершать богослужения в простой избе, в окрестностях-то на 200 километров не было ни одной церкви. Тогда же началась и борьба за передачу церковной общине храма иконы Казанской Богоматери в Никольске. В декабре 90-го его рукоположили в диаконы, а в марте 91-го – во священника. Так всё быстро случилось. Сергей выбрал свой путь и пошёл так прямо – не сворачивая к обочине, чтобы просто отдохнуть.
* * *
Начало 90-х. Первый поход в заросшую лесом деревню Воломы, где осталась цела лишь церковь над мощами преподобного Симона Воломского.jpg
Август 2009-го. И листья зелёные. И окно в автобусе запотело, и идёт дождь, серый августовский день – шесть с половиной лет прошло. Он ушёл. Он ушёл в светлой комнате в московском доме своих родителей, в своей комнате. Так вот вдруг вернулся в Москву... В 90-е, сильно тревожась за здоровье сына, его папа пытался перевести о. Сергия в Москву, и повод был – «по уходу за родителями». Но это не состоялось. Ещё один раз он мог вернуться в столицу, когда за послушание его направили на дневное отделение в Духовную академию. Но и это не состоялось... И вот, вглядываясь мысленно в эти прекрасные и непонятные лица его никольских прихожан, заплаканные, чистые, в лица его друзей, я думаю: почему он отдал себя ради них? Почему он посеял себя там? Почему он хотел и упокоиться там, у стены никольского Казанского храма, что, как в раю, окружён сейчас цветами?
Там растут и посаженные им деревья, что он привёз из Измайлово. Он ведь правнук юсуповского лесничего, работавшего в тех местах. Что такое было в далёком городе святителя Николая, что он решил выстоять там до конца? Ведь он уже предзнал, что ему скоро уходить. Почему же он не пытался снять с себя это бремя? Это скрыто от нас. «Батюшка, а вы надолго уезжаете в больницу?» «Да так, недельки на две». Но из этой больницы батюшка Сергий уже никогда не вернётся. Он никогда не вернётся в Никольск, потому что он уходит. Уходит в Вологде, уходит в онкоцентре на Каширской в Москве, уходит дома у родителей, и семь священников, возглавляемых батюшкой Антонием Серовым, молятся о нём, соборуют его, и батюшка Сергий сидит изнемогающий на стульчике.
Мне приходилось слышать, что в последний год батюшка изменился, закрылся. Не знаю, я такого не помню. Возможно, тут действует неправильное восприятие, ведь диагноз батюшке поставили всего за полтора месяца до его ухода, но болезнь началась, конечно же, много раньше. Как может общаться человек, которого через месяц не станет?
И вот он лежит на диванчике в своей комнате и смотрит в окно. Наступает зима 2003 года, проходит Рождество, Крещенье. Настаёт день митрополита Филиппа, святителя Московского. Батюшку снова не могут забрать в больницу, потому что ему очень больно. Саша Фролов заходит к нему, трогает лоб, поправляет одеяло. Подвозит папу до поликлиники. Папа возвращается из поликлиники, а батюшки уже нет.
Там, куда он смотрел в окно, посреди зелени сейчас золотою свечой загорелась маковка возводящегося храма преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской. Это настоящее чудо. Батюшка уже где-то и далёко, и близко. Для меня это чудо, для меня это всё полно глубокого смысла – и его уход в день святителя Филиппа, и храм, возникший в том месте, куда смотрел этот замечательный человек. Когда я вспоминаю отца Сергия, он всегда радостен, он улыбается.
* * *
Батюшка в Воломском храме. Впереди – большие труды
«5 февраля 2001 г. на станции “Белорусская-кольцевая” метрополитена Москвы сработало находившееся под скамейкой вблизи перехода на станцию “Белорусская-радиальная” взрывное устройство».
5 февраля 2001 года мы встречались с ним на метро «Белорусской-радиальной», а потом поехали куда-то. А позже на кольцевой «Белорусской» был взрыв. Об этом сообщили, кажется, по телевидению. Родители его ужасно испугались, они знали, что мы встречаемся на «Белорусской», и звонили моим домашним. Мои тоже очень напугались. А потом мы с о. Сергием приехали к нам в гости, услышали всё это, и он звонил, успокаивал своих. Они ведь родители. Для них он был их мальчик, для них он был дитя. Юрия Владимировича Колчеева уже тоже нет три года, но в самом конце жизни он сделал самое удивительное своё произведение – фильм о сыне. Но это отдельный разговор.
* * *
Мы с ним как-то пошли в книжный магазин «Москва» на Тверской, в букинистический отдел. И я предложил ему купить на выбор книжку Лосева, батюшка его любил читать на досуге. Отец Сергий очень смутился, и когда я стал ему совать самый толстый том, он тихо сказал: «Я его читал». А потом мы пошли в «Кофе-хауз». Там стены желтоватые, и кофиём пахнет, и сухо, и музыка играет, и официант подаёт меню. И мы вошли, он был в чёрном своём пальто, покрытом капельками (дождь, что ль, шёл или снег). Покрасневшее лицо тоже покрыто влагой. Я ему говорю: будем отмечать твой день рождения. Он так смутился, посмотрел на меня, а без очков его взгляд был кроткий, детский такой. И я увидел, что в глазах его стоят слёзы и как бы что-то дрожит, что отвык он от того, что ему делают подарки, что нет больше гонки, трудов, а можно пить кофе и смотреть свою книжку, – вот каким я его запомнил.
* * *
И вот ещё, в начале девяностых или в конце восьмидесятых, не помню, я спросил его, а как так бывает: такое чувство, что ли, когда кажется, что весь мир любишь, и всё хочешь обнять, и все тебе родные. А потом это всё проходит? Он помолчал, а потом сказал тихо: «Это не та любовь, Данилка».
Слышишь, что ль... тебе пишу и другим, кому это надо. «Это не та любовь».
* * *
Когда ещё он не был священником, а я не был верующим, я сказал ему, что мне порою становится мучительно страшно. Он мне сказал так: «Ты знаешь молитву “Отче наш”? Выучи её, и когда тебе будет становиться страшно, читай». Вот так просто. Вот так этот человек открыл мне дорогу в Царство Небесное. Правду говорят о нём: никого он не заставлял, никого он никуда не тащил. Не такой он был. Он был тихий-тихий и смиренный, но не сусальной нереальной смиренностью из книжки, а смиренный вот сейчас, в транспорте, в поликлинике, с начальством, с простыми людьми. Со всеми ровный.
* * *
Он не переживал за политику. Во время ГКЧП 1991 года я был в Никольске. Отец Сергий был весьма спокоен. Он служил литургию на Преображение Господне. Помню его накануне, в огромном тёмном храме, освящённом одинокой лампочкой, готовящимся к исповеди.
Чаще всего я помню его в небесно-голубых, богородичных, облачениях.
Мы гуляем в Измайлово. Всё исхожено им там – каждая тропка, каждая пядь, всё благословлено его бесконечной любовью к этой его малой родине.
Опаздываю к нему на встречу, мчусь через всю Москву на частнике. Много позже договорённого времени подбегаю к огромному Покровскому измайловскому собору. Из величественных дубовых дверей выходит отец Сергий, спокойный, безмятежный, словно и не замечает меня, словно и не удивляется.
Река Серебрянка. Берёзы, солнце. Благословенье. Благословенное Измайлово.
* * *
Почему, вспоминая о нём, люди плачут? А? Почему, скажите мне? Почему задыхаются? Почему их переполняет любовь к ушедшему человеку? Он не был ни особо эмоционален, более того, вообще был чужд всякого рода экзальтации, он был ровен и спокоен. Что же так притягивает их, где кроется тайна?
Конечно, он много сделал. Когда в 1989-м он приехал в Никольск в возрасте 33 года, здесь ничего церковного не было. И сколько он успел! И воскресная школа, и гуманитарная помощь, и детки из вспомогательной школы, и православный лагерь, и выставки, и театральные постановки. А прежде всего: исповедь, причастие, проповедь. Благовествование Слова Божия.
Но это – дела. А за дела ли человека любят? Ведь было что-то ещё...
* * *
Кого из святых он любил, кого особо почитал? Преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Серафима Чичагова, святую благоверную княгиню Анну Кашинскую и, конечно, святителя Николая. «Ты знаешь, я когда возвращаюсь из поездок и жду попутку, всегда молюсь святителю Николаю. И всегда попутка приходит».
* * *
Я помню массу разговоров с ним, и душа моя полна до краёв этим, и хватит на целую жизнь этого счастья. Счастья, что получил я задаром, этот свет задаром. И отец Сергий глядит на меня и улыбается.
* * *
С картины о.Сергия Колчеева
Кто-то скажет: всё это уже прошло, был человек и нет. К чему вспоминать? Это немного наивно. Это у нас-то, в России? Ничего не прошло. Все друзья отца Сергия вокруг нас. Этот свет, который светил в Никольске, эти мальчишки и девчонки, дяденьки и тётеньки, бабушки, его верные помощницы бабушки. Мы, его друзья, какими мы станем? Что мы принесём? Всё это происходит прямо сейчас. Каждый день. Утром и вечером. А что надо-то делать? Батюшка очень часто говорил мне о «едином на потребу», но плохо я понимал, лишь сейчас начинаю разбираться.
Он не боялся, он был очень смелый человек. «Он единственный, кто нас не осудил...» Я думаю, немало людей могут повторить эти слова. Как это так, ты нарушил церковный канон, ты вне, ты пропадаешь. Ты духовно мёртв. Батюшка приезжает, гостит у тебя и мягко зовёт тебя назад. В Святую Церковь. На исповедь, ко причастию. Идём в храм, он исповедует тебя, и ты плачешь так, как не плакал никогда. А потом у тебя снова налаживается жизнь и ты забываешь отца Сергия. А он принимает свои удары, и они уже идут слишком часто, слишком сильно и больно, а он молчит, молчит, ничего не говорит. Он изнемогает. Болезнь разрушает его, он борется. Он делает детский православный лагерь «Югра», никто не знает, что жить ему осталось мало, что его надо серьезно лечить. «Полежал в больничке, отдохнул как в раю», – лечение для него было просто отдыхом, когда можно выспаться.
* * *
Друг, ты сделал самое правильное, самое очевидное – ты поехал туда, ты стал искать людей, которые ему помогали, ты нашёл их (Никольские засеки, №№ 475-479 «Веры»). Ты нашёл его след, ты поехал на его землю. Теперь твоя публикация – это полное свидетельство о том, что было сразу после. Понимаешь, ты не расстраивайся, что ты с ним не встретился лицом к лицу!
Мы виделись с ним в его отпусках. Провожать его на вокзал было традицией. Сумки у него были неподъёмные, чёрные и на молнии, а он их так легко таскал. И вот я опять опоздал – на попутке через Москву, огромная пробка на Садовом, вылезаю, звоню его папе. Батюшка уже уехал на вокзал. Я говорю, что поеду прямо туда. Стою на выходе к Ярославскому, у метро тёмно, люди, люди, люди. И вот он идёт, сосредоточенный, с гигантской сумкой, такой весь внутри-внутри. Ещё в начале 90-х он мне рассказывал об Иисусовой молитве, но забыл я всё. Окрикиваю его, он удивляется, отдаёт мне сумку.
* * *
Сколько раз он исповедовал меня, а я совсем не помню его на этих исповедях. Голос его тихий, спокойный помню, интонацию помню, как он советы даёт. Но его не помню.
Его всегда было мало, как-то он умел быть незаметным. Но был всегда доступным и мог сказать тебе то, что было самым важным в жизни.
* * *
Сейчас на Преображенском кладбище, где он похоронен, я бью три раза в колокол, три раза, потому что перепонки должны гудеть. Бью в колокол рядом с могилами солдат, три раза в память о батюшке Сергии Колчееве, протоиерее Никольском. И вскипает преображенская листва. И листьев горы, миллионы – уступами трепещут, шуршат, и в них ветер. Листва кипит, шумит, шуршит, их тут миллиарды, понимаешь, их тут очень много, этих зелёных листьев. И поднимается ветер – и ветер нельзя остановить, это не наше. И под благосеннолиственным каштаном два больших деревянных креста, потемнее и светлый. Наш батюшка в правой могилке.
Это было в январе, и наш батюшка лёг в снег. А куда восстал? В церкви светило солнце, когда его отпевали, когда отпевали нашего родного батюшку. Тогда ничего нельзя было изменить, его жизнь кончилась. Кончились его страдания. Кончилась его борьба. А мы – сейчас. Мы по эту сторону, что мы будем делать? Что наша судьба?
* * *
И я езжу в Измайлово, и я мечтаю, что это место ещё свяжется вновь с тобою, ушедший мой батюшка. Отец Сергий добро посмеивался над моими идеями и говорил, что это «маниловщина». А я всё думал: «Вот он в Измайлово в огромном соборе, вот он и то, и это, возрождение, книжность, культура». А он мне говорил: «Да, а через реку мост построим и посредине беседку и будем там чай пить». И смеялся.
Минут пятнадцать на 11-м трамвае от стен Преображенского кладбища. Проезжаешь немного, и вот уже весёлый синенький трамвайчик заскользил вдоль границы измайловского парка. И мы поворачиваем, и вот свет уже только справа, и крупно слева листва. И вот лес обступил нас, а сейчас уже проезжаем справа «Парк отдыха». Мы здесь гуляли, мы здесь проходили. А дальше остановка «Главная аллея». И столбы света, и пылинки или пух левитируют снизу вверх, и трамваи, как рыбы или корабли, приплывают, укатываются. Медленно исчезают за линию горизонта, звенят на повороте. Надпись для вагоновожатых: «Листопад». Здесь совсем рядом стоял их родовой дом – дом, в который он так мечтал вернуться.
* * *
Что написать тебе, Михаил, что написать вам, читатели, чтобы ваше сердце встрепенулось, чтобы вы почувствовали этот тихий мягкий свет, что живил, давал жизнь? Эй, все, кто его знал, неужели не слышно меня? Давайте отдадим, давайте вернём. Мы не сможем вернуть ему самому, ему это и не нужно. Вернём людям, кому-то, это ведь так просто. Просто рассказать о нём...
* * *
Я вспоминаю его в старомодном пиджаке, со впервые отпущенной бородкой, после всех, последним исповедовавшегося в Предтеченской церкви Троице-Сергиевой лавры. Он никуда не торопится. Он как будто далеко-далеко. Вспоминаю его радостного, в гостях у батюшки Филадельфа Боголюбова, в его келейке. Ты с благоговением и радостью слушаешь своего авву. В твоей комнате сидим, разговариваем и пьём густой чай из стаканов в металлических подстаканниках. Ты читаешь мне Пушкина – разве это возможно забыть? Гуляем в Измайлово. Ты исповедуешь, ты беседуешь, ты помогаешь, ты всегда помогаешь. Время бежит. И только сейчас я ступил в твои таинственные, огромные измайловские леса.
Не хочу, чтобы это кончалось, хочу, чтобы он жил – в памяти людей. Для кого-то это неважно, наверное, даже нет в моих словах смысла. Но для меня это имеет огромный смысл.
* * *
«Очень сожалею, что не встретился с тобой, да, видно, на то воля Божия».
Жалко мне оканчивать это письмо. Кто такой батюшка Сергий? Тот, к кому тянулось моё сердце, кто молился за меня, кто заступался за меня, кто брал на себя мои грехи, кто делил мои беды и горести, кто всегда и везде был за меня.
Где было сердце отца Сергия? В Никольске, в Дунилово, в измайловских аллеях, у раки преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, на Воломах у преподобного, на Соловках.
Много ли он успел, прожив всего 47 лет? Об этом скажут в том числе по его друзьям. Что-то вошло в мою жизнь так незаметно, как тихий летний луч, да так и осталось в ней навсегда.
Отец Сергий Колчеев. Смеющийся мальчик на ослике, задумчивый старшеклассник, сосредоточенный художник на этюдах в Оптиной, молодой батюшка с бородкой... Старые фото.
* * *
И вот мы идём вдоль белых стен измайловского кремля, и слева деревья, и время остановилось.
И батюшка что-то рассказывает мне, и мы гуляем в Измайлово.
Данила Кольцов
г. Москва
http://rusvera.mrezha.ru/596/14.htm
Серия сообщений "о смерти":
Часть 1 - ДОРОГА НА КЛАДБИЩЕ
Часть 2 - ЖИЗНЬ - ЭТО МИГ...
...
Часть 22 - НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ
Часть 23 - СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Часть 24 - НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОГО ГРАДА
Часть 25 - Печать дракона
|
|
МЕЖДУ НАМИ И НЕБОМ |
В молодости время идёт долго. Как долго тянулись школьные годы! Десять лет казались вечностью. А у студентов всё идёт уже гораздо быстрее. И начало рабочей карьеры – всё это стремительно уже идёт, быстро меняется. Не успел в отпуск пойти, он уже закончился. Этот спидометр начинает крутиться ещё быстрее, когда вы приближаетесь к сорока годам, и ещё быстрее – когда к пятидесяти. И как человек, достигший всё-таки уже весьма почтенного возраста, я могу сказать: вся жизнь воспринимается как миг.
Как всё понять и почувствовать, когда жизнь так быстро течёт?
Я часто вспоминаю жизнь своих родителей. Они родились в начале XX века. Вся их жизнь прошла в советское время: и войны, и ленинградская блокада. Папа с мамой очень любили друг друга. Их жизнь, особенно во время войны, создавала такие колоссальные трудности для этой любви, для этой семьи, что, когда они рассказывали о своей жизни, я воспринимал это как какой-то трагический роман – настолько обстоятельства их жизни были неблагоприятны. Бедность, тяжёлые условия жизни, война, которая разлучила любящие сердца, многие другие обстоятельства, о которых не буду сейчас говорить... Но когда я спрашивал их: “В то трудное время вы были счастливы?” – я слышал удивительный ответ: “Это было самое счастливое время в нашей жизни!”
Ну а у нас бывает так: электричество отключили, лифт встал, холодильник потёк – и всё, и уже никакого счастья. Уже муж с женой начинают ругаться, дети негодуют. Ну а если пойти дальше? Как много у нас несчастий, разводов только потому, что недостаточны внешние условия. Думаешь: “Вот ещё бы одну комнату в квартиру, и уж точно был бы рай на земле, и жили бы прекрасно с мужем. Ну разве можно в таких ужасных условиях жить?” Мы становимся настолько слабыми, отдавая себя во власть таких понятий, как комфорт, внешние условия жизни... Мы становимся хрупкими, внутренне хрупкими и слабыми; внутренний человек становится слабым. А если счастье зависит от внутренней силы человека – а опыт тех же ветеранов войны это показывает, – то может ли внутренне слабый человек быть счастливым? Я однозначно отвечаю на этот вопрос: нет. Только формирование внутреннего человека способно сделать человека счастливым».
Далее Святейший Патриарх подчеркнул: «Самое важное, что есть в человеке, – это способность отличать добро от зла, нравственное чувство. Пока человек отличает добро от зла, он человек. А как только перестаёт отличать – он ничем не отличен от животного...
И здесь я бы хотел перейти к религиозной теме. Нравственность заложена в природе человека. Это так. Но вот что очень важно понимать: религия помогает людям интеллектуально контролировать своё нравственное состояние, потому что внутренний нравственный закон, вложенный Богом в человеческую природу, в религиозных категориях обретает форму человеческого закона: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не осуждай. Это рациональные категории. Нравственный закон в сердце – не рациональная категория. Он опознаётся голосом совести. У одного сильнее совесть, у другого слабее; а религия переводит этот язык совести в совершенно конкретные культурные и рациональные категории, и через эти категории божественный нравственный закон входит в культуру людей, в том числе в право. Всё право основывается на нравственности. Если законы перестают корреспондироваться с нравственной основой, то человечество от этих законов отказывается. Больше того, люди посвящают свою жизнь борьбе против несправедливых законов».
Святейший Патриарх привёл пример такой борьбы, но без веры в Бога: «Проповедь марксизма очень напоминала этические аспекты Евангелия. К примеру, замечательные слова апостола Павла “кто не работает, тот и не ест” были записаны в советской Конституции. Но дело в том, что те, кто в новейшее время предлагал нам бороться за справедливость без Бога, отвергли Того, Кто и наполнял силой голос пророка. Нельзя отвергнуть законодательство и взять его законы, так не получится».
Приведя другие примеры «законов без Законодателя», в том числе из современной жизни, Патриарх сказал в заключение:
«Всё то, о чём мы говорим, имеет отношение к вечности. “Между нами и адом, между нами и раем...” Я бы хотел сказать, что ад и рай возникают в этой жизни, в наших душах, в наших отношениях. И если мы способны здесь исключать из своего сердца ад, не давать силам зла захватить наше сознание, нашу волю и наши чувства, если мы в этой, земной, жизни сформируем внутреннего человека, способного к земному счастью вне зависимости от внешних обстоятельств, сильного, духовного, хранящего в себе голос совести, – вот тогда здесь наступает рай. Этот рай познаётся нами в любви, в соприкосновении с прекрасным, в творчестве, в энергии жизни. И когда мы приближаемся к старости, когда мы начинаем терять силы, этот внутренний человек становится ещё сильнее, и старость перестаёт быть обременительной для других и для самого человека, потому что, живя внутренней силой и уже видя врата вечности, такой человек готов переступить границу, которая отделяет мир физический от мира духовного.
Я бы хотел перефразировать Паскаля и сказать, что между нами и адом, между нами и Небом – только жизнь, самая хрупкая и самая прекрасная вещь на свете».
По публикации на сайте Патриархия.ру
http://rusvera.mrezha.ru/596/11.htm
|
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ Из книги «История школы и школа истории (Вятская Мариинская женская гимназия 1859-1917 гг.)» |
Иногда исследователи пытаются представить дело следующим образом: активная современная наука и культура выступают против консервативной, молча делающей своё дело Церкви. Молча, потому что нечего сказать в ответ. Это не так. Своего вдумчивого исследователя ждёт церковная публицистика того времени, которая реагировала на все новые явления, аргументированно отвечала на выпады критики. Эта дискуссия обязана была учитываться школьными учителями Закона Божия.
Уже в 60-70-е гг. XIX в. в церковных журналах появляется немало статей, в которых авторы с тревогой наблюдают за быстрым развитием разрушительных учений в общественном сознании. Ещё прежде оно подверглось массированному воздействию протестантизма, католичества, вольтерианства, масонства, социалистических идей (Фурье, Сен Симон). Сейчас к ним добавляется материализм, опирающийся на естествознание, а также позитивизм и социалистические и коммунистические идеи нового поколения.
От Церкви не было укрыто, куда ведёт новое направление, основанное на материализме. В отличие от восторженных ожидателей счастливого будущего, основанного на возможностях научно образованного человеческого разума, она предвидела иное развитие событий: «Нет, пусть говорят что хотят, материализм, если бы ему дать предпочтение, положил бы конец воспитанию и вообще рано или поздно повлёк бы за собою разрушение всякого божественного и человеческого порядка...»
Парадоксально, но в стране, в которой православие официально считалось государственной религией, где абсолютное большинство населения исповедовало православную веру, Церковь чувствовала себя изгоем перед лицом сплочённо выступавших в средствах массовой информации апологетов «современной мысли». С некоторым удивлением церковные публицисты отмечали, что никак не удаётся организовать серьёзную дискуссию. Всякая попытка высказать критические замечания в адрес корифеев западной науки встречала у отечественных либералов резкие возражения, град упрёков, после чего следовало зачисление в ряды «закоренелых врагов нашего общественного преуспеяния». В общем, «не должно сметь своё суждение иметь».
Если же внимательно почитать статьи церковных публицистов, в которых рассматривалась жизнь современной науки, можно найти много глубоких размышлений, не потерявших своего значения и для современных участников дискуссии о соотношении науки и веры. Так, при внешне впечатляющих успехах в области биологии, астрономии и геологии, которые, казалось бы, опрокидывали библейскую картину творения мира, звучал призыв помнить о границах и предмете познания в религии и науке. Указывалось на то, что совершенно невозможно объяснить, откуда взялась сама материя, как из неё возникла жизнь. Обращалось внимание на то, что Библия не учебник по естествознанию, а Откровение пути спасения человека. Отсюда совершенно по-иному необходимо понимать геоцентризм Библии, дни творения и т.д. Если знать традицию толкования библейских текстов, в частности Шестоднева, легко убедиться, что никакие действительно подтверждённые данные науки (а не её гипотезы) не противоречат направлению творения через дни творения так, как они описаны в Библии.
Диалог не получался и не мог получиться, потому что речь шла не о правоте в споре, не об убедительности в честной и открытой дискуссии, а о лишении Церкви её главенствующего места в формировании мировоззрения русского народа, системы ценностей, отвечающих на главные вопросы о смысле жизни человека. Поэтому от Церкви в целом и от учителей Закона Божия в частности требовалось не просто хорошее преподавание своего предмета, но стояние в Истине. Они должны были быть не рассказчиками о ней, но свидетелями её – так, чтобы их воспитанники не блуждали в поисках смысла жизни. Не изолировать ученика от сложности происходящих процессов, так как изолировать было невозможно, но учить его опознавать сущность этих процессов в свете Истины. Это проповедь о том, «что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни» (1 Ин. 1,1).
Такие высокие требования к законоучителям могут показаться слишком высокими. Но, учитывая, что все законоучители в Вятской Мариинской женской гимназии были священниками, хотелось бы ожидать, что для них Закон Божий станет больше, чем одним из предметов школьной программы, через запятую. В начальный период своей жизни гимназия действительно имела именно таких законоучителей. Это были прот. Стефан Кашменский и прот. Николай Попов. Отец Стефан родом был из южных краёв, окончил Киевскую Духовную академию. Но жизнь свою связал с Вятским краем. Он стал преподавателем логики и психологии в Вятской Духовной семинарии. В 1846 г. принял священный сан и через некоторое время вырос до кафедрального протоиерея. С именем о. Стефана в истории Вятской епархии связано очень много. Он создал противораскольническую миссию с целой системой школ, основал инородческую миссию, Братство свт. Николая. Отец Стефан – автор целого ряда замечательных работ по богословию и миссиологии.
В женской гимназии он появился, когда ему исполнилось всего 42 года. Но на учениц о. Стефан производил совершенно неизгладимое впечатление. Даже по внешнему виду он «живо напоминал библейских святых, как они изображаются на иконах». Отец Стефан отличался смирением и кротостью, результатом глубокой внутренней работы по устроению души в русле святоотеческой аскетической традиции, о которой с любовью и серьёзным знанием дела он написал в одной из своих книг. Потому и слово его, всегда негромкое, произносимое даже каким-то особенным полушёпотом, лишённое страсти, ярких эмоций, затрагивало не только ум, но и проникало глубоко в сердце.
Одна из его учениц вспоминала, что отец Стефан «урок вёл так, как будто священнодействовал». Ему удавалось передать своё благоговейное отношение к тому, о чём он говорил. По воспоминаниям учениц, даже разъясняя скучноватый для девочек катехизис, о. Стефан «так умел передать нам дух Христов, что, казалось, он входил в плоть и кровь нас самих». Высшей похвалой в устах ученицы звучат слова: «Да, это был истинный учитель Христовой веры, а не наёмник».
Таково было слово пастыря, ставшее зерном, пусть поначалу и упавшим в терние (ср.: Мф. 13,7), но потом, через многие годы, давшим спасительный плод в душе уже взрослого человека. Опубликовавший эти воспоминания А. Спицын заключает: «Отзыв ученицы и последний отзыв ученика ясно определяют характер проповеди Кашменского в гимназии: он шёл по стопам великого Святителя Златоуста». Шесть лет преподавал о. Стефан в старших классах женской гимназии. Рядом с ним в младших классах, а затем после ухода отца Стефана и в старших трудился не менее талантливый педагог – прот. Николай Попов, 12 лет отдавший этой школе.
Отец Николай имел очень слабое здоровье. И многие отмечают, что в школе он словно преображался, он ею жил. Общение с ним вносило мир в сердца учениц, к которым он всегда относился с кротостью и лаской. Никто не видел отца Николая не только раздражённым, но даже взволнованным.
Преподавание его отличалось доступностью, понятностью и неподдельным интересом, который он умел вызвать у учениц. Самый трудный материал, особенно богословского характера, о. Николай доносил до своих учениц так, что они потом и через годы легко вспоминали всё, что изучали на уроках Закона Божия. Например, затрагивая сравнительное богословие, о. Николай сначала приводил все аргументы в пользу инославия (католичества или протестантизма). Потом улыбнётся и спросит: «Ну, как же вам кажется, уж не правы ли, действительно, лютеране (или католики)?» Ученицы смущаются. А он, приняв серьёзный вид, с такой силой разбивает доводы инославных, что ученицам становится ясна правота православия.
Особенно много для школы о. Николай дал, преподавая Священную историю Ветхого и Нового Заветов. Итогом стали известные всей стране учебные пособия, которые многократно переиздавались до 1917 г., и даже в наше время, вновь изданные, они рекомендованы по курсу «Библейская история» в семинариях. Особенностью подхода о. Николая было то, что он совершенно не боялся рассматривать самые острые вопросы, связанные с изучением Священного Писания в связи с критикой со стороны современной науки. Одна из его учениц позже вспоминала, как он на уроках читал Библию, сопоставлял её с новейшими научными гипотезами об устройстве вселенной «и показывал нам, что чем более растёт и углубляется научное познание, тем более оно согласуется с библейским сказанием и поясняет его».
Если мы обратимся к учебнику о.Николая Попова по Священной истории Ветхого Завета, то увидим, что автор старается реагировать на выпады дарвинистов относительно происхождения жизни на Земле. Так, говоря о пятом дне творения, он отмечает в своих комментариях: «Здесь пророк Моисей в другой раз употребляет слово “бара” (“сотворил”) и тем свидетельствует, что животная жизнь не сама зародилась из безжизненного вещества, а получила своё бытие от Бога чрез новое, особенное творческое действие». Также и о шестом дне творения: «Здесь пророк Моисей в третий раз употребляет слово “бара” и тем свидетельствует, что человек не произошёл от какого-либо прежде него сотворённого Богом животного, а есть новое, особое творение Божие, отличное от бессловесных животных». Отец Николай в комментариях показывает хорошее знание достижений науки, но делает оговорку: «Ввиду различных толкований на библейское повествование о сотворении Богом мира, должно помнить, что творение мира есть тайна, которую мы, по слову Апостола, разумеваем верою (Евр. 11, 3), что достоверность Священного Писания простирается далее пределов нашего разумения». Все, кого учил о. Николай, были едины в глубокой любви и благодарности к этому несравненному законоучителю, делавшему своих воспитанниц «сознательными и убеждёнными детьми Православной Церкви».
Такие же отзывы заслужил о. Николай и от учеников мужской гимназии. Достаточно критически отзывавшийся о своём школьном прошлом П. Голубев, доходя в воспоминаниях до о. Николая Попова, писал: «К несказанному удивлению, ученики увидели, что даже в этом предмете (Законе Божием), который единодушно признавался тогдашними гимназистами совершенно неважным и ненужным, отнимавшим у нас только время, можно было найти массу интересного, и мы здесь, на уроках отца Николая, впервые услышали ещё неведомую нам философскую речь… И впоследствии, даже в старших классах, мы любили уроки о. Николая, главным образом за их глубокий философский смысл, за прямую постановку, без увёрток, всевозможных волновавших того или иного из нас вопросов о материализме, атеизме, о многих недоступных для нас книгах и пр.».
Отец Николай имел твёрдую позицию не только в вопросах естествознания, но и истории. Своё видение исторических закономерностей он отразил в слове, сказанном по случаю празднования 1000-летия со дня кончины св. равноап. Мефодия. Рассказав о трудах святых братьев Мефодия и Кирилла, о.Николай затем показал судьбу славянских народов, воспринявших их наследие. Те народы, которые не удержали наследие, либо исчезли, либо оказались подчинены латинскому Западу. Сохранившие же его, прошли все испытания и укрепились. «Зная всё сие, – делает вывод о. Николай, – будем благоговейно чтить свв. Мефодия и Кирилла, как первых наших отцев духовных, которым мы обязаны нашею духовною историческою жизнью. Будем твёрдо содержать святую православную веру, которую исповедовали славянам св. Мефодий и Кирилл и устами, и письменами. Тысячу лет мы жили ею; будем и на будущее время питаться, жить, расти и развиваться этим хлебом жизни, преподанным нам руками святых просветителей славянских». Как видим, в этих словах дана концепция отечественной истории, прямо противоположная взгляду проводников идеологии Просвещения.
Отец Николай умел и в современных ему политических событиях увидеть глубокий духовный смысл. В 1881 г. был убит император Александр II. Это трагическое событие потрясло всех, кто искренне любил своё Отечество. Но не многие решались вслух обсуждать, как такое могло произойти? Отец Николай в слове на восшествие на престол Александра III, произнесённом в кафедральном соборе г. Вятки, призывая молиться за нового императора, задался вопросом: а разве мы не молились за убиенного государя? почему Господь попустил врагам Отечества совершить своё злодеяние?
За ответом о. Николай обращается к Священной истории. Там он находит примеры, когда Господь отнимал царей за грехи народа. Не то же ли самое произошло и в России? Мы должны увидеть в себе грех, совершаемый против нашей веры. Прежде всего мы слабо знаем нашу веру. А в среде образованных людей можно даже встретить мнение о том, что «вера нужна для тёмного народа и должна оканчиваться там, где начинается просвещение». Не находя опоры в вере, приходит в упадок нравственность. «Мы любим говорить о возвышении и распространении в наше время просвещения во всех классах русского народа, – замечает о. Николай, – о развитии так называемой человечности. Но не мечтаем ли, не шумим ли, не суетимся ли больше, чем преуспеваем в нравственном отношении?»
Наконец, мы грешим против своего Отечества, его законов, учреждений и обычаев жизни. «У нас вошло в привычку осуждать, осмеивать всё отечественное… Иные у нас те только книги и читают, тех только писателей и уважают, которые над всем отечественным смеются, которые отыскивают пятна во всяком историческом лице, всё великое унижают, всё высокое топчут в грязь. Вследствие этого у нас развилось неуважение к властям, явились люди, которые убеждены, что у нас следует переменить все учреждения и что чрез это всё разом исправится, настанет рай на земле, все разбогатеют, у всех будут поля и виноградники, все будут сотниками и тысяченачальниками (1 Цар. 22, 7), волк будет мирно жить с ягнёнком (Ис. 11, 6), – не думая о том, что сколько не меняйте законов и учреждений, а если мы сами не сделаемся лучше, нравственнее, никакой пользы от этих перемен не может быть».
К сожалению, с уходом о. Стефана Кашменского в 1865 г. и о. Николая Попова в 1874 г. женская гимназия лишилась настоящих законоучителей. Вплоть до конца существования гимназии никто из преподавателей Закона Божия не вызвал у учениц такой любви и уважения к своему предмету, как они. Там, где нужно было проявить творчество, широту интересов, в конце концов, обеспокоенность за то, чем наполняются души учениц, соприкасающихся с антихристианским началом в образовании, законоучителя занимались решением формальных вопросов: участвовали в съездах, на которых обсуждали вопросы методики преподавания Закона Божия, писали как под копирку регулярные отчёты, из которых следовало, что всё хорошо, у всех замечательные оценки, программа пройдена.
Скупые строчки из дневников и писем учениц и выпускниц свидетельствуют о том, что законоучителя не справлялись со своей миссией.
«Здесь у меня нет поддержки, а как трудно одной додумываться до всего, что кажется смутным, разъяснять себе то, чего не понимаешь, – сколько приходит в голову вполне вероятных предположений, и даже не знаешь, на котором из них остановиться, и часто-часто так и оставляешь этот вопрос не разрешённым» (Ольга Долгова, 1896 г.).
«Отец Валентин требует, чтобы уроки отвечали из слова в слово по книжке, а мы к этому не привыкли. Отцу Николаю и отцу Феодосию рассказывали даже тексты из катехизиса своими словами. А этому всё надо по-особенному. И понятия у него все какие-то необыкновенные» (Нина Агафонникова, 1910 г.).
Готовясь к уроку по французскому языку в 1-м и 2-м классах вместо заболевшей учительницы, пропустила ряд занятий: «Благодаря этому удрала с Закона – это ли не удовольствие!» (Нина Агафонникова, 1911 г.).
«Мы пусты, совершенно пусты, потому что ничем не наполнены… Нам не внушили понятий справедливости, нам не внушили уважения к труду, в нас совершенно заглох патриотизм, нет религии, нет кодекса нравственности» (Е. А. Ждан, 1901 г.).
Мы не приводим здесь откровенно дерзкие и кощунственные оценки, которые оставили в своих воспоминаниях и художественных произведениях будущие революционерки, окончившие женскую гимназию.
Ослабление воспитательного воздействия предмета Закона Божия произошло и вследствие допущения в школу преподавателей иных конфессий. Первая попытка такого рода была предпринята ещё в 1881 г., когда московская Евангелическо-Лютеранская консистория предложила свои услуги Вятской Мариинской женской гимназии «просветиться в догматах родной их религии и принять участие в обучении чисто нравственного предмета, столь важного вообще, а в особенности в настоящее в нравственном отношении смутное время». Просьба оставлена без ответа.
В ходе первой революции в России администрация гимназии получила прошение от родителей-католиков, дочки которых обучались в этой школе. Они предлагали ввести в гимназии для своих дочерей преподавание «Закона Божия католического вероисповедания местным ксёндзом».
Руководство удовлетворило эту просьбу, и в 1905-1909 гг. в школе работал ксёндз Островский. Интересно, как в этих условиях православные учителя Закона Божия, священники Валентин Раевский, Николай Напольский и Феодосий Иванов, давали своим воспитанницам сведения из сравнительного богословия? В любом случае они не делали этого так, как в своё время прот. Николай Попов. Но настоящее воспитание совершается только относительно точного ответа на вопрос: а на самом деле как?
Руководство школы всеми силами старалось приобщать девочек к церковной жизни, «побуждая их к тому внушениями, что от усердного исполнения этой обязанности зависит доброе настроение и плодотворное развитие всех душевных сил».
http://rusvera.mrezha.ru/596/10.htm
|
«Желание сделаться человеком» Гимназистки: кто не выбрал Христа, те выбрали революцию |

Вышла в свет книга протоиерея Сергия Гомаюнова «История школы и школа истории. (Вятская Мариинская женская гимназия 1859-1917 гг.)». Этот труд стал событием в истории православной педагогики, к сожалению, пока едва замеченным. Его тираж всего пятьсот экземпляров, хотя книга достойна много большего.
Существует немало исторических текстов, из которых можно почерпнуть не вполне осмысленную авторами информацию. Есть также книги, где попытка использовать историю на благо общества не подкрепляется её хорошим знанием. Как следствие – мысли и выводы повисают в воздухе и, как бы ни были остроумны, увы, не убеждают.
В этом отношении отец Сергий, историк по образованию и духовник Вятской православной гимназии, смог найти золотую середину. Собрав богатейший материал о Мариинской гимназии, он смог на её примере приоткрыть завесу над причинами катастрофы, постигшей Россию в 1917 году. Почему русское классическое образование, одно из самых совершенных в мире, не только не предотвратило, но во многом способствовало крушению страны? Шаг за шагом отец Сергий помогает нам это понять. Но поднимается в книге и другой вопрос, не менее важный: что в этом образовании было драгоценного, что помогло нам в ХХ веке выжить, сохранить душу...
Хороший язык, глубокие мысли о природе образования, рассказы о судьбах воспитанниц Мариинской гимназии, одни из которых выбрали революцию, другие – Бога, сделали труд отца Сергия образцовым. Он обогащает как знанием, так и пониманием прошлого, заставляет думать, переживать.
Мы попросили батюшку немного рассказать о своей работе, а следом за интервью помещаем в «Вертограде» выдержку из книги. Большая часть её тиража уже разошлась, но отец Сергий согласился отправить оставшиеся экземпляры тем, кто нуждается в его книге. Цена книги – 150 рублей (не считая пересылки). Телефон гимназии 8332-653844, адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, 35. Вятская православная гимназия.
* * *
– Отец Сергий, как вы пришли к мысли написать эту книгу?
Вятская Мариинская женская гимназия. Снимок нач. ХХ в.
– Так получилось, что наша православная гимназия выросла из своего первого здания, где мы начинали в 98-м году. После долгих хождений и многих молитв нам была передана часть комплекса бывшей Мариинской гимназии. К сожалению, её храм всё ещё занимает спортивная школа, там готовят гимнасток (надеюсь, что для них найдётся однажды более приемлемое помещение). Но мы рады и тому, что получили. А поскольку это место особое, захотелось узнать о нём побольше, помочь нашим ребятам освоить то историческое пространство, в котором они оказались.
Затем задача начала расширяться. Современная православная школа испытывает острую нехватку образцов педагогической деятельности. Речь идёт не только о труде отдельных учителей, но о школе как целостном организме, где взаимно связаны учебный процесс и воспитание. Способна ли стать для нас таким образцом дореволюционная школа, где ученикам вменялось посещать храмы, изучать Закон Божий? Этот вопрос меня давно интересовал.
Ещё одной целью было желание понять, что такое настоящая гимназия. Гимназиями сейчас именуют себя большинство православных школ и часть светских, а это – повышенный уровень требований, особый тип образовательного учреждения, с хорошей исторической репутацией. Русские и вообще европейские гимназии представляли собой вершину средней школы. Но для того чтобы добиться этого, мало было набрать хороших учителей и учеников. Гимназия – это особый способ познания мира. Её становление началось ещё в античные времена, а затем накопленный опыт был переработан, обогащён Церковью. Многое было, кстати, заимствовано из семинарского образования, хотя это мало известно.
– Вы сказали, что хотели помочь ученикам освоить историческое пространство. В том, что это важно, сомнений нет, но хотелось бы лучше понять – насколько важно?
– Попробую пояснить на таком примере. Вот идёт крестный ход на реку Великую, идёт много столетий. Как человеку стать его частью, а не просто путешественником, туристом или зрителем? Для этого он должен обнаружить связь между ходоками, не только нынешними, но и теми, что шли в незапамятные времена, понять, что их влекло и влечёт, что объединяет. Эта связь называется традицией. Научить ребят пропускать её через себя – это путь к тому, чтобы сформировать у человека ответственную и деятельную позицию по отношению к своей вере, своей малой родине, Отечеству. В этом, наверное, и состоит миссия школы. Не думаю, что передача нам здания Мариинской гимназии – случайность. Господь так всё устроил, чтобы её история продолжилась. И я должен был понять, почему это произошло, на что мы благословлены, чтобы впоследствии рассказать о своих открытиях ученикам.
– Все ли открытия порадовали вас?
– Я отчётливо понял, насколько больна была наша дореволюционная школа, несмотря на все её достижения, успехи в формировании научной элиты. Эта болезнь затронула самое основание школы. Центральная глава моей книги «Воспитывающее образование» посвящена тому, чтобы объяснить: формирование образа Божьего в человеке не решается благодаря тому, что в школе совершаются молебны, преподаётся Закон Божий. Всё это хорошо, правильно, но главное – это то, что заложено внутри самого процесса обучения. В русских гимназиях за основу была взята западная педагогика, с её идеологией, черпающей вдохновение отнюдь не в Боге. Гуманизм, культ Просвещения имеют внешнее сходство с христианскими принципами, но лишь для того, чтобы увлекать колеблющихся.
На судьбах воспитанниц Мариинской гимназии я попытался проследить, как принималось ими решение, с кем быть – со Христом или с духом мира сего. Человек не может долго находиться в раздвоенном состоянии, и выбор приходилось делать всем девушкам.
– Что произошло с теми гимназистками, которые ополчились против Бога?
– Кто не выбрал Христа, те выбрали революцию, серединки не было. Людей разводило по разные стороны, это была трагедия русской школы. Меня поразили судьбы тех девушек, которые стали известными революционерками. Как правило, это были отличницы, одарённые, искренние натуры, например Вера Зубарева, Людмила Громозова, которую хорошо знал Ленин. Если бы всё сложилось иначе, Россия могла бы ими гордиться. Но что-то произошло. Они были очень несчастны, как правило, не имели семей. Христианская традиция дала каждой из них готовность к самопожертвованию, чувство жалости к ближнему, готовность его защитить. Но представьте, человек взял лук, натянул тетиву, направил стрелу, но рука дрогнула, сбилось дыхание, или кто-то окликнул его, и стрела полетела мимо цели. Вот что произошло с этими девушками, которые всем сердцем, горячо послужили злу. Все их достоинства обернулись против них, против их Отечества. Для нас это урок огромной важности – нельзя умиляться внешней стороной, тем, что дети «Отче наш» назубок знают, мы не должны повторить ошибок дореволюционной школы.
– Неужели всё было настолько плохо?
– Процессы, шедшие в то время, были необратимы. Менялась система ценностей, мотивировавшая деятельность человека. Ведь есть ценности декларативные. Скажем, ребёнок знает заповеди Божии, но не понимает, почему он их должен исполнять. Он может иметь «пятёрку» по Закону Божьему, но не ведать, какое отношение этот предмет имеет к действительности. И есть ценности актуальные. Например, человек мечтает оказаться на месте Христа, чтобы превратить камни в хлеба и накормить всех голодных. Не случайно Достоевский воскликнул, по сути крикнул в лицо образованному русскому обществу, что, если ему предложат выбирать между Христом и истиной, он выберет Христа. До такой степени антихристианские настроения у нас вошли тогда в моду, монополизировали само это слово – «истина»!
Но выбор у людей всё-таки был благодаря тому, что Церкви дана была возможность участвовать в жизни русской школы. Мы, православные, тогда многого не сделали, многое упустили, но важно понять, что Церковь всё-таки смогла исполнить. Вопреки распаду, посреди него она стала опорой для тех учениц, учителей, которые нашли в себе мужество быть с Богом. Гимназия воспитала людей, твёрдо стоявших на почве традиции, сумевших пронести веру сквозь революцию, советские времена, передать её не только детям, но и внукам, которые сегодня идут в православную школу. А ведь это победа. На уровне отдельной личности Церковь побеждает, даже когда кажется, что она потерпела поражение в глобальном масштабе.
Самый яркий пример такой победы – это, конечно, Аполлинария Николаевна Тепляшина, которая 60 лет жизни отдала школе. Поразительный пример исполнения христианского долга. Учительница начальных классов, она была награждена двумя орденами Ленина, причём не за верность советскому строю, а за то, что была Учителем с большой буквы. Практически все её ученики, которых часто называют «тепляшинцами», пришли в Церковь, потому что Аполлинария Николаевна привила им любовь ко Христу, хотя открыто исповедовать свою веру в советской школе, конечно, не могла. Но дети ощущали силу её веры. Вот мы преподаём Закон Божий, рассказываем о заповедях, обо всём, но не знаем, что из этого выйдет. А она, ни слова не говоря о Боге, приводила к Нему. Не через учебники передаётся традиция, а через людей. Только личность может стать проводником веры.
– Ваша работа будет иметь продолжение?
– Мы смогли подготовить «Священную историю Ветхого Завета» протоиерея Николая Попова, того законоучителя, о котором ученицы Мариинской гимназии сохранили замечательные воспоминания. Сейчас работаем над тем, чтобы отдать в печать вторую часть его труда – «Священную историю Нового Завета». Это отличные пособия для православных гимназистов. Если говорить о наших ребятах, представьте, что они испытают, читая слова, некогда звучавшие в стенах их школы. Бог даст, это поможет им услышать отца Николая по-настоящему.
* * *
«24 июля 1897 г. в дневнике 16-летней Ольги Долговой, ученицы Вятской Мариинской женской гимназии, появляется запись: “Желание моё сделаться «человеком» за последнее время очень усилилось”. В этих словах содержится глубокая интуиция русской культуры, хранящей в себе знание о человеке, которое открыло ей христианство. “Желание сделаться человеком” может возникнуть только у того, кто знает: человек есть образ Божий, призванный Богу уподобиться (Быт. 1, 26-27). Он не исчерпывается своей данностью, ибо ещё и призван стать. Отсюда происходит христианское понимание образования».
Так начинается «История школы...» отца Сергия Гомаюнова, одна из лучших книг, прочитанных мною за последние годы.
В. ГРИГОРЯН
(2009г)
http://rusvera.mrezha.ru/596/9.htm
|
Притча о счастье. |
– Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? – спросил мудрец.
– Я страдаю для счастья своих детей и внуков, – ответил человек. – Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми.
– А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? – спросил мудрец.
– Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! – ответил несчастный человек.
– Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! – сказал мудрец. – Научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймёшь, как сделать счастливыми своих детей и внуков!

Серия сообщений "ПРИТЧИ":
Часть 1 - СВЕЧА ОТ ГРОБА ГОСПОДНЯ
Часть 2 - А доверяем ли МЫ Господу?..
...
Часть 16 - Притча о счастье
Часть 17 - О счастье...
Часть 18 - Притча о счастье.
Часть 19 - О ДВУХ КАПЛЯХ МАСЛА
Часть 20 - ПРИТЧА О БЛАГОЧЕСТИИ
Часть 21 - ДОРОГА ЖИЗНИ (притча)
|
|
Логика капитана Елькина. |
Нас, русских, становится меньше на миллион человек в год. Старинные деревни и сёла исчезают с лица земли, растут территории кладбищ. Но об этом не принято говорить. В СМИ много времени уделяется гибели нескольких десятков или сотен людей во время аварий и пр. бедствий. Власти реагируют, стараются предотвратить повторение подобных несчастий. А смерть миллионов от пьянства, фальшивых лекарств, наркомании, абортов проходит мимо, будто это что-то само собой разумеющееся, а то и вовсе узаконено.
Мы – нация, в каком-то жутком полусне идущая на заклание. Потому что у человека есть тело, которое нуждается в крове, одежде, еде, и есть душа, ей тоже необходимо питаться – общением с себе подобными, музыкой. Но вместе с тем, каждый человек имеет дух. Что ему потребно? Об этом мы знаем из молитвы «Царю Небесный», где призываем Духа Животворящего сойти в нас, очистить от всякия скверны и спасти. Но если мы не питаемся Духом, Его место занимают духи совсем другого рода. Они убаюкивают и умерщвляют человека, как те летучие мыши-вампиры, которые перед тем, как выпить кровь, вводят в неё обезболивающее средство. И погубляемый ничего не чувствует. Тело обмануть легко, душу труднее. Иногда она начинает сопротивляться. Меня обнадёжили результаты телепроекта «Имя твоё Россия», где больше всего голосов было отдано святому Александру Невскому. Мы все наследники Александра Невского, по плоти и крови Христовой, получаемых через Таинство. Мы унаследовали от него своё Отечество, его земли и недра, но главное – святую веру Христову, исповедание: «Не в силе Бог, а в правде». Чтобы сердце исторгло такие слова, нужно иметь спасительный страх Божий, питаться Духом Святым, который не совместим с нечистотой и скверной.
Дух Божий, живущий в нас, не даст брать взятки и давать их, обижать слабых, хамить, материться, обвешивать покупателей, халтурить, выпуская бракованные вещи, выбрасывать мусор из автомобиля на дорогу, гадить в подъездах, продавать презервативы в продуктовых магазинах, похищать людей в рабство, насиловать и убивать. «Я не хочу убивать и гадить», – могут возразить мне. Но ответь: много ли в тебе любви к ближнему? Если нет, значит, ты не стал обителью Духа. Наша страна перестала быть Его домом, злые духи кишат в ней, как паразиты в слабеющем теле. Ложь, распутство больше не таятся в тёмных углах – они торжествуют. А по углам теперь прячутся учителя, они боятся сказать школьнице, что она не должна ходить на урок полураздетой, курить и сквернословить. В школу зайдёшь, читаешь: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу им». Какую славу приносят им алкоголики, наркоманы, мздоимцы, расползающиеся из классов, как гады земные, чтобы жалить людей?
Многолетняя война с Христом ослабила Россию. Народ стал вялым, малоспособным к жизни. Стало стыдно быть русским. Быть евреем хорошо, джигитом – хорошо, а быть русским – значит быть презренным «лохом». Это началось не сегодня. Помню, в армии мне поручили обучать новобранца из какой-то азиатской республики, предупредив, что ни один волос не должен упасть с его головы. Но что-то взбесило моего подопечного, и он бросился на меня с кулаками. Я был сильнее, однако не ожидал нападения и потерпел поражение. А капитан Елькин, наш, русский, кировчанин, объявив мне пять нарядов вне очереди, добавил, что я счастливчик: окажись чуть проворнее, победи в схватке – и не избежать бы мне тогда дисбата. Вот как много делалось у нас для дружбы народов. Непросто было научить соседние нации презирать нас. Крепко вколотили им уважение к русскому имени наши предки. Но капля камень точит. И потянулись из Азии, с Кавказа поезда с разбитыми окнами. Они везли беженцев, тех, кто сумел вырваться живым.
А в день Преображения я пришёл на службу и едва достал сотовый, чтобы отключить его, – звонит женщина из Воркуты. Говорит, что у них собрались строить мечеть. Что-то оборвалось в душе. Нет в исламе места Сыну Божьему, значит, нет места и Святому Духу. Конечно, знавал я хороших мусульман, но хороши они были, следуя вековечным традициям своих народов. А стоит закричать оторванному от традиции человеку «Аллах акбар!» – и не любовью он наполняется, а наливается злобой. С этим кличем убивали христиан прежде, режут и сейчас в Сербии, в Индонезии, на Филиппинах. На днях очередного злодея-иорданца обезвредили в Америке, хотел взорвать небоскрёб. Но принцип капитана Елькина живёт и побеждает. Спрашиваю воркутинку, что говорит по поводу мечети отец N. «Мне это не нравится, – говорит он, – но эти люди помогли построить храм, и я перед ними в долгу». – «А что говорит отец Z?» – «А отец Z говорит, что у него много детей и он боится, как бы с ними чего не случилось». Ничего себе! Ещё не начали строить, а люди уже испытывают страх. И попробуй помешай, проведи референдум. Вылезут «правозащитники», закричат о правах. Это напоминает мне историю, как в Коми завезли борщевик, добавив к местным сорнякам этого мутанта. Говорят, обком делил семена поштучно между совхозами. Надеялись таким образом решить проблему кормов для скота, а сейчас этот ядовитый паразит уже и лес вытесняет, и нет на него никакой управы.
С год назад я ехал в переполненном вагоне в Воркуту. Подходили люди не всегда церковные, но мы общались, и нам было хорошо. В Печоре в вагоне стало посвободнее, и я сменил свою верхнюю полку на нижнюю. На следующей станции зашёл мусульманин и, размахивая билетом, начал кричать. «Прости, брат, – успокаиваю его, – я сейчас освобожу твоё место». «Какой я тебе брат?» – глядит он с ненавистью, бежит за проводником и полчаса ещё ругается. Это был не шахтёр, не строитель, не торговец – не один из тех, кто трудится в поте лица своего. Он был будто воплощённым духом злобы. В Воркуте мы вместе вышли из поезда.
Примерно с тех пор и пошли разговоры о мечети. Где-нибудь в Саудовской Аравии уже отсчитаны деньги на её строительство.
Мы – разного духа. Мы разные. Иду причащать коми бабушку, а её внук бегает в чалме, с кривой саблей. Дочь этой старухи позвала меня – украдкой, пока сожителя-магометанина нет дома. Потому что узнает – быть беде. Я не против мусульман по рождению – тех трудяг, предки которых силой были обращены в ислам. Я против того, чтобы это произошло с нами, против борщевика на огороде, которому позволено в «честной» борьбе губить укроп, помидоры, картошку. Пора звать Огородника, произнести всем миром: «Бог Господь, явися нам, благословен грядый во имя Господне». И исполнятся слова гимна о Богохранимой России. А что без этого? Мне страшно об этом думать.
Игумен ИГНАТИЙ (Бакаев)
http://rusvera.mrezha.ru/596/6.htm
|
ЧЕРЕЗ ПРОСВЕТЫ. |

«Чем выше стоит подвижник на духовной лестнице, тем труднее писать о нём…»
Оптинские отцы смиренные. Хранят оптинские монашеские традиции. Похвалить монаха – то же самое, что бегущему подножку поставить. Пока живы, все подвизаются, а о святости человека судим мы уже после его смерти. Хорошее высказывание по этому поводу прочитала у святых отцов: «Перед самым сбором урожая град может уничтожить виноград, и праведник перед смертью [может] согрешить. Поэтому не спеши ни к кому [приступать] с похвалами». Читаю и представляю крупные и ароматные, налитые соком грозди винограда. Но ведь может пройти град или снег выпасть…
Наверное, поэтому из уст в уста передаётся оптинская байка. Спросили старца, отца Илия: «Батюшка, правда, что все оптинские отцы – прозорливцы и чудотворцы?» На что старец с улыбкой ответил: «Не знаю насчёт прозорливцев, а чуднотворцы точно все».
Значит ли эта шутка, что перевелись старцы в монастырях? Слава Богу, не перевелись! Утешает Господь людей своих, но чудеса эти прикровенные, даются по нужде. Рассказывает мне в очереди на исповедь жительница Козельска, Елена, как недавно в этой очереди стояла её соседка. Приехала к игумену N со своим горем – сын пропал. Выслушав рыдающую мать, ушёл он в алтарь, долго молился, а вернувшись, сказал: «Не плачь, через пару дней вернётся». И действительно, на второй день сын явился.
На послушании в гостинице раба Божия Надежда рассказывала мне о том же батюшке, как уговаривал он остаться в монастыре одну уже не очень молодую женщину. Не слушала она уговоры, и батюшка сказал: «Что ты там, в миру, будешь делать, настрадаешься, да ещё и с ребёночком». Про ребёночка было совсем непонятно, но понятно стало, когда женщину соблазнил и бросил с ребёнком заезжий молодец, и она действительно много страдала.
Признанный старец Оптиной пустыни – отец Илий (Ноздрин). Когда человек ещё подвизается, о его подвигах и духовном росте лучше не говорить. Но отец Илий – всероссийски известный старец, о его прозорливости все знают. Поэтому чада его и просто паломники делятся своими переживаниями и опытом встреч со старцем открыто – светильник под спудом не прячут…
Первую историю про оптинского старца Илия рассказала мне на совместном послушании в братской трапезной Оптиной пустыни паломница Ольга: «Хотела я спросить у старца, есть ли воля Божия на моё монашество, но никак не получалось побеседовать с ним. И вот стою после службы, вдруг народ задвигался, хлынул за вышедшим старцем. Кто-то вопрос хочет задать, кто-то попросить молитв, кто-то просто благословиться желает. Ну, думаю, не подойти мне к старцу.
И вдруг народ выталкивает меня прямо в спину к батюшке. Недолго думая, громко спрашиваю: “Батюшка, отец Илий! Буду ли я монахиней?” И батюшка, не оглядываясь, отвечает: “Да, ты будешь монахиней. Обязательно будешь монахиней!” И уходит, сопровождаемый народом. А я остаюсь и чувствую, как охватывает меня недоверие, а за ним уныние. Старец даже не взглянул на меня. С таким же успехом я могла спросить, буду ли я космонавтом.
В унынии плетусь к братской трапезной. Стою и плачу. Рядом ещё паломники стоят. Кто-то своего духовного отца ждёт. Кто-то старца дожидается. Стою без всякой надежды. И вдруг появляется отец Илий. Сразу тянутся к нему руки с записками, народ вопросы наперебой задаёт. Но батюшка подходит прямо ко мне. Внимательно смотрит на меня и спрашивает: “Ну что, ты уже выбрала себе монастырь, где хочешь жить?”»
На этом месте глаза рассказчицы увлажняются – утешил батюшка! Хоть и не взглянул при вопросе, но духовным зрением он видит многое. Гостиничная Елена делится со мной: «Как права пословица: Что имеем – не храним, потерявши – плачем! Вот был наш оптинский старец отец Илий рядышком – мы это не ценили в полной мере. Подойдёшь иногда, благословишься. А иногда смотришь – как много людей батюшку окружило – и мимо пройдёшь, думаешь: надо поберечь старца, не досаждать лишний раз. А сейчас вот уехал он подальше – духовник у самого Патриарха, так как же ждёшь его приезда! Как солнышка красного!»
Только поскорбели мы, что нечасто теперь старец в Оптиной бывает, – он и приехал. И благословились, и записочки отдали. Поднимаюсь по лестнице паломнической гостиницы, а схиигумен Илий мне навстречу спускается. На лестнице ещё две сёстры стоят – как и я, от радости чуть не прыгают.
Благословил нас батюшка, поговорил немножко с каждой, а в руках у него книги духовные – как раз три. Он одной сестре подарил, другой, я следующая. А я стою и думаю: «Есть у меня уже такая книжечка-то. Мне её вчера только архидьякон отец Илиодор подарил». Посмотрел на меня отец Илий внимательно, улыбнулся… и не дал мне книгу. А снизу уже новая паломница поднимается. Ей и подарил.
Вот ведь, думаю, батюшка всё видит! Как же мне хочется о нём побольше узнать! Вот бы ещё кто-нибудь рассказал о нём!
На следующий день еду я по делам в Калугу, возвращаюсь поздно, на автобус опаздываю. Звоню своему духовному отцу и объясняю, что припозднилась. Отвечает он мне, что в Калуге как раз оптинская машина. Сейчас назад, в монастырь, поедет, меня и захватят.
И вот я сижу рядом с водителем Сергеем, молодым ещё парнишкой. Несмотря на молодость, он уже несколько лет в монастыре работает, сейчас прораб на одной из многочисленных монастырских строек. И оказывается, что он чадо отца Илия.
– Брат, расскажи мне хоть немножко про старца! – прошу я.
Он соглашается. И рассказывает мне о своих встречах со старцем.
Сначала Серёжа не всегда к старцу за благословением обращался. Вот сдал на права, начал машину водить – без благословения. «Что, – думает он, – старца по мелочам беспокоить, мало ли у него забот! Не будешь обо всём сообщать – вот, дескать, водителем заделался!»
А отец Илий приехал из Греции и всем иконочки дарит. И всем – разные. Посмотрит на человека – переберёт иконочки и достанет какую-то одну. Сергею благословил иконочку святого Николая Чудотворца. Отошёл Серёжа в сторону, а сам ропщет: «Есть у меня дома Николай Угодник! Лучше бы батюшка какую-то другую икону подарил!» Переворачивает иконочку, а на обратной стороне – молитва водителя!
А рядом стоит мужчина в годах, видно, что в Оптиной впервые. Держит в руках иконочку Целителя Пантелеимона и спрашивает у Сергея: «Я недавно только в храм ходить начал. Вы не знаете, что это за иконочка?» А Серёжа спрашивает: «А у вас, простите, здоровье хорошее?» «Да что вы! Я серьёзно болен. Болезнь меня и в церковь привела, если честно». Объяснил Сергей ему, что к святому целителю Пантелеимону обращаются в болезнях.
И вот что интересно: пока Сергей подаренную батюшкой иконочку в машине хранил, ни разу его ГАИ не останавливала. А потом решил унести икону домой, чтобы на солнышке не выцветала. Только унёс – на четыре месяца права отобрали за нарушение. Как так нарушил, и сам не понял. Теперь только с иконочкой – батюшкиным благословением – и ездит.
После этого случая стал он все серьёзные решения принимать только с благословения старца – своего духовного отца. Хотел купить старый «КамАЗ». Деньги долго копил, в долги влез. Нашёл и «КамАЗ» подходящий. Проверил – хорошая ещё машина! Пошёл к старцу благословиться. А старец не благословляет – без объяснений. Ну, что делать, послушался Сергей, не стал покупать. Хоть и расстроился. А выходит, что расстроился-то он зря. Были, оказывается, какие-то незаметные, но серьёзные неполадки в машине. И через неделю сломался «КамАЗ», по выражению Серёжи, «в хлам».
А как-то приехал Сергей к духовному отцу, а он ему и говорит: «Ну что, путешественник мой, путешествуешь?» «Да нет, – отвечает Сергей, – из монастыря никуда». Старец только улыбнулся. Возвращается Серёжа в Оптину, а его тут же отправляют в Воронеж, к Тихону Задонскому, Воронежскому чудотворцу. Вот только недавно вернулся. И в Калугу поехал. Тут мы с ним и встретились.
– Расскажи ещё что-нибудь, – прошу я.
Сергей думает недолго:
– Ну, вот жениться я собирался несколько лет назад. Невеста моя объявила, что хочет учиться поступать. Поедет, дескать, документы отвозить. Деньги заплатить нужно. Ну, я с деньгами помог ей. Проводил. Жду. А я только ещё начинал у батюшки на стройке работать. Нужно было песок ехать нагружать. И подобрались мы так, что все ребята здоровые, рослые, а я самый молодой, меньше всех ростом и худее.
И вот благословляет отец Илий, чтобы меня отправили песок этот грузить. Я ещё в душе возроптал: ну, думаю, нашёл батюшка, кого выбрать! Но поехал, конечно. И вот еду – и вижу девушку свою с другим. Было у нас объяснение, после чего мы расстались. О чём я сейчас нисколько не жалею. Она за этого, другого, замуж вышла, ребёнка ждёт. А я вот в монастыре работаю. Может, совсем сюда переберусь. А ведь жениться хотел…
Ну, скоро приедем уже. Видишь, как незаметно за разговором дорогу скоротали? Что тебе ещё рассказать – напоследок?
Вот, представляешь, недавний случай: работаю на стройке, бетономешалка грохочет вовсю. Приезжает отец Илий. Батюшка никогда на машине в ворота не въезжает.
– А почему не въезжает?
– Ну как? Он смиренный очень. Не хочет как начальник. Всегда из машины выйдет, сам ворота начинает открывать. Поздоровается со всеми, поклонится всем. Вот и в этот раз выходит из машины, подходит к воротам. Я одну створку тяжёлых железных ворот открываю, а он вторую начал открывать. А потом благословил меня и спрашивает: «Слышишь, как по кресту стучат – тук-тук?»
Я отвечаю: «Какое там стучат, батюшка, по какому кресту! Я ваш голос-то с трудом слышу!» Он улыбнулся и пошёл. И что ты думаешь? Через пять минут иду по строительному делу к отцу Иоанну, который тут недалеко, метрах в двадцати. А он крест из меди отбивает себе в келью. И стучит – тук-тук. Как это можно было услышать на таком расстоянии, под грохот бетономешалки – ума не приложу. Ну, да у старца ведь другой слух, не такой, как у нас с тобой. Понимаешь?
…Вернулась я в Оптину и на следующий день, после послушания, захожу в книжную лавку. Смотрю: книга интересная – архимандрита Рафаила Карелина, «На пути из времени в вечность». Купила я эту книгу, прихожу в келью, открываю её на первой попавшейся странице и читаю: «Чем выше стоит подвижник на духовной лестнице, тем труднее писать о нём… Потому что духовное видит душевное, а душевное не видит духовного. Только лишь через какие-то просветы человек может соприкоснуться с внутренним миром подвижника как с откровением благодати…»
Да, только через какие-то просветы…
Ольга РОЖНЕВА
http://rusvera.mrezha.ru/596/3.htm
Серия сообщений "ПОДВИЖНИКИ":
Часть 1 - ПРОПИСКА НА НЕБЕСАХ
Часть 2 - НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (ВЕЛИМИРОВИЧ) БЕСЕДЫ.
...
Часть 44 - Старец Иосиф Ватопедский
Часть 45 - ДЛЯ ВСЕХ БЫЛ ВСЕМ
Часть 46 - ЧЕРЕЗ ПРОСВЕТЫ.
Часть 47 - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ СЛУЖЕНИЕ 5 августа был убит псковский священник Павел Адельгейм
|
|
Понравилось: 1 пользователю
ПРЕОБРАЖЕНИЕ В МАЛОДОРАХ. |
По слову старца
Ещё в начале лета, когда я был в посёлке Октябрьский Устьянского района Архангельской области и встречался с иеромонахом Валентином (Егоровым), батюшка предложил мне съездить к нему на приход в село Малодоры. «Там огромный Спасо-Преображенский собор мы восстанавливаем, – сообщил он. – Таких больших храмов я не видел не только в Архангельской области, но и в других епархиях. Ему в этом году 180 лет исполняется».
И вот ранним утром, вместе с иеромонахом и его мамой Лидией Степановной, мы отправились в путь на легковой машине. Своей машины у батюшки нет, на службу попасть – приходится договариваться с частниками или ездить автобусом. От райцентра до Малодор километров тридцать, так что было время расспросить священника.
– До революции здесь, в Устьянском районе, было 16 храмов, – рассказывает батюшка. – К 1940 году все закрыли. Сейчас они стёрты с лица земли или лежат в развалинах. Более-менее сохранилась только Преображенская церковь, она оказалась не по зубам богоборцам. Но колокольню, с которой звон раздавался на 20 километров, всё же сумели сломать. Внутри храма разместили ремонтно-тракторные мастерские, всё закоптили, загадили, а потом бросили здание с разбитыми окнами и дырявой крышей. Ох, много теперь работы...
– Батюшка, а как вы на этот приход попали? И как в монашество пришли? Дорога долгая, может, расскажете? – попросил я отца Валентина.
И он стал вспоминать:
– Когда в 95-м году я взялся организовать приход в Шангалах (об этом мы писали в очерке Несгоревшая память, №592 «Веры»), то увидел себя во сне в монашеском клобуке и подряснике. Тогда я ещё не знал, что это за головной убор. Потом я был церковным старостой, одновременно пел в церковном хоре. И настоятель наш, отец Михаил Савочкин, начал уговаривать меня стать дьяконом. «Давай, – говорит, – я буду хлопотать перед епископом Тихоном, храму дьякон нужен. Знаешь, какая служба будет красивая!» А чтобы мне стать дьяконом, нужно, по церковным канонам, жениться. Невесты у меня не было, этот вопрос так быстро не решить, а батюшка торопит – и меня рукоположили в дьяконы целибатом.
С отцом Михаилом служил я недолго. Он сам родом из Шарлыкского района Оренбургской области – со своей матушкой приезжал на Север миссионерствовать. Но через два года по состоянию здоровья и семейным причинам они вынуждены были вернуться. Оттуда, с Оренбуржья, стал он мне звонить: «Переводись к нам, Бог даст, рукоположат тебя в иереи». Священник им нужен был для соседнего села Секретарка – местный староста сбился с ног в поисках настоятеля. Потом и сам староста этого храма, Николай Дмитриевич Зяблов, стал мне звонить. В конце концов они меня уговорили. Подал я прошение на имя владыки и в январе 2003 года уехал к отцу Михаилу.
Какое-то время служил с отцом Михаилом в селе Северное, а староста Николай Дмитриевич всё не отступал от меня: «Давай поедем в Оренбург к владыке Валентину. Я буду хлопотать, чтобы тебя рукоположили во священники и направили к нам на приход». Наконец в начале Великого поста мы с Николаем Дмитриевичем и с его духовником, известным на всю Россию старцем схиархимандритом Серафимом (Томиным), поехали в Оренбург. И вот ведь какие удивительные бывают совпадения! К владыке мы приехали 2 марта, а 1 марта из Москвы в Оренбург пришла весть: указом Святейшего Патриарха Алексия II архиепископ Валентин возведён в сан митрополита. А схиархимандрит Серафим является не только духовником всей Оренбургской епархии, но и самого владыки Валентина. Так что попали мы очень кстати...
– Получается, за вас просил сам старец Серафим? – прерываю рассказ священника.
– Да, так повезло, – подтверждает иеромонах. – У отца Серафима удивительная судьба. Родился он в 1923 году. Едва научившись ходить, стал прислуживать при храме. В 1937 году принял монашеский постриг, – кажется, никого по монашескому постригу старше его в России нет. В своё время он много претерпел за веру, потерял один глаз, потом спасался в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Затем, вернувшись в Россию, в качестве благочинного восстанавливал Свято-Даниловский монастырь в Москве, потом – Киево-Печерскую лавру.
Не раз я убеждался, что старец Серафим обладает прозорливостью. Он многое мне предсказал наперёд, хотя об этом пока нельзя говорить. К нему со всей России едут люди за молитвенной помощью. Я слышал, как при мне звонил ему и Патриарх Алексий, советовался по каким-то важным церковным вопросам. Ещё батюшка Серафим очень строг, далеко не всех благословляет на постриг. В Оренбургской епархии он по афонскому уставу основал Свято-Андреевскую обитель и брал туда только девственников. Разведённые, отсидевшие в тюрьмах в обитель не принимались. Поэтому у него и братии немного. В то время, когда я там был, всего 17 человек подвизалось.
– А почему монастырь он устроил именно в Оренбуржье? – не понял я.
– Так ведь старец родом оттуда, из Шарлыкского района. И отец Михаил Савочкин – его земляк. Собственно, сам старец Серафим и благословил его строить храм в селе Секретарка и, конечно, был заинтересован, чтобы там появился священник. Вот так чудесным образом всё складывалось в мою пользу.
Когда мы пришли в дом митрополита, отец Серафим, несмотря на свои старческие немощи, сказал бодрым голосом: «Владыка, я вас поздравляю с возведением в сан митрополита, аксиос!» Все мы были преисполнены возвышенных чувств. «Владыка святый, – дальше продолжает батюшка, – ну что же это такое творится? Николай Дмитриевич построил такой замечательный храм в селе Секретарка, и там доселе нет священника. Люди ведь верующие, хотят исповедоваться, причащаться, а священника нет уже семь лет. Ну что же это такое творится?!» Митрополит внимательно выслушал его, а потом и говорит: «К своему стыду, я ни разу в Секретарке не был. Ну да ладно, будем думать, как туда священника поставить». И тут они сразу меня представляют. Митрополит стал задавать мне вопросы, побеседовал. «Хорошо, – говорит он, – я вас благословляю в Свято-Никольский кафедральный собор на послушание. Пока там послужите, а потом посмотрим».
Где-то недели через три настоятель собора отец Василий Лишенюк спрашивает меня: «Отец Владимир (в сане дьякона я был Владимиром), слушай, ты вообще имеешь представление о монашестве, в каких-нибудь монастырях бывал?» «Да, мне доводилось служить в Антониево-Сийском монастыре, – отвечаю ему. – Я в хороших отношениях с архимандритом Трифоном. Монахи Сийского монастыря шутили: курица не птица, целибат не человек». «Вот и хорошо, – говорит отец Василий. – А то мне владыка сказал так: “Я его не рукоположу во священники, пока он не примет монашество”». И вот после этого разговора меня направили в Свято-Андреевский монастырь принимать монашеский постриг. Ещё рукополагаясь в дьяконы, будучи неженатым, я прекрасно понимал, что путь только один – монашество. И вот Господь управил всё своим чередом. Недели через полторы меня постригли в мантию в честь священномученика Валентина Дороскольского, небесного покровителя владыки Валентина. Тогда же, весной 2004-го, рукоположили в иеромонаха.
Главный придел
– А как вы на родину обратно вернулись? – спрашиваю отца Валентина.
– Вскоре умер у меня отчим. Мама осталась одна и после смерти близкого человека сильно заболела. У неё я только один остался, а её нужно было срочно спасать: везти в больницу в Архангельск, ухаживать. Митрополит вначале не хотел меня отпускать, и опять мне помог схиархимандрит Серафим, который вступился за меня: «Владыка, а что его держать?! Он будет у нас, а всеми мыслями там, на родине, с матерью. Так что отпустите его, не держите». И я вернулся в Устьянский район.
С мамой только в архангельскую больницу пришлось ездить четыре раза, болезнь оказалась серьёзной. В Октябрьском, в нашем райцентре, я был вторым священником. А потом, в 2006 году, владыка назначил меня в Малодоры настоятелем Спасо-Преображенского собора и прихода села Шанга.
– Получается, вам доверили восстанавливать самый большой в епархии храм. Не боязно было браться?
– Если так, со стороны посмотреть, то, конечно, руки опустятся. Но когда вникнешь в это дело...
Такой огромный собор здесь построили потому, что людей жило много. До революции в этой волости находилось 22 деревни, это более пяти тысяч человек. И все они были верующие, в церковь ходили. Сейчас от деревень осталась половина, а жителей – около тысячи человек, и далеко не все верующие. И большой храм здесь вроде теперь ни к чему. Но восстановить его вполне реально. Дело в том, что в советское время тут был передовой колхоз Костылевский, много скота держали, много зерна намолачивали. Лучшие работники колхоза, орденоносцы в последние годы пришли к Богу. А кто не стал верующим, всё равно в стороне не остаётся. Вот рядом с храмом живёт Борис Иванович Кузнецов, он всю жизнь был коммунистом, работал в Ленинграде, там стал кавалером орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Выйдя на пенсию, вернулся в родное село. Он и поныне верен коммунистическим идеям. В церкви я его ни разу не видел, но если мы объявляем субботник по уборке церковной территории, то является одним из первых. То есть люди хотят вернуть былую красоту.
Нежданно появились и средства. Когда от колхоза оставались рожки да ножки, группа предприимчивых молодых ребят выкупила его акции и ещё нескольких ближайших совхозов. Создали они ТО «Малодоры», сейчас это агрофирма «Устьянская». На сегодняшний день это самое крупное и самое передовое сельхозпредприятие района. Суточный надой молока – 15-16 литров на корову. Масло и молоко теперь поставляются за пределы района, их можно купить в Вельске, Архангельске, Северодвинске и ещё в нескольких городах и районах Архангельской области. Сбыт налажен также на Вологодскую область и дальше на юг – в сторону Москвы. И храму нашему агрофирма очень помогает – она главный наш попечитель.
…Тем временем машина подъехала к селу. Слева от дороги на высокой горе открылась деревня Спасская с величественным Спасо-Преображенским собором. Чтобы туда подняться, нужно проехать вдоль горы до начала улицы, которая ведёт к храму. Я попросил водителя остановиться и решил оставшуюся часть пути пройти пешком. Чем выше в гору, тем красивей панорама. От собора прекрасный вид не только на село, что раскинулось под горой, но и на всю округу – с оврагами, дальними лесами и полями. Умели наши предки выбирать места для храмов! Обхожу собор со всех сторон. Раньше вокруг него располагалось большое кладбище, внутри церковной ограды. Но от него ничего не осталось, только какие-то огромные бетонные нагромождения, как от дотов, ямы да холмы. Что-то хотела построить новая власть, да бросила.
Вхожу в собор. Огромное внутреннее пространство пока что представляет собой большое поле голой земли под протекающей крышей. Раньше здесь было три придела – в честь Преображения Господня, Покрова Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Сейчас для богослужений приспособлено помещение алтаря центрального придела. Иконостаса ещё нет, окна заделаны досками, внутри холодно и гуляет ветер. Как здесь батюшка служил зимой – непонятно. Отец Валентин простужен, постоянно болеет. После того как в храме начались службы, некоторые старинные иконы обновились. Иконы висят на стенах между окон и расставлены на подоконниках.
На богослужение пришло около десяти старушек. Лидия Степановна, мама батюшки, продаёт им свечи, помогает правильно подать записки. Батюшка служит один, ни хора, ни других помощников у него нет. Когда он поёт, то замечательная акустика, усиливая его голос, разносит по всему храму и поднимает высоко под купол.
Дар храму
Специально на службу из села Шангалы (это более сотни километров) приехала Нина Ивановна Бурцева, которая раньше жила в деревне Спасской. Нина Ивановна – известная рукодельница и мастерица, своими изделиями (подушечками, ковриками, вышитыми гобеленами) обеспечила уже всю округу. Последнее время она плетёт иконы из бисера, вот и сейчас в подарок церкви привезла две большие иконы.
После службы, когда мы вышли на улицу, я разговорился с мастерицей.
– Мой дом вон там, на горке, стоял, – показала она рукой. – Ниже собора ещё одна церковь была, деревянная, там клуб сделали, кино крутили. Так я всю свою молодость в этот клуб на танцы пробегала. Тогда мы не понимали, что это грех. А когда кино шло, то точно так же сильно по всему храму эхо раздавалось, как здесь. Как храмы закрывали, я не помню, потому что родилась позже. А вот мой дядя, он и сейчас живой, рассказывает, что когда колокола сбрасывали, то внизу специально камней навозили, чтобы, упав, колокол о них разбился. Вручную-то не смогли бы расколоть. Пытались и сам храм сломать. Когда здесь была МТС, то решили расширить ворота для въезда техники – зацепили тросом за кирпичное столбовое перекрытие и потянули трактором. Порвали несколько толстенных тросов, а столб так и остался стоять.
Нина Ивановна и её муж Валентин Иванович предложили подвезти нас до Октябрьского. «Интересно получилось, – подумал я, – по дороге в Малодоры расспрашивал я священника, а на обратном пути буду “пытать” прихожан». Узнав, что свои иконки из бисера Нина Ивановна раздарила уже многим храмам и просто знакомым людям, спросил у неё:
– Но это, наверное, дорогое удовольствие?
– Ничего, мне нисколько не жалко, – отвечает мастерица. – Очень нравится заниматься этим делом. Пока жива, всем своим детям и внукам образа сделаю, пусть помнят.
– А сколько денег ушло хотя бы вот на эти две иконы, что привезли в Преображенский собор?
– Около двух тысяч на икону, это только на бисер. Я его заказываю в Москве. Одну икону делаю месяц, иногда побольше. В пять утра встаю, помолюсь и принимаюсь за работу. И целый день так работаю, с молитвой, иногда отвлекаясь на дела домашние. Мне нравится рукодельничать, лучше иной раз пол не вымою, а подольше над иконой посижу.
– И где вы научились рукоделию?
– С детства мама научила – делать покрывала, ковры, накидки на диваны и кресла. Их у меня тоже много, по всей России разошлись, до Дальнего Востока. А плетению из бисера научилась по самоучителю. Раньше просто на полотне вышивала, а сейчас у меня специальный станок, на нём хорошо получается.
– А к Богу-то давно пришли?
– Да где уж давно – недавно, – отвечает за супругу Валентин Иванович, одновременно следя за дорогой. – Ничего мы не знали, никаких постов не соблюдали. Три года назад Великим постом поехали на своей машине в Вологду на юбилей родственника. Весь день там гуляли, а утром в Страстную пятницу отправились обратно домой. И вот я еду, а у меня как будто руки парализовало, будто оцепенение какое нашло: машиной управлять не могу. И мы на полной скорости улетели в кювет, несколько раз перевернулись, дверка вылетела, сиденья отлетели. Я рёбра поломал, жена тоже вся поломанная, в шрамах в больнице пролежала полмесяца. Потом долго не мог понять, что это такое со мной случилось, почему руки-то вдруг перестали слушаться? А потом понял: нас Бог наказал, потому что согрешили, пьянку на Страстной седмице устроили. Только за ремонт машины пришлось заплатить 20 тысяч, да ещё всякие непредвиденные расходы вылезли. Как только поправились, сразу же поехали в церковь креститься и венчаться. Теперь в Великий пост не гуляем и вообще в церковные праздники не работаем. Потому что и другие знаки были: как в праздник картошку посадишь, так она обязательно не вырастет. Дочка вот хотела постирать бельё на Пасху, так у неё стиральная машина сгорела. Лучше с Богом жить, не гневить Его.
Валентину Ивановичу около семидесяти. Он рассказывает про аварию, про Божье наказание и, как заправский автогонщик, лихо несётся по дороге на своих стареньких «Жигулях». Поглядел я на спидометр, а там стрелка убежала за сто километров. И это по сельским дорогам – с колдобинами, рытвинами, неожиданными поворотами... Эх, русский человек! Уж если разуверится, так дойдёт до самого дна. А если поверит – всю жизнь свою отдаст на волю Божию. Может, за это и прощает нас Господь?
* * *
Возвратившись домой, я долго с большой теплотой вспоминал поездку в Устьянский район, где встретил много замечательных людей и приобрёл новых молитвенников. Переживая за здоровье отца Валентина, недавно созвонился с ним, спросил, как идут дела.
– Да ничего, слава Богу, всё хорошо, – слышу в трубке знакомый голос. – Занимаемся ремонтом собора. За лето многое успели сделать: иконостас поставили, ту часть, где мы служим, оштукатурили внутри и снаружи. Главный купол перекрыли, кресты ждём из Ростовской области, скоро привезут. Сейчас окна вставляем, надеюсь, что эту зиму мёрзнуть не будем. Да, – вспоминает батюшка, – у меня появился певчий – инок Владимир Григорьев из Антониево-Сийского монастыря, архимандрит Трифон нам прислал. Служить стало намного легче.
– Слава Богу! – радуюсь вместе со священником добрым переменам. – Бог вам в помощь!
Евгений СУВОРОВ
http://rusvera.mrezha.ru/596/4.htm
|