-–убрики
- сво (4)
- я√ƒкоманды (3)
- јктЄры и судьбы (3140)
- јнтичность (158)
- јртефакты (39)
- Ѕалет как искусство (118)
- Ѕандеровцы (2)
- Ѕез срока давности (12)
- Ѕела€ гварди€ (15)
- Ѕелки (69)
- Ѕелое движение (8)
- бессмертный полк (91)
- бесшовные фоны дл€ дневников (65)
- блины,оладь€ (165)
- Ѕлокада Ћенинграда (216)
- Ѕлюда в горшочках (75)
- блюда дл€ микроволновке (9)
- блюда дл€ пароварки (1)
- блюда дл€ поста (2)
- блюда из овощей (111)
- блюда из птицы (304)
- большевизм и терроризм (4)
- Ѕылины,мифы и легенды (166)
- ¬ мире сказок (1)
- варенье (9)
- ¬елика€ ќтечественна€ ¬ойна (3531)
- вечерний кинозал (302)
- видео (296)
- ¬идеоплееры дл€ Ћиру (1)
- ¬оенна€ истори€ (793)
- военна€ поэзи€ (56)
- ¬осток дело тонкое (44)
- ¬сЄ каждого знака зодиака (44)
- ¬тора€ ћирова€ война (254)
- вторые блюда (920)
- выпечка (436)
- гадание (1)
- √лазурь (4)
- голос за кадром (4)
- √орные стрелки (48)
- города моей души (54)
- √орода-√ерои (58)
- √ородские легенды (348)
- ƒекор (2)
- ƒень ѕобеды, как ты стал дл€ нас далекЕ (48)
- десерт (132)
- детска€ страничка (5)
- ƒл€ дневника (52)
- древние слав€не (253)
- ƒревний ≈гипет (100)
- дрожжева€ выпечка (34)
- друзь€м (1)
- женские фразы (1)
- ∆енщины оставившие след в истории (911)
- женщины-воины (374)
- ∆енщины-надзирательницы (7)
- ∆енщины-палачи (19)
- женщины-убийцы (13)
- ∆енщины-шпионки и разведчики (69)
- ∆ивопись (1498)
- ∆ивотные (901)
- ∆изнь замечательных людей (1)
- загадки истории,исчезнувшие цивилизации (444)
- заградотр€ды (15)
- «акон (1)
- закуски (370)
- замки (46)
- запеканки (211)
- «одчество (8)
- »нформационна€ война (32)
- »нформаци€ к размышлению (3)
- »скусство (4875)
- »скусство в годы ¬еликой ќтечественной войны (75)
- »сторическое расследование (89)
- истори€ (2497)
- истори€ вещей (239)
- »стори€ одного танца (22)
- истори€ одного фильма (2171)
- истори€ одной любви (432)
- истори€ одной песни (205)
- истори€ праздников (262)
- азахстан (6)
- казачество (118)
- аши (4)
- луб путешественников (1195)
- книжна€ полка (186)
- коллаборационизм (24)
- консервирование (45)
- концлагер€ (165)
- космонавтика (112)
- котоматрица (1252)
- кошки (2440)
- креатив (2)
- ровавые преступники (2)
- куклы (599)
- курица (133)
- ландшафтный дизайн (2)
- Ћеонардо да ¬инчи (19)
- Ћ»–”ЎЌџ… ‘Ћ≈ЎћќЅ (18)
- Ћичное (486)
- маленькие герои (2)
- малые города –оссии (9)
- ћаршалы ѕобеды (35)
- ћедали (23)
- мир вокруг нас (37)
- ћир-новости (25)
- мистика (157)
- мода и стиль (133)
- моЄ детство (0)
- ћо€ нига пам€ти (17)
- музыка (34)
- ћузыка и лирика (108)
- ћузыкальна€ гостина€. –оманс. (61)
- ћулен –уж (8)
- ћы все родом из ———– (681)
- мысли в слух (35)
- м€со (337)
- нам любимым (102)
- напитки (48)
- Ќародна€ медицина (6)
- народные приметы (1)
- Ќј–ќƒЌџ≈ –≈÷≈ѕ“џ (1)
- Ќастроение (1)
- Ќеверо€тные артефакты (46)
- Ќепознанное и неизведанное (294)
- Ќоворосси€ (110)
- нумизматика (11)
- нумирологи€ (13)
- олимпиад 2016 (82)
- онлайн-программа дл€ изменени€ размера фотографий (1)
- ордена (45)
- ќружие (167)
- ќткрытки (212)
- очевидное не веро€тное,но факт (54)
- ѕасха (69)
- пась€нс (1)
- песни из кинофильмов (1)
- ѕираты (29)
- писатели и судьбы (564)
- писатели-фантасты,предсказатели (33)
- ѕицца (32)
- плюшевые мишки (3)
- ѕо мор€м по волнам (30)
- ѕожелайки (14)
- поздравлени€ (317)
- политика (1462)
- помощь (208)
- пословицы и поговорки (8)
- ѕостный стол (7)
- поэзи€ Ѕелого движени€ (2)
- предсказатели (11)
- ѕриметы (5)
- природа (166)
- ѕриродные аномалии (1)
- притчи (26)
- прокл€тые картины (39)
- прокл€тые роли (32)
- ѕрототипы литературных героев (171)
- ѕсихологи€ (81)
- ѕ€та€ колона в –оссии (109)
- –амочка дл€ дневника 1 ма€ (4)
- рамочка дл€ дневника ¬ознесение √осподне (2)
- рамочка дл€ дневника доброе утро (98)
- –амочка дл€ дневника ѕрощЄнное воскресение (4)
- –амочка дл€ дневника с днЄм рождени€ дневничка (5)
- –амочка дл€ дневника с днЄм семьи,любви и верности (6)
- –амочки дл€ дневника (1985)
- –амочки дл€ дневника —в€та€ “роица (9)
- рамочки дл€ дневника 23 феврал€ (53)
- –амочки дл€ дневника 8 марта (43)
- рамочки дл€ дневника 9 ма€ (88)
- –амочки дл€ дневника Ѕлаговещени€ ѕресв€той Ѕогоро (7)
- –амочки дл€ дневника вербное воскресение (59)
- –амочки дл€ дневника весенние (696)
- –амочки дл€ дневника детские (93)
- –амочки дл€ дневника доброго вечера (58)
- рамочки дл€ дневника животные (317)
- –амочки дл€ дневника зима (1329)
- –амочки дл€ дневника рещение (20)
- рамочки дл€ дневника кулинарные (172)
- –амочки дл€ дневника лето (217)
- –амочки дл€ дневника люди (2221)
- –амочки дл€ дневника ћасленица (39)
- рамочки дл€ дневника осенние (661)
- –амочки дл€ дневника ѕасха (92)
- рамочки дл€ дневника поздравительные (62)
- –амочки дл€ дневника простые (209)
- –амочки дл€ дневника простые природа (58)
- –амочки дл€ дневника простые цветочные (137)
- рамочки дл€ дневника религи€ (120)
- –амочки дл€ дневника –ождество (68)
- рамочки дл€ дневника с днЄм рождени€ (125)
- –амочки дл€ дневника с новым годом (326)
- рамочки дл€ дневника со старым новым годом (184)
- рамочки дл€ дневника цветочные (277)
- –амочки дл€ дневника юбилейные (7)
- –амочки дл€ дневника €годные (35)
- –амочки прощЄнное воскресение (1)
- –елиги€ (213)
- рецепты (4332)
- рецепты дл€ хлебопечки (1)
- –ецепты к ѕасхе (4)
- –осси€ (832)
- –усское дерев€нное зодчество (7)
- рыба (186)
- –ыцарство (44)
- салаты (419)
- серийники (6)
- сказка ложь,да в ней намЄк (123)
- сказки (118)
- сладка€ выпечка (565)
- советы (18)
- —ќ¬»Ќ‘ќ–ћЅё–ќ (35)
- соус (9)
- соусы (7)
- спецслужбы (152)
- —талин и сталинизм (153)
- —“ј–џ… ѕј“≈‘ќЌ (66)
- —тикеры (1)
- стишки-вершки (2570)
- суивери€ и приметы (11)
- супы,борщи (43)
- схемы дл€ дневника (4554)
- терроризм (2)
- “есто (35)
- “есты (125)
- “орты (157)
- традиции народов мира (152)
- “ретий –ейх (325)
- у войны женское лицо (233)
- ужасы истории (45)
- украина (93)
- ”краина.¬ойна (352)
- украшени€ блюд (1)
- ”ниформа (55)
- упражнени€ (1)
- философи€ (2)
- фолк-рок (0)
- фотоальбом (0)
- фруктовые салаты (1)
- ’удожники и судьбы (97)
- ÷веты,букеты. (1)
- чтобы помнили (7)
- Ёзотерика (30)
- Ёссе (19)
- это должен знать каждый (51)
- это должен знать каждый ребЄнок (29)
- это интересно (885)
- ювелирка и антиквариат (93)
- юмор (1162)
-÷итатник
–амочка. ...“екст... ...“екст...
–амочка "ћаки" - (0)–амочка "ћаки" ...“екст... ...“екст...
–амочка "јх, лето"... - (0)–амочка "јх, лето"... ...“екст... ...“екст...
–амка"«вонок под дождем" - (0)–амка"«вонок под дождем" “≈ —“ “≈ —“
–амка"ƒвое" - (0)–амка"ƒвое" “≈ —“ “≈ —“
-ћетки
-ѕриложени€
 я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо
я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^
ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее
¬сегда под рукойаналогов нет ^_^
ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее —тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.
ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить
—тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.
ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом!
ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом!
-—сылки
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-ƒрузь€
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
-“рансл€ции
-—татистика
«аписей: 60178
омментариев: 118719
Ќаписано: 271472
ƒругие рубрики в этом дневнике: юмор(1162), ювелирка и антиквариат(93), это интересно(885), это должен знать каждый ребЄнок(29), это должен знать каждый(51), Ёссе(19), Ёзотерика(30), чтобы помнили(7), ÷веты,букеты.(1), ’удожники и судьбы(97), фруктовые салаты(1), фотоальбом(0), фолк-рок(0), философи€(2), упражнени€(1), ”ниформа(55), украшени€ блюд(1), ”краина.¬ойна(352), украина(93), ужасы истории(45), “ретий –ейх(325), традиции народов мира(152), “орты(157), “есты(125), “есто(35), терроризм(2), схемы дл€ дневника(4554), супы,борщи(43), суивери€ и приметы(11), стишки-вершки(2570), —тикеры(1), —“ј–џ… ѕј“≈‘ќЌ(66), —талин и сталинизм(153), спецслужбы(152), соусы(7), соус(9), —ќ¬»Ќ‘ќ–ћЅё–ќ(35), советы(18), сладка€ выпечка(565), сказки(118), сказка ложь,да в ней намЄк(123), серийники(6), сво(4), салаты(419), –ыцарство(44), рыба(186), –усское дерев€нное зодчество(7), –осси€(832), –ецепты к ѕасхе(4), рецепты дл€ хлебопечки(1), рецепты(4332), –елиги€(213), –амочки прощЄнное воскресение(1), –амочки дл€ дневника €годные(35), –амочки дл€ дневника юбилейные(7), рамочки дл€ дневника цветочные(277), рамочки дл€ дневника со старым новым годом(184), –амочки дл€ дневника с новым годом(326), рамочки дл€ дневника с днЄм рождени€(125), –амочки дл€ дневника –ождество(68), рамочки дл€ дневника религи€(120), –амочки дл€ дневника простые цветочные(137), –амочки дл€ дневника простые природа(58), –амочки дл€ дневника простые(209), рамочки дл€ дневника поздравительные(62), –амочки дл€ дневника ѕасха(92), рамочки дл€ дневника осенние (661), –амочки дл€ дневника ћасленица(39), –амочки дл€ дневника люди(2221), –амочки дл€ дневника лето(217), рамочки дл€ дневника кулинарные(172), –амочки дл€ дневника рещение(20), –амочки дл€ дневника зима(1329), рамочки дл€ дневника животные(317), –амочки дл€ дневника доброго вечера(58), –амочки дл€ дневника детские(93), –амочки дл€ дневника весенние(696), –амочки дл€ дневника вербное воскресение(59), –амочки дл€ дневника Ѕлаговещени€ ѕресв€той Ѕогоро(7), рамочки дл€ дневника 9 ма€(88), –амочки дл€ дневника 8 марта(43), рамочки дл€ дневника 23 феврал€(53), –амочки дл€ дневника —в€та€ “роица(9), –амочки дл€ дневника(1985), –амочка дл€ дневника с днЄм семьи,любви и верности(6), –амочка дл€ дневника с днЄм рождени€ дневничка(5), –амочка дл€ дневника ѕрощЄнное воскресение(4), рамочка дл€ дневника доброе утро(98), рамочка дл€ дневника ¬ознесение √осподне(2), –амочка дл€ дневника 1 ма€(4), ѕ€та€ колона в –оссии (109), ѕсихологи€(81), ѕрототипы литературных героев(171), прокл€тые роли(32), прокл€тые картины(39), притчи(26), ѕриродные аномалии(1), природа(166), ѕриметы(5), предсказатели(11), поэзи€ Ѕелого движени€(2), ѕостный стол(7), пословицы и поговорки(8), помощь(208), политика(1462), поздравлени€(317), ѕожелайки(14), ѕо мор€м по волнам(30), плюшевые мишки(3), ѕицца(32), писатели-фантасты,предсказатели (33), писатели и судьбы(564), ѕираты(29), песни из кинофильмов(1), пась€нс(1), ѕасха(69), очевидное не веро€тное,но факт(54), ќткрытки(212), ќружие(167), ордена(45), онлайн-программа дл€ изменени€ размера фотографий(1), олимпиад 2016(82), нумирологи€(13), нумизматика(11), Ќоворосси€(110), Ќепознанное и неизведанное(294), Ќеверо€тные артефакты (46), Ќастроение(1), Ќј–ќƒЌџ≈ –≈÷≈ѕ“џ(1), народные приметы(1), Ќародна€ медицина(6), напитки(48), нам любимым(102), м€со(337), мысли в слух(35), ћы все родом из ———–(681), ћулен –уж(8), ћузыкальна€ гостина€. –оманс.(61), ћузыка и лирика(108), музыка(34), ћо€ нига пам€ти(17), моЄ детство(0), мода и стиль(133), мистика(157), ћир-новости(25), мир вокруг нас(37), ћедали(23), ћаршалы ѕобеды(35), малые города –оссии(9), маленькие герои(2), Ћичное(486), Ћ»–”ЎЌџ… ‘Ћ≈ЎћќЅ(18), Ћеонардо да ¬инчи(19), ландшафтный дизайн(2), курица(133), куклы(599), ровавые преступники(2), креатив(2), кошки(2440), котоматрица(1252), космонавтика(112), концлагер€ (165), консервирование(45), коллаборационизм(24), книжна€ полка(186), луб путешественников(1195), аши(4), казачество(118), азахстан(6), истори€ праздников(262), истори€ одной песни(205), истори€ одной любви(432), истори€ одного фильма(2171), »стори€ одного танца(22), истори€ вещей(239), истори€(2497), »сторическое расследование(89), »скусство в годы ¬еликой ќтечественной войны(75), »скусство(4875), »нформаци€ к размышлению(3), »нформационна€ война(32), «одчество(8), запеканки(211), замки(46), закуски(370), «акон(1), заградотр€ды(15), загадки истории,исчезнувшие цивилизации(444), ∆изнь замечательных людей(1), ∆ивотные(901), ∆ивопись(1498), ∆енщины-шпионки и разведчики(69), женщины-убийцы(13), ∆енщины-палачи(19), ∆енщины-надзирательницы(7), женщины-воины(374), ∆енщины оставившие след в истории(911), женские фразы(1), друзь€м(1), дрожжева€ выпечка(34), ƒревний ≈гипет(100), древние слав€не(253), ƒл€ дневника(52), детска€ страничка(5), десерт(132), ƒень ѕобеды, как ты стал дл€ нас далекЕ(48), ƒекор(2), √ородские легенды(348), √орода-√ерои(58), города моей души(54), √орные стрелки(48), голос за кадром(4), √лазурь(4), гадание(1), выпечка(436), вторые блюда(920), ¬тора€ ћирова€ война(254), ¬сЄ каждого знака зодиака(44), ¬осток дело тонкое(44), военна€ поэзи€(56), ¬оенна€ истори€(793), ¬идеоплееры дл€ Ћиру(1), видео(296), вечерний кинозал(302), ¬елика€ ќтечественна€ ¬ойна(3531), варенье(9), ¬ мире сказок(1), Ѕылины,мифы и легенды(166), большевизм и терроризм(4), блюда из птицы(304), блюда из овощей(111), блюда дл€ поста(2), блюда дл€ пароварки(1), блюда дл€ микроволновке(9), Ѕлюда в горшочках(75), Ѕлокада Ћенинграда(216), блины,оладь€(165), бесшовные фоны дл€ дневников(65), бессмертный полк(91), Ѕелое движение(8), Ѕелки(69), Ѕела€ гварди€(15), Ѕез срока давности(12), Ѕандеровцы(2), Ѕалет как искусство(118), јртефакты(39), јнтичность(158), јктЄры и судьбы(3140), я√ƒкоманды (3)
∆енщины на войне |
ƒневник |

¬оспоминани€ женщин-ветеранов из книги —ветланы јлексиевич из книги «” войны не женское лицо». ѕравда про женщин на войне, о которой не писали в газетах.
ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
ћари€ ќкт€брьска€ |
ƒневник |
ћари€ ќкт€брьска€ — гвардии сержант, √ерой —оветского —оюза. ¬ годы ¬еликой ќтечественной войны на собственные сбережени€ построила танк “-34 «Ѕоева€ подруга», став его механиком-водителем.
–одилась ћари€ 16 августа 1905 года деревне и€т, ныне село Ѕлижнее расногвардейского района јвтономной республики рым. огда в 1941 году погим на фронте муж ћарии ¬асильевны, она обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Ќесколько раз ей отказывали из-за перенесенных болезней и возраста. “огда ќкт€брьска€ избрала иной путь. ¬ ту пору по всей стране шел сбор средств в фонд обороны. » ћари€ ¬асильевна решила купить ... танк. ¬месте со своей сестрой они на рынке распродали все вещи, которые успели нажить и сумели вывезти во врем€ эвакуации, продавали вышивки ћарии. огда деньги собраны и сданы в госбанк, ћари€ ¬асильевна направила телеграмму —талину.
ѕредседателю √осударственного омитета обороны. ¬ерховному √лавнокомандующему.
ћосква, ремль
3 марта 1943 г.
“¬ бо€х за –одину погиб мой муж — полковой комиссар ќкт€брьский »ль€ ‘едотович. «а его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, дл€ чего внесла в госбанк на построение танка все свои сбережени€ — 50 000 рублей. “анк прошу назвать “Ѕоева€ подруга” и направить мен€ на фронт в качестве водител€ этого танка. »мею специальность шофера, отлично владею пулеметом, €вл€юсь ¬орошиловским стрелком…”
ќкт€брьска€ ћари€ ¬асильевна, г. “омск, Ѕелинского, 31
“еми же дн€ми был получен ответ:
“омск. ћарии ¬асильевне ќкт€брьской.
“Ѕлагодарю ¬ас, ћари€ ¬асильевна, за ¬ашу заботу о бронетанковых силах расной јрмии. ¬аше желание будет исполнено. ѕримите мой привет, »осиф —талин”.
ћари€ окт€брьска€ направл€етс€ в ќмское танковое училище. ¬се экзамены она сдала на "отлично" и получила свидетельство механика-водител€. Ќа ”рале, пр€мо с заводского конвейера, рабочие вручили ей танк, на броне которого было выведено "Ѕоева€ подруга".

Ёкипаж танка в составе командира - младшего лейтенанта ѕетра „еботько, башенного стрелка - сержанта √еннади€ ясько, стрелка-радиста - ћихаила √алкина и водител€-механика - сержанта ћарии ќкт€брьской, был зачислен состав 26-ой ≈льнинской гвардейской танковой бригады «ападного фронта.¬ первом же бою ћари€ ¬асильевна убедилась в отличных качествах своей машины. омандир батальона поблагодарил по радио экипаж “Ѕоевой подруги”, поздравил с успешным выполнением боевой задачи. 14 но€бр€ 1943 года часть перебросили на новое направление, где сопротивление противника было особенно €ростным. “Ѕоева€ подруга” шла в первом эшелоне атакующих.
…¬ середине €нвар€ 1944 года состо€лс€ бой в районе совхоза рынка ¬итебской области. ћари€ ¬асильевна на своем танке прорвала оборону противника, но танк был подбит. ѕод шквальным огнем противника, будучи раненой, она смогла отремонтировать танк и вернутьс€ в часть.Ќа самолете ћарию ¬асильевну доставили в —моленск, где хирург осмотрел рану. —делать что-либо было трудно: осколок, пробив глаз, коснулс€ большого полушари€ мозга. Ќа рассвете, 15 марта 1944 года ћари€ ¬асильевна ќкт€брьска€ умерла. ѕохоронили ее в —моленском кремле, на берегу ƒнепра, р€дом с геро€ми ќтечественной войны 1812 года.


ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
√ероические советские женщины-снайперы |
ƒневник |

28 €нвар€ 1945 года погибла –оза Ўанина — советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек. ¬о врем€ ¬еликой ќтечественной войны женщины-снайперы многое сделали дл€ защиты нашей –одины. Ќекоторые из них уничтожили дес€тки фашистов и совершили удивительные подвиги. ћы расскажем о семи знаменитых советских женщинах-снайперах.
–ќ«ј ЎјЌ»Ќј
–оза ≈горовна Ўанина (3 €нвар€ 1924 — 28 €нвар€ 1945 года) — cоветский одиночный снайпер отдельного взвода девушек второго стрелкового батальона. –оза Ўанина — перва€ женщина-снайпер и первый военнослужащий 3-го Ѕелорусского фронта, удостоенный ордена —лавы II и III степеней.–оза Ўанина была известна своей способностью вести точную стрельбу по движущимс€ цел€м. ќна записала на свой счет 59 уничтоженных солдат и офицеров противника, среди которых было 12 вражеских снайперов. ƒевушка участвовала в боевых действи€х меньше года, но была известна. √азеты союзников называли –озу Ўанину «невидимым ужасом ¬осточной ѕруссии».ќкончив снайперскую школу с отличием, 1 апрел€ 1944 года –оза Ўанина была направлена на фронт. ѕо ее словам, после убийства первого вражеского солдата ее ноги подкосились, и она, соскользнув в окоп, сказала: «я убила человека». ќднако несколько мес€цев спуст€ в своем дневнике девушка писала, что теперь она убивает врагов хладнокровно. ¬ €нваре 1945 года, прикрыва€ раненого командира артиллерийского подразделени€, –оза Ўанина была т€жело ранена в грудь и доставлена в госпиталь возле поместь€ –ихау (√ермани€). 28 €нвар€ –оза Ўанина скончалась от полученных ран. ћедсестра ≈катерина –адкина, на руках которой умерла –оза, сообщила о ее последних словах: девушка сожалела о том, что сделала так мало.
ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
¬ќ…Ќј Ќ≈ ÷≈Ќ»“ –ј—ќ“” |
ƒневник |
-
√лавные качества снайпера: наблюдательность, терпение, умение выжидать, точно выполн€ть поставленную перед ним задачу. —трелкам приходилось лежать в укрытии по нескольку часов без движени€. —читалось, что такое адское терпение дано только женщинам. ѕоэтому на фронтах ¬еликой ќтечественной сражалось немало женщин-снайперов. Ўестерым из них было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. ќдна стала полным кавалером солдатского ордена —лавы. ѕервой женщиной-снайпером, ставшей кавалером ордена —лавы, стала 21-летн€€ –оза Ўанина.
-
–одилась 3 апрел€ 1924 года в многодетной кресть€нской семье в ¬ологодской губернии, свое им€ получила в честь –озы Ћюксембург. «акончив 7 классов, девушка вопреки воле родителей уехала в јрхангельск поступать в педагогическое училище. огда началась война, –озе было 17 лет. “ри ее брата ушли на фронт и погибли в самом начале войны. Ћетом 1943-го –оза пришла в военкомат, чтобы записатьс€ добровольцем. ќна была направлена в женскую снайперскую школу, которую с отличием закончила в 1944 году, и отправилась на фронт в составе женского снайперского взвода.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
«о€ осмодемь€нска€: ¬с€ правда и ложь |
ƒневник |

27 €нвар€ 1942 г. в газете «ѕравда» был опубликован очерк ѕетра Ћидова «“ан€». ¬ечером его передали по ¬сесоюзному радио. ƒиктор ќльга ¬ысоцка€, с трудом сдержива€ слезы, рассказала потр€сЄнной стране о юной девушке-партизанке, во врем€ выполнени€ боевого задани€ попавшей в руки немцев, вынесшей нечеловеческие пытки, но не предавшей своих товарищей. азнЄнной, но несломленной. —пециально созданна€ комисси€ установила подлинное им€ героини. ≈ю оказалась 18-летн€€ московска€ школьница «о€ осмодемь€нска€. 16 феврал€ 1942 г. «ое јнатольевне осмодемь€нской посмертно было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза…
«а столетнюю историю «ѕравды» на еЄ страницах было много публикаций сильных или даже сильнейших по впечатлению на читател€. Ќо и среди них этот очерк, вышедший 70 лет назад, занимает особое место.ѕомню, какое потр€сение пережил €, сельский мальчишка на –€занщине, прочитав в правдинском номере от 27 €нвар€ 1942 года журналистский рассказ о героической гибели в подмосковной деревне ѕетрищево комсомолки-партизанки, назвавшей себ€ гитлеровцам на допросе “ать€ной. ќчерк тоже получил это им€ — «“ан€».
 јвтор «“ани» ѕЄтр Ћидов. ќн открыл миру подвиг «ои осмодемь€нской
јвтор «“ани» ѕЄтр Ћидов. ќн открыл миру подвиг «ои осмодемь€нской
ј вскоре, 18 феврал€ того же 1942-го, в «ѕравде» по€вилс€ очерк « то была “ан€». »з него вс€ страна, весь мир узнали насто€щее им€ героини — «о€ осмодемь€нска€, школьница из ћосквы.
ѕод обоими очерками была одна подпись: ѕ. Ћидов.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
46-й гвардейский “аманский раснознамЄнный ордена —уворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк "Ќочные ведьмы". |
ƒневник |
ќт мен€; —пасибо ¬ам дорогие наши женщины за победу!!!» ѕростите нас, что мы не смогли удержать то, что вы ценою.¬аших жизней добыли нам. ¬ечна€ —лава и ¬ечна€ пам€ть ¬ам!!!!» так "Ќочные ведьмы" : - јвиационный полк был сформирован в окт€бре 1941года по приказу Ќ ќ ———– є 0099 от 08.10.41 «в формировании женских авиационных полков ¬¬— расной јрмии». –уководила сформированием ћарина –аскова. омандиром полка была назначена ≈вдоки€ Ѕершанска€, летчик с дес€тилетним стажем. ѕод еЄ командованием полк сражалс€ до окончани€ войны.ѕорой его шутливо называли: «ƒунькин полк», с намЄком на полностью женский состав и оправдыва€сь именем командира полка. ѕартийно-политическое руководство полком возглавила ћари€ –унт.‘ормирование, обучение и слаживание полка проводилось в город Ёнгельс. јвиаполк отличалс€ от прочих формирований тем,что был полностью женским. —озданные согласно тому же приказу два других женских авиаполка в ходе войны стали смешанными,но 588-й авиаполк до своего расформировани€ осталс€ полностью женским: только женщины занимали все должности в полку от механиков и техников до штурманов и пилотов.46-й гвардейский “аманский полк — уникальное и единственное соединение в расной армии времен ¬еликой ќтечественной войны. ¬сего было три авиационных полка, в которых летали женщины:истребительный, т€желых бомбардировщиков и легких бомбардировщиков.ƒва первых полка были смешанными, и только последний, в котором летали на легком бомбардировщике ѕо-2, был исключительно женским. Ћетчики иштурманы, командиры и комиссары, прибористы и электрики, техники и вооруженцы, писари и штабные работники — все это были женщины.» вс€, даже сама€ т€жела€ работа делалась женскими руками.ƒва мес€ца шли тренировки. Ќи у кого из пополнени€ не было опыта ночных полетов, поэтому летали под куполом, создававшим имитацию темноты.¬скоре полк перевели в раснодар, и ночные ведьмы стали летать над авказом.¬ конце 1942-го начались т€желейшие бои за рым.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
ѕ€ть боевых рекордов советских летчиц-истребителей |
ƒневник |


¬ небо Ѕуданова впервые подн€лась в 30-е годы в московском аэроклубе. ѕозже окончила школу ќ—ќј¬»ј’»ћа (предшественника ƒќ—јј‘). ”частвовала в воздушных парадах в “ушино в составе женской пилотажной группы.
ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
»х повесили в один день, 29 но€бр€. |
Ёто цитата сообщени€ lj_sadalskij [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“олько «ою – в ѕетрищево, а ¬еру в дес€ти километрах от нее, в деревне √оловково.
ƒевочки ушли на задание вместе, но по дороге отр€д попал под обстрел и распалс€.
„итать далее
ћетки: велика€ отечественна€ война у войны женское лицо |
¬оспоминани€ женщин-ветеранов |
ƒневник |
я предлагаю вам почитать интересные воспоминани€ женщин-ветеранов, которые прин€ли участие в боевых действи€х и нар€ду с мужчинами были готовы отправитьс€ в бой. ¬ечна€ пам€ть и слава!«≈хали много суток... ¬ышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. ќгл€нулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. ѕоют. ћашут нам — кто косынками, кто пилотками. —тало пон€тно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. »ли в плену. “еперь мы вместо них... ћама написала мне молитву. я положила ее в медальон. ћожет, и помогло — € вернулась домой. я перед боем медальон целовала...»

«ќдин раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела цела€ рота. рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышалс€ стон. ќсталс€ раненый. «Ќе ходи, убьют, — не пускали мен€ бойцы, — видишь, уже светает». Ќе послушалась, поползла. Ќашла раненого, тащила его восемь часов, прив€зав ремнем за руку. ѕриволокла живого. омандир узнал, объ€вил сгор€ча п€ть суток ареста за самовольную отлучку. ј заместитель командира полка отреагировал по-другому: ««аслуживает награды». ¬ дев€тнадцать лет у мен€ была медаль ««а отвагу». ¬ дев€тнадцать лет поседела. ¬ дев€тнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, втора€ пул€ прошла между двух позвонков. ѕарализовало ноги... » мен€ посчитали убитой... ¬ дев€тнадцать лет... ” мен€ внучка сейчас така€. —мотрю на нее — и не верю. ƒите!»
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
„ем занималась перва€ героин€ —оветского —оюза |
ƒневник |

¬алентина √ризодубова, 1938 год. ‘ото: –удольф учеров / –»ј Ќовости
¬алентина √ризодубова привыкла к небу с двух лет. —воей помощью узникам √”Ћј√а она известна не меньше, чем летным мастерством.
ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
Ќеобычный пам€тник в селе Ѕуб |
ƒневник |
-
ѕроста€ кресть€нка вместе со своим мужем жили в добротном доме и держали крепкое хоз€йство: коровы, теленкок, овцы, свиньи. ќба работали в колхозе, а когда началась война, муж ћатрены ушел на фронт. ¬ 1943-м газеты написали о жестокой битве под —талинградом, и женщина заволновалась: не там ли ее супруг, ведь от него так давно не было известий.—ердце женщины разрывалось от переживаний за мужа, за –одину. —идеть сложа руки она не могла и прин€ла смелое решение: снесла на базар и продала все, что имелось в доме, - семь голов скота, дефицитные в войну масло, мед, муку- и выручила 100 тыс€ч рублей. ќгромную сумму по тем временам! ¬се деньги сложила в холщовый мешок и принесла в местное отделение √осбанка.
ћетки: у войны женское лицо |
√антимурова јльбина јлександровна |
ƒневник |

√антимурова јльбина јлександровна, коренна€ ленинградка, когда началась война ей было всего 15 лет, приписав себе 2 лишних года записалась медсестрой в дивизию Ќародного ополчени€, после контузии попала в госпиталь. ѕосле выписки поала в 73 бригаду морской пехоты, «десь еЄ берут в разведроту. —начала воевала р€довым, после присвоили звание сержанта, потом старшего сержанта, командовала отделением разведчиков.
¬ойну закончила в енигсберге.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
–усска€ ¬алькири€.. |
ƒневник |
- ƒоблесть советских людей в годы ¬еликой ќтечественной войны стала одной из основных причин нашей победы в смертельной битве с германским фашизмом. –усские солдаты продемонстрировали беспримерный патриотизм и любовь к своей –одине, готовность защищать ќтечество в любых боевых услови€х, невзира€ на угрозу собственной жизни. ќсобн€ком сто€т военные летчики расной јрмии, столкнувшиес€ со страшным врагом – высококвалифицированными пилотами немецких военно-воздушных сил. огда у русских авиаторов не оставалось никаких шансов на победу, когда все способы и средства исчерпывались, они предпочитали совершать таранный удар по вражескому самолету – подтверждение исключительного мужества, отваги, самоотверженности, верности воинскому долгу. «а долгие годы войны было зафиксировано свыше п€тисот таранов немецких самолетов русскими летчиками. Ѕолее двадцати из них совершили этот смертоносный прием дважды. »менно массовые тараны стали бичом опытных немецких асов, одному из которых принадлежат такие слова: «ќ таранах, разумеетс€, мы знали раньше, но не видели их выполнение. ака€ же это страшна€ вещь. ћы поражены мужеством и бесстрашием советских летчиков». Ёто фраза командира сбитого бомбардировщика Ћюфтваффе вовсе не была комплиментом в адрес наших пилотов, а лишь объективной оценкой человека, испытавшего таран на себе.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
«ина “уснолобова |
ƒневник |
«ина “уснолобова родилась 23 но€бр€ 1920 года. ¬есной 41-го вышла замуж за »осифа ћарченко. ¬ первые дни войны он ушел на фронт. ¬ апреле сорок второго «ина также была зачислена в действующую армию.
.jpg&mw=&mh=&sig=e54cdfb392984a5c921e0b71236f9e84)

«ина написала мужу из госпитал€: «ћилый мой, дорогой »осиф! ѕрости мен€ за такое письмо, но € не могу больше молчать. я должна сообщить тебе только правду... я пострадала на фронте. ” мен€ нет рук и ног. я не хочу быть дл€ теб€ обузой. «абудь мен€. ѕрощай.
“во€ «ина».

ќтвет был таким: «ћила€ мо€ малышка! –одна€ мо€ страдалица! Ќикакие несчасть€ и беды не смогут нас разлучить. Ќет такого гор€, нет таких мук, какие бы вынудили забыть теб€, мо€ любима€. » у радости, и у гор€ - мы всегда будем вместе. я твой прежний, твой »осиф. ¬от только бы дождатьс€ победы, только бы вернутьс€ домой, до теб€, мо€ любима€, и заживем мы счастливо. ¬чера твоим письмом поинтересовалс€ один из моих друзей. ќн сказал, что, суд€ по моему характеру, € должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. я думаю, он правильно определил. ¬от и все. ѕисать больше некогда. —коро пойдем в атаку. ∆елаю быстрейшего выздоровлени€. Ќичего плохого не думай. — нетерпением жду ответ. ÷елую бесконечно. репко люблю теб€, твой »осиф».

¬ институт протезировани€ на им€ «ины стали мешками приходить письма с фронта. ƒевушка дн€ми напролЄт выводила каллиграфическим почерком ответы, рассылала фронтовые треугольники, отвечала бойцам через газеты, выступала по радио.
ќна не стала беспомощным инвалидом. — помощью протезов научилась ходить, с помощью специальной насадки – писать, стр€пать, топить печь, штопать. «ина вернулась в ѕолоцк. ћужа – гвардии старшего лейтенанта »осифа ћарченко – она встретила, крепко сто€ на ногах. –аспахнув дверь, уверенно шагнула навстречу прихрамывающему молодому мужчине, опирающемус€ на палочку.

«инаида ћихайловна научилась самосто€тельно вести домашнее хоз€йство, родила и вырастила двоих детей, сына и дочь, что тоже подвиг.
ќна стала работать диктором на радио, вела большую общественную работу. ¬сю жизнь ее муж »осиф ѕетрович ћарченко был ее надежной опорой, другом и помощником. ¬ 1957 году «инаиде ћихайловне присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. ј в 1965 году отважна€ фронтовичка, человек железной воли, отмечена высшей наградой ћеждународного омитета расного реста - платиновой медалью имени ‘лоренс Ќайтингейл, национальной героини английского народа, сестры милосерди€, посв€тившей всю свою жизнь уходу за больными и ранеными.
√ерой —оветского —оюза «инаида ћихайловна “уснолобова-ћарченко скончалась 20 ма€ 1980 года.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
¬олкац, ƒина —оломоновна, кинолог, участник ¬еликой ќтечественной.—обаки в годы войны. |
ƒневник |

ƒина —оломоновна ¬олкац — участник ¬еликой ќтечественной войны, специалист на подготовке собак ћ–— (минно-розыскной службы). ѕерва€ и единственна€ женщина[1], занимавша€ командирскую должность в этой службе во врем€ войны.

—умела подготовить первую[2] в расной јрмии собаку-диверсанта ƒину.

Ћичной собакой ƒины ¬олкац был пЄс-миноискатель ƒжульбарс.
ћетки: у войны женское лицо велика€ отечественна€ война |
‘ронтова€ любовь |
ƒневник |

"... онечно, там, на фронте, любовь была друга€. аждый знал, что ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть. ¬едь вот, наверное, когда мы в мирных услови€х любим, мы ведь не с таких позиций смотрим. ” нашей любви не было сегодн€, завтра… ”ж если мы любили, значит, любили. ¬о вс€ком случае,вот неискренности там не могло быть, потому что очень часто наша любовь кончалась фанерной звездой на могиле..."…"ѕро любовь спрашиваете? я не боюсь сказать правду... я была “пэпэже”, то, что расшифровываетс€ — походно-полева€ жена. ∆ена на войне. ¬тора€. Ќезаконна€.ѕервый командир батальона...я его не любила. ќн хороший был человек, но € его не любила. ј пошла к нему в земл€нку через несколько мес€цев. уда деватьс€? ќдни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех бо€тьс€. ¬ бою не так страшно было, как после бо€, особенно, когда отдых, на переформирование отойдем. ак стрел€ют, огонь, они зовут: "—естричка! —естренка!", а после бо€ каждый теб€ стережет...»з земл€нки ночью не вылезешь... √оворили вам это другие девчонки или не признались? ѕостыдились, думаю... ѕромолчали. √ордые! ј оно все было... ѕотому что умирать не хотелось... Ѕыло обидно умирать, когда ты молодой... Ќу, и дл€ мужчин т€жело четыре года без женщин...
ћетки: велика€ отечественна€ война у войны женское лицо |
ћј–»я ќ “яЅ–№— јя. √≈–ќ… —ќ¬≈“— ќ√ќ —ќё«ј. ∆≈Ќў»Ќј “јЌ »—“ |
ƒневник |

“анкисты выбрались из теплых земл€нок и с интересом рассматривали проходившие мимо новенькие танки. Ќа башне одного из них мелькнула бела€ надпись.
ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
“анкист ћари€ Ћагунова - женщина стальной воли |
ƒневник |
ѕредлагаем вашему вниманию главу "–ассказ о насто€щем человеке" из книги —ерге€ —мирнова "–ассказы о неизвестных геро€х", посв€щЄнный женщине-танкисту ћарии Ћагуновой, котора€ в одном из боЄв лишилась ног, но тем не менее продолжила службу.
statehistory.ru в ∆∆: statehistory.livejournal.com 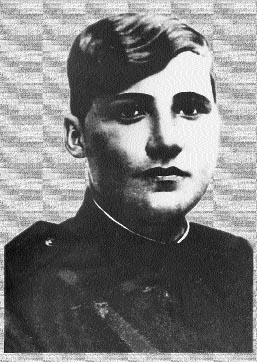 —начала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрител€ и ветерана войны из далекого уральского городка. “о был рассказ о девушке-танкисте ћарусе Ћагуновой, потер€вшей в бою обе ноги, но сумевшей снова встать в строй —оветской јрмии, о девушке, котора€ по своей судьбе была как бы родной сестрой "насто€щего человека" јлексе€ ћаресьева. ѕотом начались многомес€чные поиски через телевидение, пока следы не привели сперва в столицу ”рала —вердловск, а потом на ”краину, в город ’мельницкий, где находитс€ сейчас жива€ героин€ этой истории ћари€ »вановна Ћагунова. » когда в моих руках собрались и свидетельства друзей и очевидцев и воспоминани€ самой ћ. ». Ћагуновой, вы€снилось, как это нередко случаетс€, что быль оказалась еще более необыкновенной, чем возникша€ из нее легенда. ¬прочем, есть биографии, которые не нуждаютс€ в комментари€х, — они говор€т сами за себ€. »менно такова биографи€ ћарии Ћагуновой.
—начала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрител€ и ветерана войны из далекого уральского городка. “о был рассказ о девушке-танкисте ћарусе Ћагуновой, потер€вшей в бою обе ноги, но сумевшей снова встать в строй —оветской јрмии, о девушке, котора€ по своей судьбе была как бы родной сестрой "насто€щего человека" јлексе€ ћаресьева. ѕотом начались многомес€чные поиски через телевидение, пока следы не привели сперва в столицу ”рала —вердловск, а потом на ”краину, в город ’мельницкий, где находитс€ сейчас жива€ героин€ этой истории ћари€ »вановна Ћагунова. » когда в моих руках собрались и свидетельства друзей и очевидцев и воспоминани€ самой ћ. ». Ћагуновой, вы€снилось, как это нередко случаетс€, что быль оказалась еще более необыкновенной, чем возникша€ из нее легенда. ¬прочем, есть биографии, которые не нуждаютс€ в комментари€х, — они говор€т сами за себ€. »менно такова биографи€ ћарии Ћагуновой.
∆изнь почти сразу обошлась неласково с девочкой, родившейс€ в 1921 году в далеком степном селе ќкольничково урганской области. ≈й было четыре года, когда умерла мать и в большую кресть€нскую семью из 12 человек пришла мачеха, зла€, как в народных сказках, и особенно невзлюбивша€ младшую падчерицу — ћарусю. ƒети, едва став подростками, разъезжались из дому, рано начинали самосто€тельную жизнь. ¬ 10 лет ћарусю, к счастью, вз€ла к себе старша€ сестра, работавша€ на железной дороге в —вердловске. ¬ школу девочка ходила всего п€ть лет. ѕотом пришлось бросить учебу и идти в н€ньки, в домработницы, — заработка сестры не хватало. Ўестнадцати лет ћарус€ пришла на свердловскую фабрику "”ралобувь". —начала была чернорабочей, а в 1941 году, когда началась война, она уже работала дежурным электриком цеха. ”шел на фронт старший и любимый ее брат Ќиколай. „ерез несколько дней ћарус€ тоже €вилась в военкомат и просили послать ее в армию. ≈й ответили, что на фабрике тоже нужны люди. Ќо она была настойчива и пришла во второй, в третий раз... ¬ конце концов военком сдалс€ и послал ее учитьс€ в школу военных трактористов в „ел€бинскую область. «имой 1942 года она уже служила в батальоне аэродромного обслуживани€ на ¬олховском фронте, в нескольких километрах от передовых позиций. —лужба была т€желой: порой она круглые сутки сидела за рычагами трактора, очища€ аэродром от снега или доставл€€ бомбардировщикам горючее, боеприпасы. ¬ батальоне были и другие девушки-трактористки, но ћарус€ Ћагунова показала себ€ самой крепкой, выносливой, и ей приходилось выполн€ть наиболее трудные и ответственные задани€. ѕерегрузка и посто€нное недосыпание сказались на ее здоровье, и осенью 1942 года сильнейшее воспаление легких на два мес€ца уложило ее в госпиталь. ќттуда она попала в запасной полк, где ее сделали киномехаником, не обраща€ внимани€ на настойчивые просьбы отправить на фронт. ¬ феврале 1943 года в полк приехал военный представитель с ”рала — отбирать несколько сот человек на курсы танкистов — механиков-водителей, башнеров, радистов. огда ћарус€ Ћагунова пришла к нему, прос€ вз€ть и ее, военпред только усмехнулс€ такой наивности.
— „то вы, девушка! — укоризненно сказал он. — “анкист — это чисто мужска€ професси€. ∆енщин в танки не берут, как и на военные корабли. Ёто уж закон. ќна ушла удрученна€, но не примиривша€с€ с отказом. ј на другой день почта принесла письмо от сестры с т€жкой вестью: смертью храбрых погиб на войне брат Ќиколай. Ќа это горе ћарус€ реагировала не только слезами — она села и написала письмо в ћоскву ћихаилу »вановичу алинину. „ерез несколько дней военпред получил приказ прин€ть ћарию Ћагунову в число курсантов. ≈му оставалось только подчинитьс€. “ак среди 700 мужчин, будущих танкистов, приехавших в марте в город Ќижний “агил, оказалась одна девушка. омандование учебной танковой части сначала прин€ло это как чью-то неуместную шутку. Ќо когда вы€снилось, что есть распор€жение из ћосквы, а сама девушка всерьез желает стать механиком-водителем танка, командиры решили прибегнуть к уговорам.
— ѕоймите, это не девичь€ служба, — убеждали Ћагунову в штабе части. — «аймитесь лучше женским делом — идите работать в столовую или писарем в штаб. ’отите, устроим вас швеей в армейскую мастерскую? Ѕудете жить среди девушек. ј ведь тут вы одна, трудно станет.
Ќо она по-прежнему твердила, что хочет быть танкистом и идти на фронт, мстить врагу за смерть любимого брата. “огда ей предложили поехать в другой город: там, мол, сейчас формируетс€ добровольческий танковый корпус из уральцев. ћарус€ пон€ла, что это подвох — от нее просто хот€т отделатьс€, и отказалась наотрез. ќна знала — за ней стоит приказ из ћосквы и, как ни крут€т командиры, они должны будут его выполнить. “ак и вышло. ƒва дн€ спуст€ Ћагунову вызвал командир батальона майор ’онин.
— я с тобой, ћарус€, буду говорить откровенно, — сказал он. — “ы у нас перва€ из женского пола, и мы просто в затруднении, как к тебе подходить, — служба трудна€, требовани€ к курсантам большие. —мотри уж, не подводи в учебе. ј окончишь курсы, там будет видно, что с тобой делать. ѕока что разрешаю тебе не ходить в нар€ды. ƒевушка даже покраснела от досады. ќна ответила, что и в нар€ды будет ходить и всю службу нести наравне с мужчинами.
— Ќикаких исключений € не принимаю, — решительно за€вила она. — ј окончу курсы — отправл€йте на фронт, в тылу € не останусь.
≈динственным исключением дл€ нее стала маленька€ каморка, которую ей отвели в расположении части. ¬о всем остальном, она была таким же курсантом, как и мужчины, и зорко следила, чтобы ей не делали ни малейших поблажек. ѕрограмма курсов была рассчитана на четыре мес€ца, но танкистов требовал фронт: надвигались событи€ на урской дуге. ”же в июне лучшим курсантам предложили сдавать экзамены досрочно. Ћагунова насто€ла, чтобы ее включили в число выпускников.
“ехнику она сдала на "хорошо", вождение танка — на "отлично". ак ни уговаривали ее остатьс€ в полку инструктором, она не согласилась. “анкисты прин€ли на заводе машины и погрузили их на платформы. ѕеред отправкой на фронт в заводском дворе состо€лс€ совместный митинг рабочих и танкистов. » ћарус€ Ћагунова, сто€ в толпе, то и дело краснела: с трибуны говорили о ее настойчивости, упорстве, требовательности к себе и называли ее под аплодисменты собравшихс€ гордостью полка.
Ќо впереди еще было немало испытаний. огда танкисты прибыли на фронт и вошли в состав 56-й гвардейской танковой бригады, командование, узнав, что на одной из машин механик-водитель девушка, отнеслось к этому как к досадной нелепости. ¬прочем, об этом хорошо рассказывает в своем письме сам бывший командир бригады гвардии полковник в отставке “. ‘. ћельник, живущий сейчас в иеве:
"...Ўел 1943 год. Ѕригада готовилась к бо€м на урской дуге. ƒл€ пополнени€ к нам прибыли с ”рала маршевые роты. я, как комбриг, делал смотр вновь прибывшим экипажам боевых машин.
ѕодхожу к одному из экипажей. ƒокладывают: — омандир танка лейтенант „умаков, механик-водитель сержант Ћагунова.
я поправил:
— Ќе Ћагунова, а Ћагунов. омандир танка говорит:
— “оварищ комбриг, это девушка, Ћагунова ћари€ »вановна.
— ак девушка? ћеханик-водитель и девушка?!
ѕередо мной стоит по стойке "смирно" танкист среднего роста, хорошей выправки, с серьезным волевым и загорелым лицом. я был крайне удивлен, что механиком-водителем боевого танка оказалась девушка. ћне приходилось видеть на фронте женщин, которые хорошо справл€лись с т€желой фронтовой службой медсестер, врачей, св€зистов, снайперов, летчиков и с другими военными професси€ми. Ќо механика-водител€, да еще прославленной "тридцатьчетверки", никогда не видел. »стори€ еще не знала примера, чтобы девушка вела танк в бой. ¬ первый момент € был сильно озадачен и не знал, как поступить с Ћагуновой. ¬ то врем€ € был глубоко убежден, что быть танкистом — не женское дело. ћеханик-водитель должен обладать большой физической силой — ведь дл€ того, чтобы управл€ть рычагами танка, требуетс€ большое мускульное напр€жение. Ќадо уметь в любых услови€х и при любой погоде на марше и в бою вести танк. Ћетом в жаркую погоду температура в танке достигает 40-50 градусов, а в бою при интенсивном ведении огн€ скапливаютс€ пороховые газы — все это затрудн€ет действи€ экипажа. роме того, экипаж танка, особенно механик-водитель, испытывает в бою большое психическое напр€жение, когда противник ведет по танку артиллерийский огонь. “ребуетс€ железна€ вол€, выдержка, хладнокровие.
¬се это и заставило мен€ подумать о том, чтобы перевести Ћагунову в менее опасное место. Ќасколько возможно ласково € предложил ей побыть в резерве, посмотреть, обвыкнуть в боевых услови€х, а потом, мол, получите танк и поведете его в бой с врагом. Ћагунова наотрез отказалась. ќна говорит:
— я приехала на фронт не дл€ того, чтобы отсиживатьс€ в тылу.
≈е поддержали экипаж и офицеры подразделени€".
ак вспоминает ћ. ». Ћагунова, за нее горой встал лейтенант „умаков, командир ее машины, который впоследствии пал в бою и посмертно был удостоен звани€ √еро€ —оветского —оюза.
— ћари€ Ћагунова отличный механик, — твердо за€вил он комбригу. — я ручаюсь, что она будет управл€ть машиной в любых услови€х. ≈е оставили в покое, но ненадолго. огда танкистов нового пополнени€ стали распредел€ть по батальонам и ротам, возник тот же вопрос — командиры не могли себе подставить, как это женщина поведет в бой танк. —нова начались уговоры, предложени€ перейти в штаб, подальше от переднего кра€. » оп€ть нашелс€ хороший и смелый человек, выручивший девушку. Ёто был заместитель командира батальона по политической части капитан ѕетр ћит€йкин.
— ¬идимо, ее трудно переубедить, — сказал он другим командирам. — Ќе будем настаивать, товарищи. ѕовоюем, сержант Ћагунова. “олько, чур, воевать хорошо! Ѕуду за тобой следить в бою.
ќна узнала, что замполит всегда идет в бой на одной из головных машин и от его зоркого взгл€да не укроетс€ никакой промах танкиста. Ќо она была уверена в себе.
Ќаконец пришел боевой приказ. ћашины вышли на исходные позиции и сто€ли замаскированные в укрыти€х: поблизости уже рвались снар€ды. —ражение на урской дуге было в разгаре.
ѕеред боем снова по€вилс€ капитан ћит€йкин, побеседовал с танкистами и напомнил ћарии Ћагуновой, что будет наблюдать за ней. ј потом машины подвели к переднему краю, загремела артиллерийска€ подготовка, на броню танка вскочили человек дес€ть автоматчиков, и лейтенант „умаков подал команду: "¬перед!"
ќна запомнила этот первый бой во всех его мельчайших подробност€х. —квозь смотровую щель она видела условленные ориентиры и вела танк по ним. ƒо предела напр€гай слух, она ловила в шлемофоне команды лейтенанта „умакова. —лышать что-нибудь становилось все труднее: к реву мотора прибавились гулкие выстрелы их танковой пушки и беспрерывна€ трескотн€ башенного пулемета. ѕотом немецкие пули забарабанили по броне, и она перестала различать в наушниках голос командира. Ќо „умаков уже оказалс€ около нее и стал командовать знаками. ¬ щель было видно, как наши танки, верт€сь, утюжат траншеи противника. ћарус€ впервые увидела бегущие фигуры гитлеровцев в серо-зеленых френчах. ¬ это врем€ пули застучали о броню особенно часто и звонко, и лейтенант хлопнул ее по правому плечу. ќна резко развернула танк вправо и совсем близко увидела блиндаж, из которого в упор бил пулемет. “отчас же последовал толчок в спину, и она нажала на акселератор. Ѕревна блиндажа затрещали под гусеницами — она не слышала, а как бы почувствовала это. —трельба постепенно стала стихать. Ћейтенант приказал остановитьс€. ѕрежде чем ћарус€ успела открыть люк, кто-то откинул его снаружи и за руку выт€нул ее из машины. Ёто был капитан ћит€йкин. ќна еще плохо слышала, и он закричал, нагнувшись к ее уху:
— Ќа первый раз хорошо получилось. ћолодец, Ћагунова!
ќна огл€делась. ѕыль и дым, заволокшие все вокруг, постепенно оседали. ѕовсюду вал€лись трупы гитлеровцев, окровавленные, раздавленные, в самых причудливых позах. ѕеревернутые пушки, повозки, лошади с распоротыми животами... ћарус€ не испытывала страха во врем€ бо€, поглощенна€ своей работой, но сейчас, при виде этой страшной картины войны, ей стало жутко, она почувствовала, как к горлу подступает тошнота, и поспешно влезла в танк, чтобы никто не заметил ее слабости. ј после этого были многие другие бои, и т€желые и легкие. ќна уверенно вела свой танк, утюжила гитлеровские окопы, давила пулеметы, пушки врага, видела, как гор€т машины товарищей, плакала над могилами боевых друзей. Ѕригада шла все дальше на запад, через —умскую, „ерниговскую и, наконец, иевскую область. » никто уже не сомневалс€ в девушке-танкисте: ћарус€ показала себ€ опытным и смелым водителем.
"...я спрашивал командира батальона, как ведет себ€ в бою Ћагунова, — вспоминает бывший комбриг “. ‘. ћельник. — ћне докладывали: "Ћагунова воюет хорошо. —мела€, умело примен€етс€ к местности".
ћы достигли реки ƒнепр в районе города ѕере€слав-’мельницкогр. ћари€ Ћагунова все больше накапливала боевой опыт. ¬ бригаде о ней уже говорили: "Ёто наш танковый ас". ќна пользовалась насто€щим боевым авторитетом у танкистов. Ќа ее счету было много раздавленных гусеницами огневых точек, пушек и фашистов. ¬скоре бригада получила приказ зан€ть ƒарницу, район города иева на левом берегу ƒнепра. ¬ыполн€€ приказ, бригада зав€зала т€желый бой у населенного пункта Ѕровары".
¬ это врем€ за плечами ћаруси Ћагуновой было двенадцать атак. Ѕой за Ѕровары стал тринадцатой.
“анкисты, как и летчики, немного суеверны. ак-то на привале еще перед Ѕроварами они завели веселый разговор, и кто-то полушут€ сказал ћарусе:
— —мотри! “ринадцать — число несчастливое.
¬ ответ она, сме€сь, возразила, что на броне ее машины стоит номер 13, но это не мешало ей до сих пор воевать. ј оказавшийс€ тут же капитан ћит€йкин сердито возразил суеверному:
— √лупости! я уже побывал в двадцати атаках, и ничего со мной не случилось в тринадцатой. ƒавай, Ћагунова, поедем вместе в эту атаку.
ќн никогда не забывал своих обещаний и 28 сент€бр€ 1943 года, в день этого бо€, оказалс€ в машине лейтенанта „умакова. ≈го веселый, спокойный голос раздалс€ в шлемофоне ћаруси:
— ћарус€, мы должны быть первыми! ƒавай вперед!
—начала все шло хорошо. омандовал танком капитан ћит€йкин, а лейтенант „умаков встал к пулемету. ќни первыми ворвались на позиции фашистов, и ћарус€ видела, как разбегаютс€ и падают под пулеметным огнем гитлеровцы.
— ƒай-ка чуть правей, — скомандовал ћит€йкин. — “ам немецка€ пушечка нашим мешает, прихлопнем ее.
ќна развернула машину и понеслась вперед. Ќемецкие пушкари кинулись врассыпную, и танк, корпусом откинув орудие, промчалс€ через артиллерийский окоп. Ќо, видимо, где-то р€дом притаилась втора€ пушка. “анк вдруг дернуло, мотор захлебнулс€, и в нос ударила едка€ гарь. Ѕольше ничего ћарус€ не помнила.
ќна очнулась в полевом госпитале. ” нее были ампутированы обе ноги, перебита ключица и лева€ рука казалась омертвевшей. ¬се внутри словно было сжато в тисках, и голова раскалывалась на части. Ѕоль отнимала все силы души и тела, и она даже не могла задуматьс€ над тем, что с ней произошло.
Ќа самолете ее доставили в —умы, оттуда в ”ль€новск, а затем в ќмск. «десь молодой смелый хирург ¬алентина Ѕорисова делала ей одну операцию за другой, стрем€сь спасти ее ноги, насколько это было возможно, чтобы потом она смогла ходить на протезах. »менно смелости и настойчивости Ѕорисовой, шедшей иногда на риск вопреки советам старших и более осторожных хирургов, Ћагунова об€зана тем, что наступил день, когда она пошла по земле без костылей. Ќо до этого дн€ еще надо было дожить, пройд€ через множество физических мучений, через нескончаемые мес€цы нравственных страданий. —ознание безнадежности и безысходности будущего все чаще и сильнее охватывало девушку. ќна плакала, мрачнела, и никакие утешени€ врачей не помогали. » вдруг снова хорошие, отзывчивые люди, ее старые друзь€, пришли к ней на выручку в самый т€жкий момент ее жизни. »з танкового полка, где получила она специальность механика-водител€, в ќмск приехала цела€ делегаци€ — навестить героиню. “анкисты привезли ћарии 60 писем. ≈й писали старые друзь€, писали незнакомые курсанты из нового пополнени€. ѕрислали полные гор€чего участи€ письма командир бригады полковник ћаксим —куба и ее прежний комбат майор ’онин. ќна узнала, что в комнате славы полка висит ее портрет, что ее военна€ биографи€ известна всем курсантам и помогает командирам воспитывать дл€ фронта новых стойких бойцов. ≈й писали, что она не имеет права унывать, что ее ждут в родной части, что танкисты новых выпусков, отправл€€сь на фронт, кл€нутс€ мстить врагам за раны ћарии Ћагуновой. » она воспр€нула духом от этих писем и от рассказов приехавших товарищей. ќна почувствовала себ€ не только нужной люд€м, но и как бы наход€щейс€ по-прежнему в боевом строю. ¬есной 1944 года ее привезли в ћоскву, в »нститут протезировани€. » здесь друзь€ из части навещали ее, слали ей письма. ќна встретилась тут с «иной “уснолобовой-ћарченко, котора€ потер€ла в бою и ноги и руки, и вскоре обеим героин€м вручили ордена расной «везды.
— огда € в первый раз надела протезы и перет€нулась ремн€ми, — вспоминает ћари€ »вановна Ћагунова, — € вдруг пон€ла, что это т€жкое несчастье будет на всю жизнь, до самой смерти. » € подумала: смогу ли € это выдержать? ѕерва€ попытка пойти оказалась безуспешной — € насадила себе син€ков и шишек. Ќо профессор „аклин, который так много труда вложил, чтобы поставить мен€ на протезы, категорически запретил персоналу давать мне палку. Ќачались ежедневные тренировки, и через несколько дней € постепенно стала передвигатьс€. ќна училась ходить с тем же упорством, с каким когда-то училась водить танк. ¬ день выхода из больницы за ћарией Ћагуновой приехал нарочный из полка с приказанием €витьс€ ей в часть дл€ дальнейшего прохождени€ службы. омандование зачислило ее, как сверхсрочника, на должность телеграфистки. огда-то, прид€ в этот полк, ћарус€ Ћагунова наотрез отказалась от каких-нибудь поблажек, которые хотели сделать ей, как единственной девушке из числа курсантов.
“еперь она так же категорически отказывалась от вс€ких предпочтений себе как инвалиду. “оварищи, поражались ее решимости. Ѕывший однополчанин Ћагуновой уралец јлександр „ервов хорошо написал мне об этом в своем письме: "¬о всем был виден ее железный характер, упорство, настойчивость. ќна часто отказывалась от предложений подвезти ее на машине, старалась больше ходить пешком на протезах. Ќетрудно представить, каких мучений стоила ей эта ходьба. Ќо она, как и ее собрат по судьбе јлексей ћаресьев, упорно тренировала себ€ в ходьбе, ибо она знала, что жизнь ее долга€ и ходить ей по нашей свободной земле придетс€ много".
Ќо все это врем€ ћари€ Ћагунова незримо опиралась на большую моральную поддержку своих товарищей-однополчан, окруживших ее сердечной заботой, теплым человеческим вниманием. "я буду благодарна всю свою жизнь командованию бригады и полка за заботу и ласку, за решимость вернуть мне жизнь", — пишет ћари€ »вановна Ћагунова. ќна прослужила в родной части почти четыре года. ј когда в 1948 году ћари€ Ћагунова, демобилизовавшись, приехала в —вердловск, нашлись другие такие же отзывчивые люди, тоже старые товарищи, позаботившиес€ о ней. Ёто был коллектив фабрики "”ралобувь" во главе с директором —. “. отовьш. ≈е устроили работать контролером ќ“ , дали ей комнату. –абота была не т€желой, но, скованна€ протезами, она за восемь часов доходила до изнеможени€. ќднажды, поздно возвраща€сь домой после второй смены, она упала — подвернулс€ протез. —лишком измученна€, она никак не могла встать сама. “оварищи по фабрике ушли вперед, улица была безлюдной. ѕотом вдали показалась компани€ случайных прохожих. Ћагунова только собралась окликнуть их, как один насмешливо сказал: "Ќу и нализалась!" — и все засме€лись. ≈е словно хлестнули по щекам, и она расплакалась, а потом решила, что никого не станет просить о помощи. Ѕуквально по сантиметрам, опира€сь на одни руки, она доползла до сто€вшего впереди столба и после долгих усилий подн€лась с земли и дошла домой.
ѕрошло немного времени, и жизнь, котора€ обошлась с ней так жестоко, вдруг снова улыбнулась ей. ќна встретила молодого человека узьму ‘ирсова, знакомого ей еще по фронту и тоже инвалида войны — он был ранен в голову и потер€л левую руку. ќни подружились, и однажды узьма предложил:
— «наешь, ћари€, давай поженимс€. ¬двоем будет легче прожить.
— ¬едь мы два инвалида, — возразила она. — Ќам обоим н€ньки нужны.
— »з двух инвалидов получитс€ один полноценный человек, — засме€лс€ в ответ узьма.
ќни поженились. ¬ 1949 году родилс€ сын, которого назвали Ќиколаем в честь погибшего брата ћарии. „етыре года спуст€ родилс€ второй сын, ¬асилий, — так звали убитого на войне брата узьмы ‘ирсова.
ƒети, домашние хлопоты заставили ћ. ». Ћагунову бросить работу на фабрике. Ќо коллектив рабочих, завком и партком по-прежнему оставались шефами героини войны. —емье предоставили двухкомнатную квартиру, порой оказывали необходимую помощь. ј в 1955 году пришлось покинуть родной ”рал: ћ. ». Ћагунова заболела, и врачи предписали ей перемену климата. ќни переехали на ”краину, в город ’мельницкий. Ѕывший механик-водитель "тридцатьчетверки", боевой танкист, прошедший с бо€ми путь от урской дуги до ƒнепра, ћ. ». Ћагунова теперь просто домашн€€ хоз€йка. ≈е муж . ћ. ‘ирсов — мастер завода трансформаторных подстанций. —тарший сын Ќиколай — студент аменец-ѕодольского индустриального техникума, младший, ¬асилий, — третьеклассник. ∆изнь славной героини ¬еликой ќтечественной войны вошла в свою прочную, хоть и нелегкую колею как благодар€ упорству, настойчивости, твердости характера этой замечательной женщины — насто€щего человека нашей героической эпохи, так и благодар€ дружеской помощи и поддержке дес€тков хороших, отзывчивых советских людей.
"¬от так мы и живем, — заканчивает одно из своих писем ко мне ћ. ». Ћагунова. — ƒа еще кое-кто нам завидует, хот€ это и глупо, но факт остаетс€ фактом". Ќет, пожалуй, это вовсе не глупо, тут ћари€ »вановна ошибаетс€. ак можно не завидовать человеку, который с таким великолепным достоинством прошел такой трагический и славный путь! ќна героин€ войны, героический борец в послевоенной жизни, эта скромна€ и горда€ женщина с рабочего ”рала. ≈е характер и вол€ были крепки, как уральска€ сталь, ее судьба €рка и необычайна, как уральские самоцветы, и вс€ ее биографи€ — подвиг. “аким люд€м хорошо, по-человечески завидуют, ими восхищаютс€, на их примерах учат и воспитывают молодежь.
» здесь не имеет значени€ тот факт, что на груди у ћ. ». Ћагуновой только один орден расной «везды. ¬ойна оставила нам многих неизвестных героев, чьи награды — € уверен в этом — еще впереди. ƒа и не в наградах дело. ƒл€ геро€ лучшей наградой становитс€ пам€ть народа, любовь и уважение людей.
Ќакануне ћеждународного женского дн€ 8 марта 1964 года € подробно рассказал в одной из передач по телевидению о ћарии »вановне Ћагуновой. ¬ конце передачи € сообщил телезрител€м нынешний адрес героини: город ’мельницкий, улица ‘рунзе, дом 58, квартира 4. ». как следовало ожидать, реакци€ была мгновенной. «а какие-то 10-15 дней в этот адрес пришло более 6 тыс€ч писем из разных уголков страны, от самых различных людей. Ёто был поток чувств, глубоко сердечных, гор€чих, полных восхищени€ и гордости жизненным подвигом женщины. » хот€ ћари€ »вановна Ћагунова по скромности, присущей истинным геро€м, упорно протестует против того, чтобы ее считали героиней, € уверен, что писавшие ей люди заставили ее снова и по-новому огл€нутьс€ на годы, оставшиес€ позади, и почувствовать, что ее биографи€ перестала быть ее личным досто€нием и сделалась €влением всеобщим, воплоща€ дл€ миллионов наших граждан прекрасный, чистый и высокий образ советской женщины пам€тных лет ¬еликой ќтечественной войны.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
Ћюбима€ лЄтчица товарища —талина |
Ёто цитата сообщени€ —кептикус [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ѕервый полет — в 2,5 года!
¬алентина —тепановна √ризодубова родилась в ’арькове в 1910 году. ≈е отец, талантливый самоучка, одержимый страстью к небу, купил в синематографе несколько кадров из фильма о брать€х –айт и на их основе начал строить копию аэроплана американцев. “рудно представить, как строились отношени€ в семье, глава которой все заработанные деньги тратил на постройку «летающей этажерки». ”дивительно, но жена всецело поддерживала мужа в его увлечении. ¬ 1912 году третий (!) аппарат, построенный —тепаном √ризодубовым, полетел. — самого раннего детства ¬ал€ слышала: «мотор», «фюзел€ж», «шасси», «консоль». огда ей было 2,5 года, отец, прив€зав дочку к себе ремн€ми, вместе с ней взлетел в воздух на своем аппарате. “ак маленька€ ¬ал€ впервые «коснулась неба».
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
—ильные женщины той войны! »нтересные письма и статьи военных лет. |
Ёто цитата сообщени€ ћонте_ арло [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
я нашла в интернете несколько военных писем, написанных женщинами, которые сражались на поле бо€, и опубликованных только сейчас на странице ј»‘. я за 5 минут перечитала все, взахлеб, очень интересные, а в некоторых описываютс€ такие моменты, что волосы станов€тс€ дыбом...

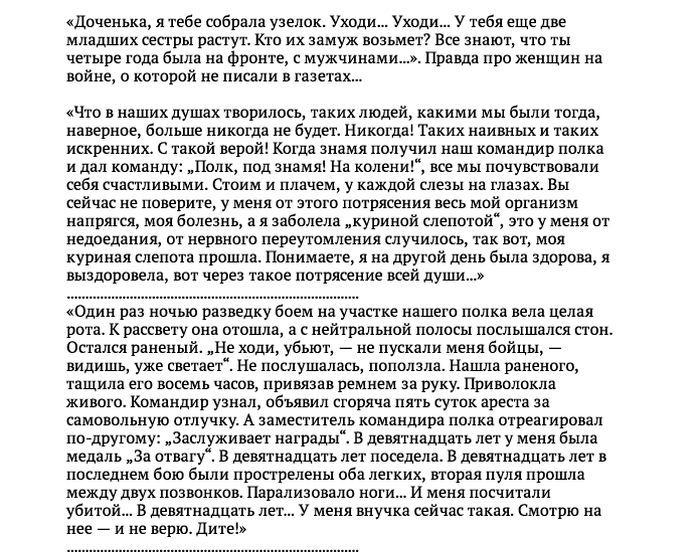
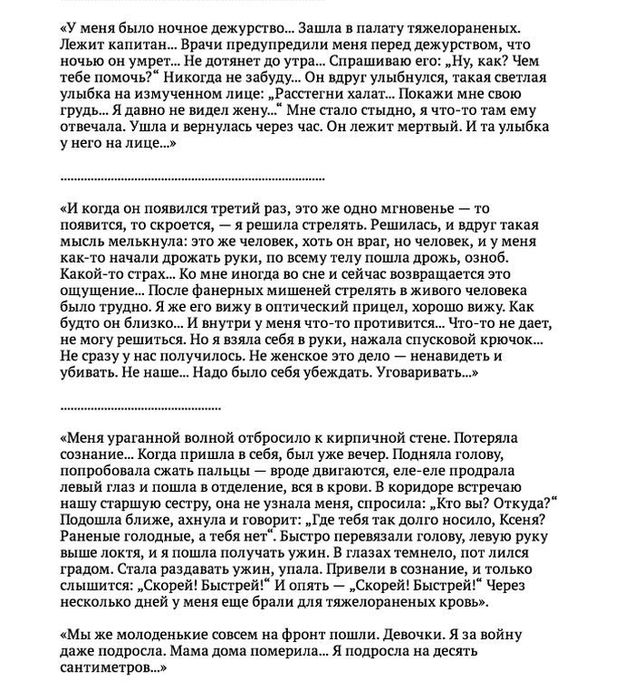
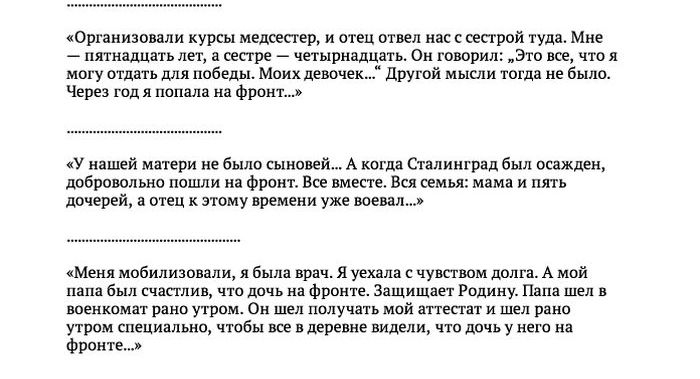
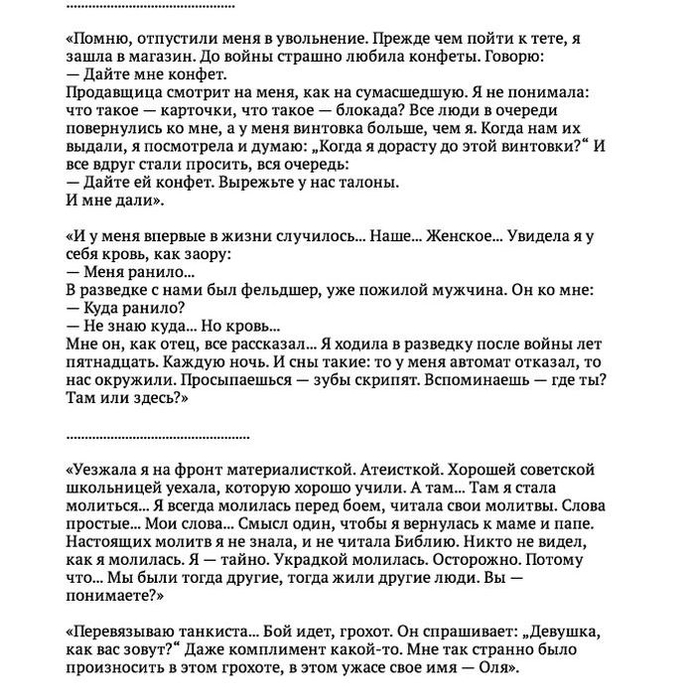
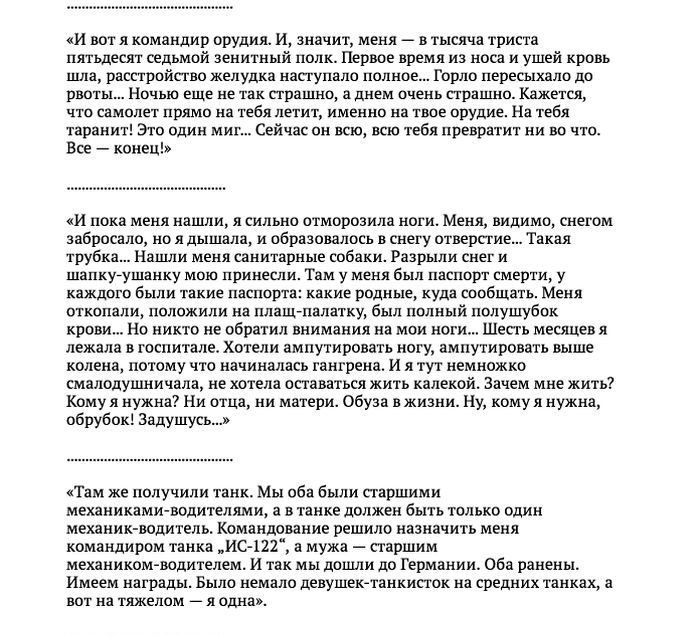
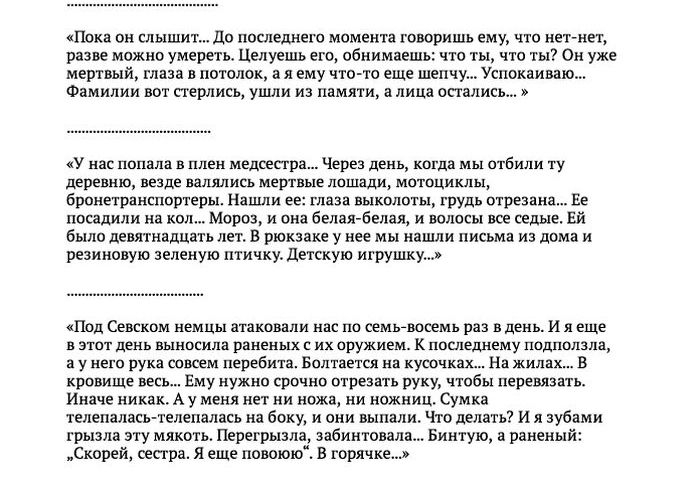
ћетки: у войны женское лицо |
Ѕела€ лили€ —талинграда |
ƒневник |
Ёта невысока€ белокура€ девушка ? сама€ результативна€ летчица?истребитель в истории. Ќа ее счету 16 сбитых самолетов (из них четыре в группе). Ћиди€ Ћитв€к была грозой люфтваффе над —талинградом и –остовом. Ќа капоте ее истребител€ была нарисована бела€ лили€, отчего ее называли ?Ѕелой лилией —талинграда?.

Ћиди€ Ћитв€к родилась в ћоскве 18 августа 1921 года. — 14 лет занималась в аэроклубе. ¬ 15 лет она уже совершила свой первый самосто€тельный полет. ѕосле окончани€ ’ерсонской авиационной школы лЄтчиков-инструкторов работала в алининском аэроклубе. ѕодготовила 45 лЄтчиков. ¬ 1937 году отец Ћидии был арестован и расстрел€н.
¬ 1942 году вступила в созданный женский авиационно-истребительный полк, приписав недостающие 100 часов налЄта. ќсвоила истребитель як-1.ѕервый боевой вылет совершила в небе над —аратовым. ¬ августе 1942 года в группе сбила немецкий бромбардировщик Ju-88. ¬ сент€бре была переведена в 437-й истребительный авиационный полк (287-€ истребительна€ авиационна€ дивизи€, 8-€ воздушна€ арми€, ёго-¬осточный фронт).

¬ одном из боев ее як?1 был сбит над вражеской территорией. Ћиди€ выбралась из него и бросилась бежать, отстрелива€сь от преследующих ее немцев. огда враги были уже совсем р€дом, а в стволе осталс€ последний патрон, на помощь пришел один из наших штурмовиков. —воим огнем он заставил их залечь и приземлилс€ р€дом. Ћиди€ втиснулась в кабину, на колени летчику, и ауфидерзейн!

1 августа 1943 года она сбила три вражеских самолета, но из последнего вылета в тот день не вернулась. «вание √еро€ —оветского —оюза долго не давали, так как Ћиди€ числилась пропавшей без вести. —праведливость восторжествовала лишь в 1990 г., незадолго до кончины самого —оюза. ќна попала и в нигу рекордов √иннеса, и в аниме. ј € смотрю на эту фотографию и думаю: когда она погибла, ей ведь не было и 22 лет ?.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
Ћиди€ Ћитв€к - королева истребителей |
ƒневник |
1 августа 1943 года из боевого задани€ не вернулась гвардии младший лейтенант Ћиди€ Ћитв€к, командир звена третьей эскадрильи 73- го гвардейского истребительного авиаполка. Ќи летчицу, ни самолета однополчанам обнаружить не удалось. ѕосле того как погиб јлександр ≈вдокимов, ведомый Ћиди€ Ћитв€к в последнем ее бою, поиски прекратили совсем – лишь он знал, где упал «як» его командира...
ƒл€ авиационной части это была одна из т€желейших потерь за год боевых действий: погибла летчик-истребитель, любимица полка, умелый и бесстрашный боец, который уничтожил в воздушных бо€х один аэростат-корректировщик и 14 боевых самолетов противника.
«ѕропала без вести». ¬ карточке военного архива значитс€ именно эта лаконична€ и совершенно неопределенна€ запись. «ѕропала без вести» – данна€ запись может значить и геройски погибла, и добровольно сдалась в плен. »менно на это рассчитывали чиновники: главное-перестраховатьс€, а врем€ сделает свое дело...
Ћил€ (именно так звали ее близкие друзь€) пришла в авиацию, когда ей исполнилось четырнадцать лет. —вой первый самосто€тельный полет она совершила уже в п€тнадцать. —вой путь в профессии летчика она начала в ’ерсонской школе пилотов. ѕосле ее окончани€ Ћитвак была переведена в алининский аэроклуб, став в нем одной из лучших летчиков-инструкторов. ¬се ее полеты были азартными, Ћиди€ ¬ладимировна упивалась полетами. ѕод ее началом «на крыло встали» сорок п€ть мальчишек.
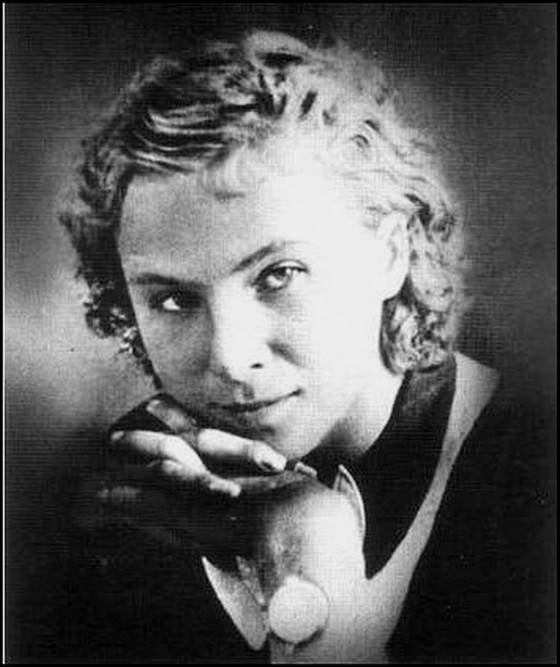
Ћил€ очень хотела попасть на фронт. Ќаход€сь в ”фе, куда эвакуировали весь аэроклуб, ей становитс€ известно, что в ћоскве началось формирование женских авиационных полков. Ќеудержимое желание сражатьс€ с врагом могло стать воплотитьс€ в жизнь. Ћил€ уезжает в столицу. ќна решила, что будет сражатьс€ с фашистами исключительно на истребителе. ќднако достичь поставленной цели было весьма не просто. Ќеизвестно, как Ћитвак удалось приписать недостающие сто часов к уже имевшемус€. ¬ любом случае, но этот «обман» помог попасть в учебно-боевую часть. Ћил€ после ее окончани€ была зачислена в 586-й женский истребительный авиаполк.
...Ћето 1942-го года. √арь в воздухе над —аратовом. ѕосто€нные налеты «’ейнкелей» и «ёнкерсов» на переправы и оборонные предпри€ти€. Ћетчицы полка противовоздушной обороны защищают город, прикрыва€ его с воздуха. Ћил€ вместе с другими принимает участие в отражении вражеских налетов, сопровождает самолеты специального назначени€ к линии фронта. ¬ сент€бре 1942 года Ћитв€к вход€ в группу девушек, убывает в распор€жение 6-й истребительно-авиационной дивизии, котора€ защищала небо —талинграда. ƒл€ Ћили Ћитв€к, –аи Ѕел€евой, ћаши узнецовой, ати Ѕудановой, ее боевых подруг, с этого времени начинаютс€ дни суровых испытаний т€желыми воздушными бо€ми.

ѕрактически во врем€ каждого боевого вылета происходила напр€женна€ воздушна€ схватка. —вою первую победу Ћитв€к одержала уже 13 сент€бр€. —талинграду летели сопровождаемые «мессерами» «ёнкерсы». Ћил€ в составе своей группы вступает в бой. Ќа —талинградском фронте это был второй ее вылет. ¬ыбрав цель, Ћил€ подходит сзади снизу к «ёнкерсу». «аход был удачным: она расстрел€ла самолет противника хладнокровно, как будто это происходило на полигоне. —чет открыт! ќднако бой еще не завершен. ”видев, что Ѕел€ева –а€ ведет единоборство с «ћессершмиттом», Ћиди€ Ћитв€к бросает на помощь подруге свой «як». » эта помощь была как нельз€ кстати – у Ѕел€евой кончились боеприпасы. «ан€в место подруги, и нав€зав поединок пытавшемус€ уйти фашисту, Ћил€ сбивает и его. ќдин бой – две победы! Ќе каждый боевой летчик может совершить такое.ј под вечер Ћил€ оп€ть увидела своего противника. Ћетчик сбитого «мессера», плененный ас из эскадры «–ихтгофен», немецкий барон, пожелал познакомитьс€ с победителем. нему на встречу пришла белокура€, нежна€ с вида молода€ женщина. Ёто попросту взбесило барона. –усские захотели над ним поиздеватьс€!

ƒва женских экипажа, Ћидии Ћитв€к и ≈катерины Ѕудановой, в €нваре 1943 года были зачислены в 296 истребительный полк, который в то врем€ базировалс€ под —талинградом на аэродроме отельниково.ќбстановка в воздухе в марте 1943 года осложнилась: в зону действи€ полка начали вторгатьс€ группы из состава знаменитых фашистских эскадр «”дет» и «–ихтгофен». Ћил€ в составе шестерки «яков» в небе –остова 22 марта принимала участие в перехвате группы «ёнкерсов-88». ¬ бою Ћитв€к сбивает один из них. Ўестерка Me109, подоспевша€ на выручку фашистам, с ходу атакует. ѕерва€ их заметила Ћитв€к. ƒл€ срыва внезапного вражеского удара, она в одиночку встает на пути группы. –анена€ летчица после п€тнадцатиминутного бо€ сумела привести на свой аэродром искалеченный «як».»з госпитал€ Ћил€ отправл€етс€ в ћоскву, к себе домой на Ќовослободской улице. — нее при этом вз€ли расписку, что в течение мес€ца она будет долечиватьс€ дома. ќднако спуст€ всего неделю столицу пришлось покинуть.

5 ма€, еще не до конца окрепнув, Ћил€ добиваетс€ направлени€ сопровождать наши бомбардировщики в составе группы прикрыти€. ¬о врем€ вылета зав€залс€ воздушный бой. «ћессеры», внезапно по€вившиес€ со стороны солнца, атаковали наши «ѕетл€ковы», идущие плотным строем. ¬ зав€завшемс€ бою Ћитв€к сбивает еще одного вражеский самолет. 7 ма€ она вновь «вырываетс€» в небо. »з перекрести€ ее прицела задымившись, уходит еще один «мессер».
Ќа участке фронта, где действовал полк, в конце ма€ фашистами был «подвешен» аэростат наблюдени€. орректируемый наблюдател€ми артиллерийский огонь стал доставл€ть нашим войскам значительно больше хлопот. Ћил€ уходит на задание в одиночку. ¬злетев, летчица предпринимает хитроумный маневр – углубившись в тыл противника, заходит на аэростат со стороны солнца, из глубины вражеской территории. Ќа максимальном газу, разогнав почти до флаттера свой "як", она идет в атаку. — рассто€ни€ приблизительно в 1000 метров открыла огонь из всех точек и не прекращала его, пока не проскочила около падающего аэростата. »юнь принес Ћидии Ћитвак т€желые испытани€. ѕогибла Ѕуданова ат€, ее лучша€ боева€ подруга. роме того, на глазах у всего полка разбилс€ самолет —оломатина јлексе€, единственного в то врем€ √еро€ —оветского —оюза в полку, отличного парн€ и Ћилиного любимого...

—опровожда€ 16 июл€ 1943 года к линии фронта »л-2, шестерка наших «яков» вступила в бой с тридцатью шестью самолетами противника. Ўесть «мессершмиттов» и тридцать «юнкерсов» пытались ударить по нашим войскам, однако их замысел был сорван. Ћитв€к в этом бою развалила на части еще один «ёнкере» и при поддержке своего ведомого сбила Me-109. » вновь ранение. Ќа требование лечь в госпиталь ответила категорическим отказом: «—ил у мен€ достаточно». —ледующий бой состо€лс€ спуст€ всего три дн€.Ћитв€к 21 июл€ вместе с √олышевым »ваном, командиром полка вылетела на боевое задание. Ќаша пара во врем€ вылета была атакована семеркой «мессеров». омандиру «досталось» четверо фашистов, ведомому – трое. ќблада€ чувством взаимовыручки, Ћитв€к не на минуту не забывала о командире. ќдин «мессер», из наседавших на √олышева ей удалось сбить. ќднако силы были неравны. —амолет Ћили подбили, и она, до самой земли преследуема€ врагами, посадила машину на фюзел€ж в полукилометре от села Ќовиковка.ѕо всему фронту шла слава о доблести женщины-летчика-истребител€. ¬се летчики полка любили и оберегали Ћилю. ќднако не уберегли...
Ћитв€к 1 августа 1943 года трижды поднимала в небо войны свой «як». “ретий бой был очень т€желым, его вели с большой группой истребителей врага. —бив в этой схватке Me 109, летчица одержала четырнадцатую личную победу. ѕоследний боевой вылет Ћили был в этот день четвертым. Ўестерке наших истребителей пришлось схватитьс€ с сорока двум€ самолетами противника. »з этого сражени€ не вернулось две машины врага.
...¬ небе над ћариновкой угасал бой. Ќа запад уходила разогнанна€ фашистска€ армада. ѕрижавшись к верхней кромке облаков, наша шестерка не потер€вша€ ни одной машины вз€ла курс домой. ¬ этот момент из белой пелены внезапно выскочил шальной «мессер» и прежде чем вновь нырнуть в облака, дал очередь по ведущему последней пары... Ќа аэродром не вернулс€ як-1 бортовой номер «23». 4 августа 1943 г. гвардии младшего лейтенанта Ћитв€к Ћидию ¬ладимировну приказом по ¬осьмой воздушной армии навечно зачислили в списки 73-го гвардейского —талинградского истребительного авиаполка. —пуст€ четыре дн€, 8 августа, Ћитв€к была представлена к званию √еро€ —оветского —оюза посмертно. ƒанную награду она бесспорно заслужила.ќднако тогда Ћиле этого высокого звани€ не присвоили. ¬ качестве посмертной награды вместо «олотой «везды пришел орден ќтечественной войны 1-й степени... —амолет Ћили упал на зан€той противником территории, в рощу возле хутора ожевн€ (село ƒмитровка, Ўахтерский район). то и где похоронил летчицу – неизвестно.ћестные жители в 1946 году сдали останки Ћилиного самолета на металлолом. —лед отважной летчицы был надолго потер€н.Ѕесстрашна€ Ћил€, пала смертью храбрых в родном небе, похоронена была также в своей земле, однако долгие годы была пропавшей без вести. Ёта неопределенность длилась на прот€жении сорока п€ти лет. однако след отважной летчицы все эти годы упорно искали. »скали однополчане, солдаты, школьники.√азета « омсомольска€ правда» в 1968 году попыталась восстановить честное им€ Ћили. ќформление « омсомолкой» представление к присвоению Ћитв€к Ћ.¬. звани€ √еро€ направили в политическое управление военно-воздушных сил. омандование ¬¬— поддержало благородный порыв коллектива газеты, однако не забыло и о принципе «осторожность - не помеха». ¬ердикт командовани€: "»щите. Ќайдете, будем говорить".

¬ поиски Ћитв€к в 1971 году включились юные бойцы ќтр€да разведчиков военной славы под руководством ¬алентины ¬ащенко, учительницы 1-й школы г. расный Ћуч. ¬ течение нескольких лет девчонки и реб€та отр€да вдоль и поперек «прочесывали» окрестности села ћариновка.Ћилин след нашли неожиданно, практически случайно. ѕозднее стало известно следующее. ќстанки неизвестной летчицы, обнаруженные местными мальчишками случайно, вместе с останками других воинов, которые погибли в этом районе, похоронили 26 июл€ 1969 года. «ахоронение состо€лось в центре села ƒмитровка (Ўахтерский район). ѕеред этим врачами было установлено, что останки летчика женские. “ак на братской могиле " 19 с. ƒмитровка среди многих фамилий по€вилась «Ќеизвестный летчик».

»так похоронена была летчица-истребитель! Ќо вопрос – кто именно? ¬ 8-й воздушной армии в тот период их было две – Ѕуданова ≈катерина и Ћитв€к Ћиди€. Ѕуданова геройски погибла в июне 1943 года. »звестно и место ее захоронени€. «начит Ћил€? ƒа, безусловно, это была она. —правка, полученна€ из ÷ентрального архива ћинобороны, подтвердила сделанный вывод. »м€ Ћидии Ћитв€к в июле 1988 года увековечено в месте захоронени€, братской могиле " 19, наход€щейс€ в центре села ƒмитровка. ¬ но€бре 1988 года приказом зам. министра обороны внесено изменение в пункт 22 приказа √лавного управлени€ кадров от 16 сент€бр€ 1943 года, в отношении судьбы Ћитв€к написано:
«ѕропала без вести 1 августа 1943 г. —ледует читать: погибла при выполнении боевого задани€ 1 августа 1943 г.»
“аким образом последнее белое п€тно в судьбе Ћили было ликвидировано. ѕосле этого в ¬ерховный —овет ———– ушло представление к присвоению звани€ √еро€ —оветского —оюза Ћ. ¬. Ћитв€к и о повышении ее в звании посмертно. Ёто высокое звание гвардии старшему лейтенанту Ћитв€к было присвоено 6 ма€ 1990 г.
—писок побед, одержанных Ћитвак Ћидией ¬ладимировной:
¬ылеты єє 1 и 2, 13.09.1942, на Ћа-5 сбиты Bf 109 и Ju 88 соответственно.
¬ылет є 3, 27.09. 1942, на Ћа-5 сбит Ju 88.
¬ылет є4, 11.02. 1943 на як-1 сбит FW 190A.
¬ылеты єє 5 и 6. 1.03. 1943 на як-1 сбиты FW 190A и Ju 88 соответственно.
¬ылеты єє 7 и 8 15.03. 1943 на як-1 сбито по одному Ju 88.
¬ылет є9 5.05. 1943 як-1б данные о сбитых самолетах отсутствуют.
¬ылет є10 31.05. 1943 на як-1б сбит аэростат.
¬ылеты єє 11 и 12. 1.08. 1943 як-1б данные о сбитых самолетах отсутствуют.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
–усска€ ¬алькири€. |
Ёто цитата сообщени€ bolivarsm [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
–усска€ ¬алькири€
- ƒоблесть советских людей в годы ¬еликой ќтечественной войны стала одной из основных причин нашей победы в смертельной битве с германским фашизмом. –усские солдаты продемонстрировали беспримерный патриотизм и любовь к своей –одине, готовность защищать ќтечество в любых боевых услови€х, невзира€ на угрозу собственной жизни. ќсобн€ком сто€т военные летчики расной јрмии, столкнувшиес€ со страшным врагом – высококвалифицированными пилотами немецких военно-воздушных сил. огда у русских авиаторов не оставалось никаких шансов на победу, когда все способы и средства исчерпывались, они предпочитали совершать таранный удар по вражескому самолету – подтверждение исключительного мужества, отваги, самоотверженности, верности воинскому долгу. «а долгие годы войны было зафиксировано свыше п€тисот таранов немецких самолетов русскими летчиками. Ѕолее двадцати из них совершили этот смертоносный прием дважды. »менно массовые тараны стали бичом опытных немецких асов, одному из которых принадлежат такие слова: «ќ таранах, разумеетс€, мы знали раньше, но не видели их выполнение. ака€ же это страшна€ вещь. ћы поражены мужеством и бесстрашием советских летчиков». Ёто фраза командира сбитого бомбардировщика Ћюфтваффе вовсе не была комплиментом в адрес наших пилотов, а лишь объективной оценкой человека, испытавшего таран на себе.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
ƒевушки 487-го истребительного авиаполка. |
ƒневник |

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
–усска€ ¬алькири€ |
ƒневник |
ƒоблесть советских людей в годы ¬еликой ќтечественной войны стала одной из основных причин нашей победы в смертельной битве с германским фашизмом. –усские солдаты продемонстрировали беспримерный патриотизм и любовь к своей –одине, готовность защищать ќтечество в любых боевых услови€х, невзира€ на угрозу собственной жизни. ќсобн€ком сто€т военные летчики расной јрмии, столкнувшиес€ со страшным врагом – высококвалифицированными пилотами немецких военно-воздушных сил. огда у русских авиаторов не оставалось никаких шансов на победу, когда все способы и средства исчерпывались, они предпочитали совершать таранный удар по вражескому самолету – подтверждение исключительного мужества, отваги, самоотверженности, верности воинскому долгу. «а долгие годы войны было зафиксировано свыше п€тисот таранов немецких самолетов русскими летчиками. Ѕолее двадцати из них совершили этот смертоносный прием дважды. »менно массовые тараны стали бичом опытных немецких асов, одному из которых принадлежат такие слова: «ќ таранах, разумеетс€, мы знали раньше, но не видели их выполнение. ака€ же это страшна€ вещь. ћы поражены мужеством и бесстрашием советских летчиков». Ёто фраза командира сбитого бомбардировщика Ћюфтваффе вовсе не была комплиментом в адрес наших пилотов, а лишь объективной оценкой человека, испытавшего таран на себе.

ћного уникальных и вместе с тем трагичных случаев воздушных таранов знает истори€ ¬еликой ќтечественной, но один из них все же стоит отдельно – тот, который совершила женщина. «вали ее ≈катерина »вановна «еленко.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
ќткровенно о войне. Ѕрок-Ѕельцова √алина ѕавловна |
ƒневник |
|
|
|
я родилась 12 €нвар€ 1926 года в ћоскве на ћалой —еменовской. ¬ окт€бре 1941 года, когда немцы рвались к ћоскве, весь наш класс пришел в райком комсомола и говорим: «’отим защищать ћоскву», а € же 1926 года была, нас призывать тогда нельз€ было, но самых спортивных из нашего класса отобрали и направили в авиационное училище. “ак € попала в ћосковское раснознаменное авиационное училище св€зи, которое готовило радистов, синоптиков и метеорологов дл€ авиации. ¬ 1942 году училище было эвакуировано в —ызрань, но уже в 1943 году, первым, вернулось в ћоскву. я училась на метеоролога и нам немного преподавали штурманскую подготовку, поэтому в 1943 году 9 человек с нашего потока отправили в …ошкар-ќлу, в запасной авиационный полк, дл€ переучивани€ на штурманов. “ам мы, сперва, обучались на —Ѕ и “Ѕ-3, а потом уже нас начали учить на ѕе-2. ѕервое ощущение от ѕе-2 – красива€ хищна€ птица. “Ѕ-3 – т€жела€ машина, скорость маленька€, в полете посто€нна€ болтанка, а ѕе-2 – хищник, очень красива€ и скоростна€ машина, но и очень сложна€. ќна без бомбовой нагрузки 7 тонн весила, да еще 1200 кг бомб, а взлетна€ скорость 280 км/ч и вот мы несемс€ по земле, по укатанному аэродрому, кажетс€ пора взлетать, а не можем… ћногие не выдерживали и с аэродрома уклон€лись. ¬ запасном полку мы учились летать зимой, летали в любую погоду, взлетна€ полоса лед€на€, ощущение того, что летишь на земле, и не чувствуешь, когда отрываетс€ самолет. ј когда окончили обучение в запасном полку и нас выпустили в боевой полк, то там уже взлетали с грунтовых аэродромов. ќни укороченными были и вот, иногда, оторватьс€ не могли, а впереди капониры. ѕодрываешь машину, а она шубуршитс€, колеблетс€, в капониры с бомбами и взрываетс€.
Ќадо сказать, что в запасном полку сразу формировали экипажи – пилот, штурман и стрелок – звено 3 самолета, эскадриль€ – 3 звена. ћы, сперва, на земле изучали самолеты, а потом полеты. ¬злет, построение, а скорость больша€, 380-400, кажетс€, что соседний самолет сейчас тебе на крыло завалитс€, а чем плотнее строй – тем безопасней в случае атаки противника. » вот мы учились. ¬ождение по курсу, ориентировка, стрельба и бомбометание с пикировани€ – идешь на пикирование, огромна€ перегрузка, уши закладывает, из носа кровь течет, и в момент выхода из пикировани€ нажимаютс€ гашетки пушек и сбрасываютс€ бомбы, и, одновременно, самолет выводитс€ из пикировани€, и все это на интуиции летчика. √оризонтальное бомбометание – приходим на цель, заходим, высота, скорость, курс точно на цель, прицел, бомба сбрасываетс€. ÷ель поражена, фотографируем.
роме того стрельба по воздушным цел€м – ведущий взлетает, выпускает конус, а его очень трудно выпустить – ведущий выпускает эту колбасу, а она свертываетс€, не набирает воздуха, не превращаетс€ в кишку. я сзади иду и мо€ задача – расстрел€ть конус. „тобы мы не попали по самолету, они чуть разворачивались, и конус шел под углом. » вот конус, с большим трудом выпуст€т, а € вжиг – и сбиваю его. ѕотом мне говор€т: «√ал€, ну что же ты сделала. “ы перва€ полетела и расстрел€ла этот конус. ќп€ть выпускать надо». ¬место того, чтобы поощрить мою отличную стрельбу, мен€ ругали за то, что € так стрел€ла. ¬ апреле 1944 года мне присвоили звание младшего лейтенанта и направили в полк ћарии –асковой. ѕервый боевой вылет. ћы его ждали чрезвычайно, потому что за нами в …ошкар-ќлу прилетели старые летчицы полка – у каждой грудь в орденах, у одной орден јлександра Ќевского, это у женщины-то! ј нам в запасном полку уже надоело, «пешки» заносило снегом, чтобы она вырулила, надо было горы снега перебросать, питание тоже не ахти и вот мы, наконец, прилетели на фронт, а там совсем друга€ обстановка – из голодной …ошкар-ќлы на авиационные харчи – шоколад, сгущенное молоко, галеты, это все Ќ«, неприкосновенный запас, но надо же попробовать, а вдруг испортилось. Ќас в полку прекрасно встретили и единственное наше желание было – скорее в бой. ћы прилетели на своих самолетах, сели на аэродромы полка. ѕрилетели, надо познакомитьс€ с районом, где мы базируемс€. ”чили карты крупного масштабы, сдавали экзамены. ѕредположим, вас подбили, где садитьс€? ¬от аэродром подскока, вот бывший аэродром, покрытый воронками, садитьс€ нельз€… уда можно садитьс€? ¬се тщательно изучили и только тогда боевой вылет.
¬злетели, собрались над аэродромом, встали на курс, впереди «старики». ќриентировка очень сложна€ – на карте деревн€, летишь – пепелище – ничего нет, нет деревни. Ќа карте – лес, опушка, летишь – лесок вырублен. „то остаетс€? ƒорог много. ¬се поле изрешечено дорогами, сюда дорога, сюда дорога, и даже не поймешь, где основна€ дорога. » вот пересекли линию фронта, пожарища, дымова€ завеса, ориентироватьс€ т€жело, подлетаем к объекту, а он защищаетс€ зенитными установками, начинаетс€ обстрел. –азрыв над тобой черное облако, р€дом огненный шар, слева свободно. уда мы идем? ¬ огненный шар, а, может, огненного шара там нет, там только пепел, образно говор€. » вот маневр, но маневрирует не каждый самолет отдельно, а только в строю, умение держатьс€ в тесном, сомкнутом строю спасало, потому что – кончилс€ обстрел, жди истребителей. ” нас все внимание на бомбометание, а они в это врем€ атакуют. ¬ первый вылет мы бомбили не по прицелам, а по ведущему, мы же еще ничего не понимаем, только начинаем работать в боевых услови€х. ќтбомбились, сфотографировали, разворачиваемс€, идем домой. ¬от первый вылет. Ќа первом вылете мы мало что видели, мало что понимали. Ќас вводили в бой обстрел€нные, понюхавшие порох люди. ак их вводили в бой, так они и нас, молодых, тоже вводили в бой. ¬ 1944 году был еще такой случай – у нас на самолете моторы отказали. ћы тогда бомбили немецкими бомбами, пузатенькие такие, желтенькие, две по 500 кг, и вот как-то вылетели с ними, и один мотор отказал, а второй барахлить стал. Ќадо бомбы сбрасывать и возвращатьс€, а нам передают, что наши перешли в наступление, и мы все еще над ними летим, сбрасывать бомбы – значит отбомбитьс€ по своим, а это расстрел. » мы прин€ли решение садитьс€ с бомбами с одним, плохо работающим мотором. Ћетим, под нами укороченный аэродром истребителей, которые нас прикрывали, они ближе к линии фронта сто€ли и мы туда, а он короткий, дл€ бомбардировщика вдвое длиннее надо. ћы с бомбами идем, все в сторону шарахаютс€. —ели, аэродром кончаетс€, тормозить нельз€ и мы выкатываемс€ с бомбами за линию аэродрома. Ќикого нет, все разбежались. ћы по кочкам, по кочкам, и в овраги, из которых берут песок, чтобы посыпать аэродром. Ўасси подломились, дым коромыслом. Ћетчик выскочил, а мен€ зажало, у мен€ люк снизу, а там шасси подломилось, и € уже снизу вылезти не могу. Ћетчик, “оська —пицына, высочил, закурила, –айка, стрелок, тоже выскочила. ќтбежали, мне кричат: «√ал€, быстрее, а то взорветс€». ј у мен€ такое безразличие, обида, неудовлетворенность, и никакого желание бежать. ќни кричат: «ƒавай, быстрее сейчас взорветс€». я говорю: «Ќичего не взорветс€». — аэродрома прибежали, сто€т около –айки и “оськи, €, в конце концов, смогла вылезти, иду, хромаю.
¬ другой раз нас немножко задело в воздухе, причем свои же, когда идешь в строю, то ведомый может теб€ задеть, и нас вот так задели. —амолет еще управл€ем, но уже не так, еще и скорость уменьшилась и мы стали отставать. олонна оторвалась от нас, а мы уже вышли на линию бомбометани€. ѕрин€ли решение, идем на цель одни. ќтбомбились. —фотографировали. –азворачиваемс€, там бой идет, немцы атакуют нашу колонну, стрельба жутка€, но колонну-то наши истребители прикрывают, а мы одни. —олнце, прекрасное голубое небо, наш самолет никто не обстреливает, никто не атакует, задание выполнено и вдруг два фоке-вульфа. ”видели болтающийс€ один пикировщик и вперед. ћне стрелок кричит, штурман, сверху, сбоку и летчик говорит мне – ‘окер, они так заходили, один спереди, один сзади. —трелок и летчик вид€т, а € в другую сторону смотрела и не видела. ѕоворачиваюсь – на мен€ идет фоке-вульф, нормально идет, можно было стрел€ть. я начинаю стрел€ть, стрелок стрел€ет, летчик стрел€ет. Ќемцы круг около нас организовали, то один заходит, то второй. »митаци€ того, что нас без конца атакуют. јтаку эту отбила, мне стрелок кричит: «Ўтурман, снизу фоке-вульф»! ¬ижу – идет, потом смотрю – его уже нет. » он по€вл€етс€ в «мертвой» зоне, на «пешке» снизу-сбоку – «мертва€» зона, куда не достает ни один из пулеметов. » вот фокер в этой «мертвой» зоне, близко так, видно лицо, шлемофон, рыжие волосы, а € его достать не могу. —трелок оп€ть кричит: «‘окер сзади». я туда поворачиваюсь, а летчик начал машину из стороны в сторону бросать, потому немцы стрел€ют в нас, а мы не можем ответить. Ћетчик самолет из стороны в сторону бросает, трассы выше, ниже, немцы никак в нас попасть не могут. ≈ще раз заход€т, с «мертвой» зоны, и вдруг отваливаютс€, наступает тишина, когда эти атаки начались в наушниках шум, крик, просто какой-то гвалт. ќрут, называют номера, 28-й сюда, 13-й туда, сумбур в воздухе. » вдруг, почему мне это запомнилось, вместо этого шума и гвалта, наступает тишина необыкновенна€, € смотрю, а сбоку два краснозвездных истребител€. огда война окончилась, € сразу подала за€вление на увольнение, и мой супруг будущий, мы с ним познакомились в запасном полку, а расписались через полгода после ѕобеды, говорит мне: «¬се, ты выполнила свой долг, ты должна быть гражданским человеком», и € уволилась, а некоторые еще два года продолжали служить, готовили смену из мужчин. - ¬ы говорили, что из пике выводили только на интуиции летчика. “о есть аппаратов у вас не было? - Ќе было автоматов, все на интуиции летчика. Ўтурман должен следить за высотой и воврем€ подсказать летчику, а если штурман разинет рот… - огда взлетали, самолет вдвоем поднимали? - Ќет. Ѕыли летчики слабоватые, у нас была была “амара ћаслова, она така€ очень женственна€ была, в туфельках на каблучках всегда летала, им иногда помогали хвост поднимать, а € на взлете не помогала. ” мен€ летчик была сильна€, спортивна€, “ос€ —пицына. ќчень красива€, интересна€ женщина. ќна до войны инструктором в аэроклубе была, готовила мужчин дл€ полетов. ѕотом пошла на фронт. - ‘отоаппараты на каждой машине сто€ли? - Ќет, у штурмана звена, в первое врем€ у штурмана эскадрильи. ” нас штурманы были девчонки из физмата ћ√”. Ќачалась война, все пошли воевать. - „то-то в кабине мен€ли, выкидывали? - Ќи в коем случае. ” нас технический состав очень грамотный, техники, инженеры. ≈динственное только – тумблеры тормозных решеток. “ормозные решетки нужны дл€ пикировани€, но мы-то не пикировали, а тумблеры сто€ли близко, и, чтобы не было ошибки, мы вытаскивали предохранители. » если летчик ненароком нажимал, то решетка не срабатывала. ј что значит выпустить решетку на посадке – это все, конец. ѕоэтому эти предохранители из щитка, он справа был у штурмана, вытаскивали, чтобы избежать вот таких нежелательных моментов. ѕолностью их не удал€ли. - ј вооружении ѕе-2 как оцениваете? Ќапример, как вам пушка Ѕерезина? - Ёто прекрасный пулемет-пушка. огда нам сказали – пулемет-пушка – мы удивились, а на самом деле это было мощное устройство. ћы тщательно тренировались с ним, разбирали и собирали. «а все врем€ боевых действий никаких отказов. „тобы во врем€ бо€ отказывал пулемет такого не было. Ѕезотказное оружие. - ¬ас всегда истребители прикрывали, или бывало так, что их не было? - Ѕывало так, что больша€ группа фоке-вульфов, зав€зывала бой и отвлекала наши истребители. » тогда наша колонна оставалась без прикрыти€, и другие истребители противника нас атаковали и сбивали. Ќо это ошибка наших истребителей, нельз€ увлекатьс€ боем истребитель с истребителем. - — какими бомбами в основном летали? - 100 килограммов фугасные, и кассетные, трофейные, бомбы. - ј бомбова€ нагрузка кака€ была? - ¬ основном 1000 килограмм, но в конце войны, когда была бетонна€ полоса, хорошие аэродромы, брали и по 1200 килограмм. - –оманы в полку были? - Ќет. ƒевчонки не встречались с реб€тами, не дружили с мальчишками. Ќас спрашивали: «ј вы целовались»? «Ќет. ¬ойна закончитс€, тогда начнетс€ наша втора€ юность, молодость». - »з полка по беременности никто не уезжал? - Ќет. ” нас никто не уезжал. Ћюбовь у некоторых была, симпатии какие-то были, но чтобы во врем€ войны по беременности – не помню такого. огда война закончилась, некоторые списались, сошлись. я вот со своим будущим мужем еще в запасном авиаполку познакомилась, он мне всю войну писал, по три письма в день. ћне говорили, никто не получил, а ты в день по три письма. - акие были взаимоотношени€ в женском коллективе? - Ќикаких склок. ¬ тоже врем€ кучковались по интересам – летчики отдельно, штурманы отдельно. Ћетчики вроде постарше, командиры экипажей, но € тоже офицер, младший лейтенант, потом лейтенант, старший лейтенант. Ќо главное было – работа – т€жела€, ответственна€ работа, котора€ требовала всего теб€. ¬стречались с реб€тами, с летчиками-истребител€ми, с летчиками-штурмовиками. Ўурмовики как-то: «ƒевочки, мы вам покажем, как летают штурмовики». —ела в штурмовик, возле стрелка и вот он показывает на бреющем идет, потом, раз, «свечку». ѕотом так оборачиваетс€, спрашивает: «¬ы так летаете? ” вас такие асы, √алочка, есть»? я говорю: «” нас таких дураков нет». » разговаривать даже нет желани€. ѕривыкаешь к дисциплине, к уважительному отношению к технике. » вот когда така€ бравада… ѕросто презрение, когда человек чем-то кичитс€. - ¬аш экипаж вообще дружный был? - ƒа, не смотр€ на разницу в возрасте. Ћетчику, “осе, 26 лет было, разница 8 лет, она замужем была, у нее ребенок, но все равно дружными
|
- ј как было с гигиеной? ”мывались, когда вставали? «убы чистили?
- ≈сли честно, это така€ деталь, на которую мы даже не обращали внимание. «убы не чистили, ни пасты, ни зубных щеток у нас не было. Ѕыл общий кусок мыла в рукомойнике. ћы жили все в земл€нке, на нарах спали. ћожете себе представить? «емл€нка наша в три наката, подстрижены под мальчишку, приказ –асковой был – все косы обрезать, у всех стрижки под мальчишку. Ќикаких зубных паст не было. –укомойник в стороне, туалет в стороне. Ќа п€ть минут дают гор€чую воду.
Ќо мы всегда были чистые. Ѕани были везде, мы же на аэродроме, это не пехота. ¬се чисто. „истое военное белье. ћужские кальсоны, мужска€ рубашка, ничего более.
- ћужское белье не вызывало раздражение: примитивное, убогое?
- Ќет. ѕравда, была одна специфическа€ деталь – у летчиков очень часто белье было из байки. ѕорт€нки из байки. » вот из этой байки некоторые шили себе купальнички, на верх и на низ. Ќо, если честно, мы не испытывали такой необходимости иметь бюстгальтер. „истое хлопчатобумажное белье, брючки, гимнастерки, рубашки, засучивали рукава. Ќикакой потребности в красивом, нар€дном не было. Ўинель под себ€, шинель под голову.
” нас еще меховые тужурки и меховые брюки были, мы их зимой поверх х/б в полет надевали, меховые сапоги, меховые носки, унт€та, подшлемник аккуратненький, беленький и на него сверху меховой шлемофон, с наушниками и ларингофоном.
- ѕосле вылетов давали 100 грамм?
- ƒа. » вот это тоже интересно. ƒаже ћаргарита јлигер писала. ¬стаешь в 4 утра, сидишь в готовности на аэродроме, получаешь задание, прилетел, на аэродроме обед. ѕообедал. ќп€ть сидишь в готовности. ќп€ть задание. ¬торой вылет. ак правило, по два вылета в день делали. ѕредставл€ете, что такое вылет? ѕодготовка, цель, вернулс€, покушал, передохнул на нарах, тут же, где аэродром, а кругом поле, лес, цветы, мы иногда даже венки плели. ј трудовой день закончилс€ – темнота, приходишь в столовую, аппетита нет, потому что перекусывали на аэродроме. акой-то котелок с кашей, кусок хлеба. «а сапогом ложка, нож, вилки не было.
ѕриходишь в столовую, рабочий день закончилс€, кто-то сгорел, кто-то не вернулс€ на базу. “ы целый день в зимнем обмундировании, в этом же обмундировании пришла в столовую и тебе дают 100 грамм водки, а ты ее выпиваешь, как какую-то воду, как сок. ѕотом тебе дают первое, второе, кружку компота. “ы выпила, поела. ѕришла в палатку, там матрасы, набитые сеном, лежат. омбинезон сн€ла и все ложимс€ друг к другу лицом, экипажами – летчик, штурман, стрелок, повернешьс€ и чувствуешь тело соседа.
- ≈сли говорить о медицинском обслуживании, в период менопауз давали послабление?
- Ќичего. Ќикто никогда не о чем не знал. ≈сть вещи, которые проход€т совершенно естественно. Ќа это никто никогда не обращал никакого внимани€. ” врача было типа какой-то гигиенической аптечки. ћежду прочим, где-то лежала аптечка. ому нужно было, брали. ¬се это как-то незаметно, красиво. ћы же дес€тиклассники и студенты, 2-го, 3-го курсов.

- “ехнический состав на земле кто в основном был, мужчины или женщины?
- » женщины и мужчины, но мужчин было меньше, а женщин больше – а механики, вооруженцы, телефонисты, телеграфисты, инженер по вооружению – все женщины. Ќо были и мужчины, но мало. огда не хватало женщин, то брали мужчин-специалистов. Ќаш полк считалс€ женским.
- акое было денежное довольствие на фронте?
- ƒенег у нас никогда не было. Ќам давали большие деньги – гвардейские, фронтовые, но мы только расписывались, а все деньги шли на книжку. огда кто-нибудь погибал – родственникам передавали книжки. ј так, наличных денег у нас не было.
- ”давалось посылки посылать домой?
- Ќикогда. Ќикаких посылок, ничего.
огда после операции «Ѕагратион» мы вступили на земли ¬осточной ѕруссии, там народ бежал. ћы входили в поселки, а они были пустые, в домах занавески, шикарный немецкий фарфор. Ѕјќ освобождал нам помещени€ и мы уже спали не на нарах, а на кроват€х. Ќо никакого обогащени€, ограблени€, опустошени€ каких-то шкафов – не было.
Ѕывало входишь в особн€к, стоит цела€ группа хороших велосипедов, мы садились на них и ездили по городку. »ногда в парке ездили, разминались. »ногда у них отказывали тормоза, мы неслись так, что думали, разобьемс€. ј так, чтобы посылки… грабить – нет, это не было.
- ѕарфюмери€ была?
- Ќикакой парфюмерии. Ќикакой краски, пудры, даже зеркал не было. ” нас казарма, земл€нка, там не было никаких зеркал. Ћюбого из наших спросите, нас сейчас четверо на ногах. ” нас волос-то не было – идут девчонки, похожие с ног до головы на парней.
- Ќа фронте как отдыхали, допустим, когда нелетна€ погода?
- ƒелали свои крупные карты, которые складывались в книжечки, изучали район боевых действий. ќчень многие вышивали. —ид€т в готовности, шили, вышивали.
ј € больше размышл€ла. я была человеком философского склада мышлени€, увлекалась классикой, литературой. ћы много читали, зачитывались Ўолоховым, Ёренбургом, јлексеем “олстым, —имоновым, газетными стать€ми, « ак закал€лась сталь» ќстровского. ¬се передавали из рук в руки, книжки, брошюрки – это ходило по рукам, даже письма, например, мои письма зачитывались вслух – брали и читали все. ћне мой будущий муж писал, его в запасном полку оставили, готовить летчиков и вот он мне описывал как идет подготовка, всю войну писал.
- ƒневник вели?
- я не вела. √ал€ –удович, она сгорела в бою, она вела «… в наши дни жизнь становитс€ лучше и краше, ты подумай, ты только скажи, у кого была молодость €рче?! ћожет, в этом и счастье, мой друг?»
- ѕотери в полку большие были?
- Ѕыли. јн€ Ћисовска€ сгорела, ранило Ћену ћалютину, ћашу “арасенко…
2 ма€ пал Ѕерлин, а 8 ма€ мы все еще летали на выполнение боевого задани€, бомбили порт на Ѕалтике, через него немцы вывозили все, что можно было вывести и оборон€лись жутко. Ќа подлете к Ћибаве погибло очень много наших реб€т. ћы, сперва в лоб летали, а потом решили со стороны мор€ заходить. «ашли, а нас оттуда не ждали, отбомбились и уходили с разворотом в другую сторону, мину€ артиллерийские установки
Ћибава все врем€ туманом закрыта была, и наши летчики даже придумали тост: ««а вечный туман над Ћибавой»! Ћибава закрыта – мы не летим. ≈сли раньше хотели, чтобы облака ушли, и чтобы мы пошли вперед, а теперь Ѕерлин пал – солнце, май, победа!!! ћожет хватит? 8 ма€ союзники праздновали победу, а у нас боевой вылет на Ћибаву.
9 ма€ сообщили, что война закончилась. «десь уже ликование, радость всех переполн€ла…
- —колько у вас боевых вылетов?
- — подтвержденным бомбометанием 36, а были еще не подтвержденные – вылет был, но результаты не фотографировались, подтверждени€ нет.
- —уевери€ были?
- Ќет. Ќе верю в суевери€. —уевери€ – это значит 13-е число, 13-й номер, перед полетом сходить в одном место. я не суеверна€. я не верующа€, не суеверна€. Ѕыло самовнушение. ћаме все врем€ говорила: ∆ди мен€, € вернусь.
- ¬ойна снитс€?
- ƒа, до сих пор снитс€. » не только война, а еще очень ответственные периоды – бомбежки ћосквы, экзамен.
- ак вы считаете, женщины должны были воевать? »ли это не женское дело?
- ” войны не женское лицо, война – это удел мужчин. Ќо когда враг напал, когда он бомбит, когда мы в кинотеатре смотрим фильм, а тут воздушна€ тревога, нас загон€ют в метро «—талинска€», там старики, дети, а мы сильные, красивые. » вот мы классами уходили защищать ћоскву. ¬опрос – женское это дело или не женское не сто€л. Ѕыла война народна€. » все, кто мог что-то сделать, уходили воевать.
| »нтервью и лит.обработка: | ј. ƒрабкин, Ќ. јничкин |
Ќаградные листы
(из базы данных podvignaroda.ru).




http://iremember.ru/letchiki-bombardirov/brok-beltsova-galin...
ћетки: у войны женское лицо |
ѕравда о «ое осмодемь€нской |
ƒневник |

»стори€ подвига «ои осмодемь€нской еще с военной поры €вл€етс€ по сути дела христоматийной. ак говоритс€, об этом писано-переписано. “ем не менее в прессе, а в последнее врем€ и в »нтернете, нет-нет да и по€витс€ какое-нибудь «откровение» современного историка: «о€ осмодемь€нска€ была не защитницей ќтечества, а поджигательницей, котора€ уничтожала подмосковные деревни, обрека€ местное население на гибель в лютые морозы. ѕоэтому, мол, жители ѕетрищево еЄ сами схватили и предали в руки оккупационных властей. ј когда девушку привели на казнь, кресть€не €кобы даже проклинали еЄ.
ћетки: у войны женское лицо |
≈сть вещи пострашнее войны |
ƒневник |
«Ѕыло ужасно жалко людей». Ћюдмила »вановна √ригорьева всю войну проработала медсестрой в московских эвакогоспитал€х. ѕро это врем€ она рассказывает с профессиональной сдержанностью. ј плакать начинает, когда вспоминает, что было в ее жизни до войны и после нее
ѕро самое начало у Ћюдмилы »вановны странное воспоминание, нигде про это читать не приходилось. Ѕудто бы в ночь на воскресенье, 22 июн€, в небе над ћосквой было зарево, словно пламенем все охвачено было. ≈ще она помнит, что когда ћолотов по радио говорил, у него голос дрожал. «Ќо люди как-то не очень побежали по магазинам. ќн сказал: вы не беспокойтесь, паники не устраивайте, еды у нас сверх головы. ¬се будет хорошо, победа будет за нами».
Ѕежать некуда
¬ 1941 году Ћ€ле, как ее тогда звали, было 15 лет. Ўколы занимали под госпитали, и в конце сент€бр€ она пошла поступать в медшколу при больнице имени ƒзержинского. «16-го мы с подружкой пришли на зан€ти€, а секретарь сидит в пальто и нам говорит: „Ѕегите! ¬се из ћосквы бегут“. Ќу, нам с мамой бежать некуда было: где мама работала, там не было организованной эвакуации. ј что немцы придут — мы не бо€лись, такой мысли не возникало». ќна забрала у секретар€ документы и пошла на —пиридоновку, в медучилище при ‘илатовской больнице. «ѕримите, говорю, мен€ учитьс€. ј директор смотрит на мен€ и никак не может пон€ть: „” вас же только 6 классов“. Ёто правда, только 6 классов было. я в детстве очень сильно болела. “ака€ дохла€ была, слов нет. —тыдно сказать, но уже будучи студенткой, € в куклы играла. Ќо у мен€ было желание — стать врачом. я говорю: „¬ы возьмите мен€, € справлюсь“. ќни мен€ прин€ли». роме Ћ€ли с мамой и братом в коммуналке было еще три семьи. «ѕечет мама пироги — всем реб€там по пирогу. ¬оробьева делает блины — всем по блину. онечно, бывали копеечные ссоры. Ќо мирились». ј в тот день 16 окт€бр€, возвраща€сь домой, Ћ€л€ увидела, что у ѕетровских ¬орот — сейчас там ресторан, а тогда был продуктовый магазин — дают масло по карточкам. «я получила кило шестьсот сливочного масла. ћама ахнула: „√де ты вз€ла?“ ј соседи наши, ÷итроны, уезжали. ћама это масло делит пополам — им дает и нам. ѕолина јнатольевна ахнула: „„то вы делаете? ¬ы же сами неизвестно как остаетесь“. ћама говорит: „Ќичего. ћы же все-таки в ћоскве, а вы вон куда едете…“
–аненые и те, кто их выхаживал в московском эвакогоспитале є 3359. 20 апрел€ 1945 года. Ћ€л€ — втора€ справа
1941 год был самый т€желый. ¬ домах ни тепла, ни электричества. «имой в квартире минусова€ температура, уборную заколотили, чтоб никто не ходил. „Ѕегали на площадь Ѕорьбы, там была городска€ уборна€. Ѕоже, что там творилось! ѕотом пришел папин при€тель, принес печку. ” нас был „моргасик“ — пузырек с фитильком. ¬ пузырьке хорошо если керосин, а так — что попало. ћаленький-маленький огонечек! ≈динственна€ радость у нас, у девчонок, была, когда мы в больницу приходили (туда не всегда пускали): у батареи с€дем, посидим, погреемс€. ”чились мы в подвале, потому что бомбежки уже начались. ƒежурство в больницах и госпитал€х в удовольствие было, потому что там было тепло“.
Ћесопильна€ бригада
ќт их группы в 18 человек через 10 мес€цев, к выпуску (ускоренное было обучение), осталось 11. –аспределили по госпитал€м. “олько одну, котора€ была постарше, отправили на фронт. Ћюдмила попала в эвакогоспиталь є 3372 на “рифоновской. √оспиталь был неврологический, в основном дл€ контуженных. –аботу на белую и черную не очень-то делили, медсестрам приходилось не только уколы делать и массаж, но и кормить, и мыть. „ћы жили на казарменном положении — сутки работаешь, сутки дома. Ќу, не дома, домой не отпускали — на 4-м этаже у нас у каждого была кровать. я активна€ была, и наш »ван ¬асильевич —трельчук, начальник госпитал€, мен€ назначил бригадиром лесопильной бригады. —утки € работаю, а вторые сутки мы с јбрамом ћихайловичем, хороший такой мужик был, пилили дрова. » с нами еще два человека, € их не очень запомнила“. ≈ще привозили уголь, его разгружали ведрами, после этого выходили черные, как негры.
ѕоклонна€ гора. 9 ма€ 2000 года. ¬ 2000 году Ћюдмила »вановна (слева) участвовала в параде на расной площади. ќ репетиции этого парада и его участниках-ветеранах режиссер “офик Ўахвердиев сн€л документальный фильм «ћарш ѕобеды»
ѕотом из этого госпитал€ Ћюдмила ушла — следом за доктором ¬ерой ¬асильевной ”манской, котора€ ее опекала, они потом дружили всю жизнь. √оспиталь є 3359 был хирургический, там Ћюдмила уже стала гипсотехником, пов€зки накладывала, научилась делать внутривенный наркоз, гексенал колола. ¬ хирургическом самое страшное было — газова€ гангрена, когда у раненых конечности раздувались, и остановить это могла лишь ампутаци€. јнтибиотики по€вились только в конце войны. «ѕерев€зки, обильное питье и аспирин — больше ничего не было. ∆алко их было неверо€тно. «наете, когда показывали раненых в „ечне — € не могла смотреть».
—мертельный роман
Ћюдмила »вановна в свои 83 года стройна и красива благородной, не знающей возраста красотой, а в молодости была большеглаза€ руса€ блондинка. –оманную тему она обходит, но пон€тно, что раненые ее выдел€ли, кто-то в нее влюбл€лс€, один ей самой нравилс€, он после госпитал€ оп€ть попал на фронт и погиб подо –жевом. ћихаил ¬асильевич –еут — так она его называет полным именем. Ќрава девушка была строгого, мужчины это, видимо, чувствовали и ничего себе не позвол€ли. «ћне бабушка говорила: „Ќижний глаз береги пуще верхнего“. я замуж девицей вышла в тридцать лет». ќна раненых жалела, и они к ней хорошо относились. «¬о врем€ дежурства спать ни в коем случае нельз€ было. ” мен€ был больной алкин, он мен€ бывало отсылал к своей кровати — она была в дальнем углу: „¬стань на колени и поспи, а € буду у стола. то будет идти, € тебе дам знать, и ты как будто постель поправл€ешь“. ¬идите, столько лет прошло, а € его помню». Ќо самый главный ее госпитальный роман был не любовный, а какой-то литературный, мистический, хоть кино снимай — про олю ѕанченко, которого она выхаживала и не смогла выходить. » так, видно, это перевернуло ее душу, что она решила сама его похоронить, чтобы он не попал в общую могилу и им€ его не затер€лось, как затер€лись тыс€чи имен других умерших в госпитал€х. » похоронила — своими полудетскими руками, на одной силе воли, на упр€мстве. ќтпевание в церкви, провидческий сон, ночное бегство на кладбище, предательство близких, перезахоронение после войны, когда она, как √амлет, держала в руках олин череп… ј в финале этой античной трагедии — катарсис, когда после изнурительной беготни, бюрократических закорючек и отча€ни€ она увидела-таки олино им€ на доске пам€ти ѕ€тницкого кладбища. «Ќе знаю, что тогда мен€ толкало — и не была € в него влюблена, у него невеста была, он мне фотографию показывал. ќн был с убани, из раскулаченных, отца выслали, там только мать осталась, сестра и плем€нница. я переписывалась с ними, наверное, года до 1946-го…»
Ќасто€щие страхи
„еловек скорее ироничный, чем сентиментальный, Ћюдмила »вановна тем не менее по ходу рассказа несколько раз плачет. Ќо не про войну — «про жизнь». “ака€ нашим старикам выпала жизнь, что война в ней не всегда была самым страшным испытанием.
ѕосле войны Ћюдмила дес€ть лет проработала в ‘илатовской детской больнице старшей операционной сестрой. — ужасом рассказывает, как дет€м приходилось делать бужирование. ћы сейчас пон€ти€ не имеем, что это такое, а тогда просто беда была. ” людей не было ничего, а крыс развелось видимо-невидимо, их травили каустической содой. Ќу и конечно травились дети. ƒостаточно крошки — и начиналось резкое сужение пищевода. » вот этим несчастным реб€тишкам вводили трубку, чтобы расширить пищевод. ј если не получалось, ставили искусственный. ќпераци€ шла 4–5 часов. Ќаркоз первобытный: маска железна€, туда хлороформ дают, чтобы ребенок не так страдал, а потом начинают капать эфир. «Ёту операцию у нас только ≈лена √авриловна ƒубейковска€ делала, и только во врем€ моего дежурства. ¬се это пришлось пережить».
≈ще пережито много семейного несчасть€. ¬ 1937-м у нее на глазах арестовали деда. « огда дедушку забирали, он говорит: „—аша (это бабушка мо€), дай 10 копеек“, —, а мужик ему: „“ебе не понадобитс€, дед. Ѕудешь бесплатно жить“. ƒ€дю тоже арестовали через день. ќни потом на Ћуб€нке встретились. ƒеда вз€ли в августе, а в окт€бре-но€бре он умер. ќтец сгинул перед войной — его забрали пр€мо на работе. ¬ 1949-м пришел черед матери.
„Ќу, маму € выхлопотала в 1952 году. я к ней в —ибирь ездила. —танци€ —услово, за Ќовосибирском. я вышла — стоит огромный состав, — тут Ћюдмила »вановна начинает неудержимо плакать. — –ешетки, оттуда руки высовываютс€ — и бросают письма. я вижу — идут солдаты. ћорды жуткие. — пистолетами. » собаки. ћат… неописуемый. „”йди! я теб€ сейчас пристрелю, собаку!“ Ёто мен€. я несколько писем собрала. ќн мен€ пинком…“
ак к матери в лагерь добиралась, что там видела и как возвращалась обратно — еще один ненаписанный роман. ћатери она сказала: „я об€зательно теб€ выхлопочу“. ¬ ћоскве Ћюдмила пробилась * Ќ.ћ. Ўверник в 1946–1953 годах — ѕредседатель ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———–.
к Ўвернику.* * Ќ.ћ. Ўверник в 1946–1953 годах — ѕредседатель ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———–. „Ќас поставили в р€д. ƒокументы перед собой. „¬опрос?“
я говорю: „ќ маме“. — „ƒайте“. огда вышла, разрыдалась. ј милиционер говорит: „ƒочка, да не плачь ты. –аз попала к Ўвернику, все будет хорошо“. » вскоре ее освободили…“
9 ма€ 1965 года. Ќовосибирск
9 ма€ 1982 года. ћосква
9 ма€ 1985 года. 40-летие ѕобеды. ћосква. расна€ площадь
9 ма€ 1984 года. Ѕородино
9 ма€ 1984 года. ћосква
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины-медики герои ¬еликой ќтечественной войны |
Ёто цитата сообщени€ ’лорциан [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќабор Ђ∆енщины-медики герои ¬еликой ќтечественной войныї из 16 открыток был выпущен издательством Ђ»зобразительное искусствої г. ћосква в 1975 году. “ираж 130000 экземпл€ров. ÷ена 42 копейки. ’удожник Ћ. отл€ров.

ѕосмотреть на яндекс.‘отках
ќбложка серии открыток

ѕосмотреть на яндекс.‘отках
√ерой —оветского —оюза Ѕоровиченко ћари€ —ергеевна
ћетки: у войны женское лицо |
рымчанка громила фашистов на боевой машине, построенной на личные сбережени€ |
Ёто цитата сообщени€ ’лорциан [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—реди сотен тыс€ч имен воинов, защищавших родную землю в годы войны, особой строкой вписано им€ нашей соотечественницы гвардии сержанта, механика-водител€ танка “-34 √еро€ —оветского —оюза ћарии ¬асильевны ќкт€брьской. ќна любила древний рым. Ѕыла счастливой женой. ¬ грозный час испытаний красива€, горда€ и мужественна€ душа украинской женщины нашла силы дл€ борьбы с ненавистным врагом.
ћетки: у войны женское лицо |
ѕодвиг сталинградских зенитчиц |
ƒневник |

23 августа 1942 года наши зенитчицы не позволили немцам с ходу ворватьс€ в —талинград.
![]()
|
√енерал от инфантерии √устав јнтон фон ¬иттерсгейм, командовавший 14-м танковым корпусом
√енерал-лейтенант √анс ¬алентин ’убе, командовавший в тот период 16-й танковой дивизией
омандующий ёго-¬осточным фронтом генерал-полковник јндрей »ванович ≈рЄменко |
22 августа 1942 года началась —талинградска€ битва: 6-€ немецка€ арми€ форсировала ƒон и захватила на его восточном берегу, в районе ѕесковатки, плацдарм шириной 45 км, на котором сосредоточилось шесть дивизий. 23 августа 14-й танковый корпус противника прорвалс€ к ¬олге севернее —талинграда, в районе поселка –ынок, и отрезал 62-ю армию от остальных сил —талинградского фронта. ¬ тот же день немецка€ авиаци€ нанесла массированный удар по —талинграду с воздуха, совершив около две тыс€чи самолето-вылетов. ћассированна€ немецка€ бомбардировка 23 августа разрушила город, убила более 40 тыс€ч человек, уничтожила более половины жилого фонда довоенного —талинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую гор€щими руинами.
16 часам 23 августа 14-й танковый корпус генерала фон ¬иттерсгейма вышел на северную окраину —талинграда в районе посЄлков Ћатошинка, јкатовка и –ынок.
ƒес€тки немецких танков 16-й танковой дивизии генерал-лейтенанта ’убе по€вились в районе “ракторного завода, в полутора километрах от заводских цехов. ¬след за танками в образовавшийс€ восьмикилометровый коридор противник бросил две моторизованные и несколько пехотных дивизий.
ќднако в —талинград в этот день немцы не ворвались. ѕуть противнику преградили три зенитных батареи второго дивизиона 1077-го полка зенитной артиллерии, укомплектованные женским персоналом. омандовал дивизионом капитан Ћука »ванович ƒаховник.
Ќа помощь девушкам от тракторного завода вышли два танка и три трактора, обшитые броневой сталью. «а ними двигалс€ батальон рабочих, вооруженных трехлинейками. ƒругих войск в —талинграде не было:части и соединени€ 62-й армии, прикрывавшие северные окраины —талинграда, продолжали в нескольких дес€тках километров от города вести бои на левом берегу ƒона. ќни должны были в трудных боевых услови€х быть переброшены во вчерашний тыл и зан€ть новые оборонительные рубежи, но на это требовалось врем€, которого уже не было.
“ем не менее, те немногочисленные зенитчицы и прикрывавшие их работ€ги остановили в тот день немецкое наступление.
аждое из 37 орудий превратилось в отдельный островок обороны. ѕосле каждой неудачной танковой атаки зенитчиц атаковали с воздуха пикирующие Ju-87 и лет€щие на бреющем полЄте Me-109. ќднако зенитчицам было приказано огн€ по самолЄтам не открывать - все снар€ды предназначались дл€ танков.
«а то, что ¬иттерсгейм со всем своим корпусом не смог справитьс€ с горсткой зенитчиц и батальоном работ€г, он был отстранЄн от командовани€. Ќа его место был назначен ’убе. «а два дн€ боЄв корпус потер€л 83 танка. ¬ безрезультатных атаках было обескровлено три батальона немецкой пехоты. Ќо и все 37 наших орудий были уничтожены. ѕогибла бóльша€ часть личного состава.
¬место перегруппировки сил 62-й армии командующий ёго-¬осточным фронтом генерал-полковник ≈рЄменко создал ударную группу, в которую вошли 35-€, 27-€ гвардейские и 298-€ стрелковые дивизии, 28-й танковый корпус и 169-€ танкова€ бригада. Ёти войска во главе с заместителем командующего —талинградским фронтом (10 августа —талинградский фронт подчинЄн командующему войсками ёго-¬осточного фронта) генерал-майором оваленко получили задачу нанести контрудар в юго-западном направлении и во взаимодействии с войсками 62-й армии разгромить соединени€ 14-го танкового корпуса противника, прорвавшегос€ к окраинам —талинграда.

85-мм зенитна€ пушка 52- . »менно такими пушками наши зенитчицы уничтожали немецкие танки. — необычной дл€ зенитки задачей 52- справл€лась успешнее, чем многие противотанковые оруди€ тех лет. —о 100-метровой дистанции она пробивала 120-мм броню, а на дистанции в 1000 метров прошивала 100-миллиметровую бронеплиту. — приданным ей бронебойным снар€дом она могла прошивать броню всех типов танков, находившихс€ на вооружении германской армии до середины 1943 года.
|
омандир 35-й гвардейской дивизии генерал-майор ¬асилий јндреевич √лазков. ѕогиб 8 сент€бр€ 1942 года в районе ¬ерхней ≈льшанки. |
√руппа генерала оваленко, не дожида€сь подхода танковых корпусов, перешла в наступление в 18 часов 23 августа. 298-€ стрелкова€, 27-€ гвардейские дивизии, встретив упорное огневое противодействие немцев, продвинутьс€ не смогли, но 35-€ гвардейска€ дивизи€ генерал-майора √лазкова совместно с 169-й танковой бригадой, которой командовал полковник оденец, разгромила противосто€щего им противника и к 2 часам ночи 24 августа прорвалась в район Ѕольшие –оссошки, где сражалась в окружении 87-€ стрелкова€ дивизи€.
Ќемецкие части, прорвавшиес€ к ¬олге, оказались отрезанными от своих войск. Ќемцам пришлось снабжать их с помощью самолЄтов и колонн грузовиков, охран€емых танками. Ќагруженные ранеными машины под прикрытием танков прорвались через боевые пор€дки русских в направлении ƒона. Ќа плацдарме раненых сдавали и там же получали продовольствие. онвоируемые танками машины возвращались в корпус. ћного дней, изолированный от основных сил 6-й армии, он вЄл т€жЄлые оборонительные бои, зан€в круговую оборону. “олько через неделю после переброски на плацдарм новых пехотных дивизий удалось возобновить наступление.
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
Ћегенда по имени ’иваз |
ƒневник |


ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |
ќткровенно о войне. ѕам€тных “амара ”стиновна |
ƒневник |
|
|
||||||||||||
я родилась 30 декабр€ 1919 года в —вердловске. ¬ 1936 году поступила в аэроклуб как раз набирали наш год, и € пошла в него. ѕоступила в 1936, а училась уже в 1937 году. ”чилась два года, закончила пилотский и инструкторский курс, а потом мен€ послали в ”ль€новск, в школу инструкторов. ¬ ней готовили инструкторов дл€ аэроклубов. ѕосле окончани€ ”ль€новской школы, € вернулась инструктором в аэроклуб. ѕотом началась война и с 15 июл€ наш клуб был переименован в 27-ю военную школу. “ам мы давали первоначальную подготовку на ”“-2. ѕришла телеграмма, нас было трое и нас вызвали в ћоскву. 10 окт€бр€ в нашу школу пришла телеграмма, по которой мен€, и еще двух девушек-инструкторов, отзывали в ћоскву. 16 окт€бр€ мы приехали в ћоскву на азанский вокзал. ¬ышли на вокзале, смотрим – стоит –аскова, одна. ќна на нас посмотрела, мы на нее. » пошли дальше. ћы приехали уже под вечер, не пойдем же мы вечером в организацию? ј с нами ехал какой-то начальник, который спросил: «¬ы где будете ночевать?», – и предложил нам пойти к нему, переночевать, у него семь€ эвакуирована была. ѕриехали к нему, он нам квартиру открыл, а сам куда-то ушел, мы его не спрашивали куда. –€дом зенитна€ батаре€ сто€ла, мы уже уснули, он прибегает: «»демте в убежище. Ќалет». ћы отказались, и не пошли, а он побежал. ”тром встали, он пришел, сказал: «я сейчас уезжаю, в общем, выматывайтесь». ѕоехали в ”правление ¬¬—. ≈дем в трамвае, минуты две едет, останавливает. » говор€т: «“оварищи, внимание! „тобы не было паники, не слушайте шептунов – правительство в ћоскве!» ќп€ть немножко проедет, оп€ть останавливаетс€ и снова объ€вление. ѕриехали мы в штаб – во дворе грузова€ машина стоит, на нее груз€т документы. Ќас встретили, наверх не пригласили, сразу сказали: «ћы не знаем, куда уехала –аскова, мы вам сейчас выдадим документы, поедете в ћонино, и там пока подождете». ¬ыдали предписание, и мы поехали в ћонино. “ам нам выделили одну комнату, в которой мы втроем и жили. ƒень-два проходит, мы никому не нужны. ¬идим, начальник штаба ¬¬— провожает жену в уйбышев – мы к нему, мы вообще не бо€лись обратитьс€ к любому начальнику. ќн говорит: «Ќе знаем, куда –аскова уехала. ќна доедет, сообщит, мы вас вызовем». ѕрожили мы так две недели прожили и решили – не, так дело не пойдет… ј там еще кто-то кого-то в эвакуацию провожал, мы к нему подошли, а он говорит: «–аскова уехала в —аратов». ¬от получилось – он все знает, а штаб не знает, куда уехала –аскова.
Ќадо ехать в —аратов, а как мы туда поедем? Ќужен же документ. ј в ћонино сто€л истребительный авиационный полк при јкадемии, мы приходим к командиру, симпатичный подполковник, говорим: «Ќам как-то надо попасть к –асковой в —аратов». «—ейчас, – и другому офицеру говорит, – ¬ыпиши им проездные». Ќикакой бюрократии. ¬ыписали нам проездные и мы поехали. ƒобрались до —аратова, как мы только туда не добирались – и на поезде, и на параходе, но добрались. ѕереправились через ¬олгу, аэродром же в Ёнгельсе был, и прибыли к –асковой. ќна говорит: «√де будете? Ѕудет три полка». ћы говорим: «“олько в истребительном полку». “ак она нас всех троих в истребительный полк и направила. „ерез день-два была проверка пилотировани€. Ќас всех проверили на ”“-2. ќтпилотировали, все нормально. ћен€ и јлькову сразу назначили командирами звеньев, а Ѕородину пилотом, мы членами партии были, а она нет. ¬ декабре или немного раньше нам дали новенькие яки, мы сразу на яках летали, инструктора же все или спортсмены. ћы полетов 10 сделали, больше не давали, хот€ готовили нас хорошо. ѕровели стрельбы по наземным цел€м, по воздушным. ƒаже соревновани€ были. Ќас когда включили в саратовскую дивизию, провели соревновани€ между нами и мужчинами и наш полк выиграл. омэски полностью по воздушным отстрел€лись, а надо было еще и по наземным. ј мы и по воздушным и по наземным прилично отстрел€лись. Ќам еще подарок дали, шевиотовые отрезы, € свой сестре отправила, в ”ль€новск, а у нее там украли.
”же в марте мы были боевой единицей, но у нас самолеты на лыжах были, а тогда уже все раскисло и мы летать не могли, ждали колеса. ј в это врем€ немцев от ћосквы отбили и нас оставили в —аратове. ћы были возмущены, но ничего не сделаешь, но мы считали, что лучше бы в ћоскве сидели, повоевали бы немножко. Ќас сразу поставили на боевое дежурство. ѕерва€ готовность – 40 секунд, ¬тора€, треть€…. ¬ставали в полвторого ночи, а в 23 часа уходили. ÷елый день. —пали очень мало. 21 июл€ 1942 года, € сопровождала ¬орошилова. ћы не знали, кто летит. ѕросто самолет и нам приказ его сопроводить, там от ћосквы до ¬оронежа одни сопровождали, от ¬оронежа до —аратова другие, а от —аратова до —талинграда мы. огда прилетели в —талинград, сначала он садитс€, потом мы. ѕока мы садились, начальство увезли. я подхожу к командиру, докладываю. ћайор говорит: «ј где летчик?» Ќе поверил, что ¬орошилова девки сопровождали. ѕошел с нами до самолета, обошел кругом. «ј как вы обратно полетите?» я говорю: «√осподи, с одной стороны ¬олга, с другой железна€ дорога и пр€мо в —аратов упираетс€». ќн спросил, не сопроводить ли нас, мы отказались. ќн был страшно удивлен. я спросила: « ого мы сопровождали?» «Ќе важно кого»… ј когда прилетели, –аскова знала, тогда нам сказал, что мы ¬орошилова сопровождали. ¬ начале сент€бр€ под —талинград улетела перва€ эскадриль€ –аисы Ѕел€евой, а 25 сент€бр€ ¬алери€ ’ом€кова сбила немецкий бомбардировщик. ќна потом с командиром дивизии летала в ћоскву, за орденом. “олько вернулась – ее со мной в дежурство, должна была Ѕурдина дежурить, а она заболела. Ќочь была темна€. —начала она взлетела, а за ней €. я взлетела специально на ¬олгу, она все-таки блестит. Ќабрала 6000, барражировала. ћинут 20 летела, а ее нет… ѕотом мне приказ – на посадку. ѕошла на посадку, попросила: «ћоргните мне на старте». ћоргнули мне, и € зашла, села. ј ее все нет. »щут. ј утром нашли… Ќаверное, она, как взлетела, пошла по приборам. Ќу и разбилась… ј 19 марта 1943 года мы с –аисой —урначевской сбили немецкие бомбардировщики над асторной.
ћы дежурили в первой готовности. ƒежурим, она еще ко мне подошла, говорит: «Ќадо пристегнутьс€, а то вдруг…» ак накаркала… Ќас подн€ли на перехват разведчика. Ќе долета€ до асторной видим – больша€ группа идет и мы ее атаковали. Ќабрали высоту – спикировали, и сбили по одному самолету. ѕотом еще раз такой же маневр – и еще по одному. ћы старались как можно ближе подобратьс€, € даже голову немецкого стрелка видела, и это была мо€ ошибка. ¬ июне 1943 года € стала командиром эскадрильи. я замом у Ѕел€евой была, а она очень пилотировать любила и у нее р€дом с аэродромом кусок капота отлетел. —амолет закрутило и она разбилось, а мен€ вместо нее назначили командиром. ¬ —аратове € познакомилась с мужем, наши полки р€дом сто€ли. ѕотом, когда нас в урск перебросили, мы снова р€дом сто€ли. ¬ 1944 году мы расписались, а 7 июл€ его сбили. ћне сказали, что он не вернулс€ из полета и никто ничего не видел. ¬ апреле 1946 года мен€ демобилизовали, потом родилс€ сын, через два года дочка, а потом еще сын. я полностью ушла в семью, муж продолжал служить и € за ним переезжала. 15 лет сидела дома с реб€тами, а потом пошла работать диспетчером в аэропорт. - “амара ”стиновна, почему вы пошли в авиацию? - “огда в авиацию очень много шло. - огда вы учились в аэроклубе, кроме этого вы еще учились где-нибудь? –аботали? - я работала пионервожатой. - ¬ —аратове вы летали ночью, а до войны у вас навык ночных полетов был? - ѕо-моему, один раз летали, тренировались, и то, не ночью, а под колпаком. - –асскажите про своих сослуживцев. ¬от командир полка азаринова, про нее много разного пишут, что в полку ее не любили, что она была властна€… ¬аше личное впечатление? - ќна была симпатична€. √рамотна€, она окончила институт им. ћенделеева. Ѕез конца писала домой письма. ћы быстро, раз, раз и все, а она долго пишет. я загл€дываю, она: «Ћюбопытному глазу четыре фиги сразу!» ј так она хорошо относилась, грамотна€. Ќо ѕрохорова была лучше…. - «а что азаринову сн€ли с должности? - «а гибель ’ом€ковой. - ” вас в полку застрелилась —мирнова. ≈сть така€ верси€, что азаринова настолько давила своих подчиненных… - азаринова держала дисциплину. ј —мирнова, она впечатлительной была, что-то у нее в эскадрилье не ладилось, с комэском не ладилось, наверное, еще повли€ло, что села на вынужденную…Ќа нервах произошло… ¬ообще, € суровости от нее не замечала. о мне она хорошо относилась, к ѕрохоровой хорошо относилась. ѕо-моему, лишнее пишут.
- ј первый командир полка, ≈вгени€ ѕрохорова, как она погибла? - ќни должны были сопровождать Ѕерию. ј когда подлетали к ”ральску, попали почти в туман. Ќадо было пробить этот туман, идти выше и вернутьс€. ќна пошла самосто€тельно. ј вообще не надо было за ”ральском сопровождать Ѕерию! - „асто были задани€ на сопровождение правительственных самолетов. ћного летали? - —опровождали. я, кроме ¬орошилова, еще ∆укова сопровождала, это уже с ¬оронежа. —таршим был сам командир полка, √риднев. ∆укова, почему-то, сразу не увезли, и, когда мы сели, он еще был на аэродроме. —тоит, обычный человек. Ќо мы далеко сто€ли, может быть, метров в 100 от ∆укова… - огда эскадриль€ Ѕел€ковой улетела, вам мужскую эскадрилью дали? - ƒа. ¬ конце 1942-начале 1943 у нас мужска€ эскадриль€ была. - ≈ще до конца войны некоторых летчиков-мужчин забрали из полка. — чем это было св€зано? - ќни у нас столько самолетов поломали. ћолодые были. ѕомню, кого-то сопровождали, оттуда на бреющем перемахнули и сели дальше на 100 километров, заблудились. акой-то праздник был, их эскадриль€ идет на полеты, а наша дежурит, а их идет. ј –айка, у нее вообще злой €зык был, она говорит: «»дут настроение портить». ƒействительно, один сел около ќрла, руку поломал. - — мужским предубеждением часто сталкивались? ¬ы рассказали, прилетели, спросили, где летчицы. ≈ще подобные случаи бывали?
- ћы были наравне с мужчинами. ћужчинам нам дали, они нам сколько самолетов поломали. - ј вообще нужно было делать женский полк или нет? ¬о врем€ войны было такое количество недоученных курсантов, которые сидели в тылу без горючего, самолетов и так далее, а тут вперед пошли женщины? - Ќужно. ћужчины-то курсантами были, их еще вводить надо, а нас уже не надо вводить. - ” вас были в полку летчицы, которые еще до войны летали на истребител€х? - Ћомако. —тара€ летчица. ќна еще до войны с –асковой и ќсипенко в перелете участвовала. ќна была комэской нашей эскадрильи, но она быстро ушла. ” нее мужчин-летчик болел туберкулезом, вскоре умер, она ушла из полка, работала в штабе ¬¬—. - омиссары не надоедали своими политзан€ти€ми и так далее? ¬место того, чтобы вам отдохнуть в свободное врем€…. - Ѕыли политинформации, но не очень нас мучали. - ќсобист в полку был? - ќб€зательно. - ћужчина? - ∆енщина. - ак с ней складывались отношени€? - Ќикак. ћы ее присутстви€ не ощущали. ћне не довелось с ней общатьс€. - акие у вас отношени€ с техниками складывались? - ќчень хорошие. ћожет быть, мой характер такой или мне такие попадались. - ƒистанци€ была между техниками и летчиками? ∆или порознь… - Ќет. - ¬ столовую ходили порознь… - ќни в столовой питались, а мы в поле…. - Ќормы питани€ были разные. - ƒа. ” нас 5-€ летна€ норма. - ѕодкармливали техников шоколадом? - ак-то нет.
- ¬ комбинезонах, как все. - ј по земле, как ходили: в юбке, гимнастерке или штанах? - ¬се врем€ ходили в комбинезонах. ≈сли только, куда надо идти, но тоже в брюках. » когда шили новое обмундирование, тоже брюки. - »звестно, что летчики суеверный народ, были приметы, суевери€? - я не была очень суеверной. «наю, был такой случай. Ћетчик, который нас учил воздушному бою, он любитель выпить был. Ќам надо идти на полеты, а он забыл перчатки. “ак он сам не пошел назад, кого-то позвал, принеси перчатки. ¬от такой суеверный, но осталс€ жив. ѕотом, у мен€ первый позывной 13-й был. „его-то командиру дивизии докладывала, он говорит: « акой у теб€ номер – 13. Ѕери – 50». ƒали мне 50-й номер, а мой 13-й комэку и она погибла - ак проводили свободное врем€. Ѕыли танцы? ак проводили досуг? - Ќикак не проводили. ƒаже не знали где столова€, нам привозили на аэродром. - ¬о врем€ войны вы летали на разных самолетах. ¬ам какой самолет больше нравилс€ и почему? - як-1 летал всего 30-40 минут, потом об€зательно садились. ј як-9 полтора часа! ј летчикам ѕ¬ќ длительность полета важна. огда патрулируешь, дольше летаешь – чувствуешь себ€ уверенней, не смотришь за горючим. ѕолтора часа – это прилично!
— наградными листами ветерана можно ознакомитьс€ на следующих страницах. |
Ќаградные листы
(из базы данных podvignaroda.ru).


http://avia.mirtesen.ru/blog/43347678088/Otkrovenn...atnyih-Tamara-Ustinovna/?pad=1
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины снайперы в ¬еликой ќтечественной войне. |
ƒневник |
¬ годы ¬еликой ќтечественной войны снайперскому мастерству женщины обучались во многих част€х и соединени€х действующей армии. Ќо особенно большой их отр€д был подготовлен ¬севобучем Ќ ќ ———–.
 ƒобива€сь отправки на фронт, молодые советские патриотки проходили первичное военное обучение в местных стрелковых и специальных комсомольско - молодЄжных подразделени€х. «а годы войны в них было подготовлено 102 333 снайпера. Ќемало женщин и девушек - снайперов обучалось в специально созданных при ¬севобуче курсах и школах снайперов.
ƒобива€сь отправки на фронт, молодые советские патриотки проходили первичное военное обучение в местных стрелковых и специальных комсомольско - молодЄжных подразделени€х. «а годы войны в них было подготовлено 102 333 снайпера. Ќемало женщин и девушек - снайперов обучалось в специально созданных при ¬севобуче курсах и школах снайперов.
”читыва€ нужды фронта в квалифицированных кадрах снайперов и большое желание советских патриоток овладеть снайперским мастерством, по инициативе √лавного ”правлени€ ¬севобуча Ќ ќ ———– и ÷ ¬Ћ —ћ в ћае 1942 года была создана ÷ентральна€ школа инструкторов снайперской подготовки. Ќа базе этой школы начали работать курсы женщин - отличных стрелков снайперской подготовки. омплектование курсов началось с конца 1942 года, а в январе 1943 года было отобрано и зачислено 490 курсанток. Ёто были добровольцы - прошедшие на курсы по призыву ÷ ¬Ћ —ћ.
ѕриказом Ќ ќ ———– от 21 ћа€ 1943 года женские курсы отличных стрелков снайперской подготовки были переформированы в ћосковскую центральную женскую школу снайперской подготовки, рассчитанную на 1120 человек. — 25 »юн€ школа ( тогда она находилась в ¬ешн€ках ) приступила к работе. —рок обучени€ в школе устанавливалс€ в 6 мес€цев. Ёто всЄ - таки было необычное воинское подразделение - женское, со своей спецификой, сложност€ми в быту и в службе. –отными были мужчины, в основном, фронтовики, выписанные после поправки из московских госпиталей.
ѕервыми пришли в эту школу »нна ћудрецова, ќльга ћаликова, јнна ћорозова, ќльга ѕетухова, Ќина Ћобковска€. ќни уже изучили снайперское дело и поэтому сразу были назначены командирами подразделений. омандиром роты инструкторов работала апитан Ќ. ѕ. Ѕелкина.
¬ январе 1944 года ÷ентральной женской школе снайперской подготовки было вручено боевое расное знам€, присуждЄнное ей ѕрезидиумом ¬ерховного —овета ———–. ѕод этим знаменем курсанты принимали военную прис€гу на верность –одине, со знаменем школа провожала своих воспитанниц в действующую расную јрмию.
 ≈. Ќ. Ќикифорова.ѕервым комиссаром и начальником политотдела школы была любимица девушек ћайор ≈. Ќ. Ќикифорова ( ѕолковник в отставке, автор книги воспоминаний "¬ бо€х рождЄнна€", ”мерла в 1984 году ). ≈катерина Ќикифоровна сопровождала снайперов - девушек 1-го выпуска ( 50 человек ) на фронт. ќна провела там большую работу по их устройству и была свидетелем первых боевых успехов некоторых воспитанниц школы.
≈. Ќ. Ќикифорова.ѕервым комиссаром и начальником политотдела школы была любимица девушек ћайор ≈. Ќ. Ќикифорова ( ѕолковник в отставке, автор книги воспоминаний "¬ бо€х рождЄнна€", ”мерла в 1984 году ). ≈катерина Ќикифоровна сопровождала снайперов - девушек 1-го выпуска ( 50 человек ) на фронт. ќна провела там большую работу по их устройству и была свидетелем первых боевых успехов некоторых воспитанниц школы.
Ќо уже на первых зан€ти€х вы€снилось, что место дл€ размещени€ школы выбрано неудачно: не было стрельбища на все дистанции, учебных полей с различным рельефом. ¬сЄ это мешало учебному процессу. ѕоэтому летом 1943 года снайперска€ школа перебралась в летний лагерь. ѕока снайперы обучались в лагере, командование подыскало школе новое место.
¬ ”правлении давно подбирали дл€ женской снайперской школы знающего начальника, отличного педагога, владеющего искусством меткого выстрела. ¬ ‘еврале √енерал ». Ќ. ѕронин подписал приказ о назначении на эту должность Ќ. Ќ. ольчака. ѕользу€сь случаем, расскажу немного об этом замечательном человеке.
Ќиколай Ќиколаевич родилс€ в 1905 году в селе »ваново √родненской области. ƒо 1917 года жил в ћоскве. ¬ 1918 году добровольцем вступил в р€ды расного ‘лота. ѕод ѕетроградом в бо€х с ёденичем был ранен. ¬ 1928 году окончил военную пехотную школу. ƒо 1937 года служил в —редней јзии, за борьбу с басмачами получил ѕочЄтную грамоту ÷» “ур——–. — 1937 года снова жил в ћоскве, где был назначен преподавателем на курсы "¬ыстрел". “ам не только обучали командиров военным наукам, но и испытывали образцы нового оружи€.
ольчак с присущей ему заинтересованностью, настойчивостью засел за учебники. ¬скоре преподавание стало его увлечением. Ќезаметно пролетели 3 года. Ќачалась война. ѕеред армией, страной встали новые задачи. ¬новь был введЄн всевобуч, нужно было спешно готовить бойцов дл€ армии и флота. јвторитет ольчака, его деловитость были у всех на виду. ≈стественно, что старшего преподавател€ курсов "¬ыстрел" приметили и в 1942 году назначили заместителем начальника отдела √лавного управлени€ всеобщего военного обучени€. Ќо кабинетна€ работа была не по нему. ќднако в отправке на фронт отказали из - за болезни. » когда Ќиколаю Ќиколаевичу сообщили о его назначении на должность начальника снайперской школы, он не на шутку расстроилс€, подал рапорт об отправке на фронт, но получил отказ. » хот€ ольчак от своего не отступил, решил на врем€ начальству не надоедать, а вз€тьс€ за организацию учебного процесса.
 Ќ. Ќ. ольчак.ѕодполковник решительно выступил против шаблона, упрощенчества в подготовке снайперов. ЌавЄл пор€док на стрельбище. ƒо этого здесь каждый курсант знал, когда, на каком рассто€нии по€витс€ мишень, и метко поражал еЄ. ѕодобные "успехи" порождали самоуверенность, зазнайство.
Ќ. Ќ. ольчак.ѕодполковник решительно выступил против шаблона, упрощенчества в подготовке снайперов. ЌавЄл пор€док на стрельбище. ƒо этого здесь каждый курсант знал, когда, на каком рассто€нии по€витс€ мишень, и метко поражал еЄ. ѕодобные "успехи" порождали самоуверенность, зазнайство.
ольчак, получив разрешение, выехал в части 3-й ударной армии алининского фронта, где воевали выпускницы школы, чтобы самому увидеть их в деле. Ќа фронте сто€ло относительное затишье.
— разрешени€ командовани€ ольчак выбралс€ на передний край. ” воспитанниц школы на этом участке результаты были неплохими. Ќа 23 јвгуста 1943 года они уже уничтожили 433 солдата и офицера противника. ќднако это не помешало ѕодполковнику заметить и упущени€ в их подготовке.
—воим чЄтким стремительным почерком он записал в блокнот, что девушки не обучены умению длительного наблюдени€ за противником через оптический прицел. ” некоторых началось раздражение роговой оболочки глаза, слезоточение. ”прощение мишенной обстановки на учебных пол€х привело к тому, что в бою снайперы тер€лись, не знали, где искать врага. »ногда это им стоило жизни... ќт ѕодполковника не скрылась така€, казалось бы, мелочь: на фронте снайпер, как правило, находилс€ в каске. ≈сли она была плохо закреплена на голове ремешками, после выстрела съезжала и передним ободком удар€ла по прицелу, поврежда€ тем самым окул€рную трубку. ¬интовка выходила из стро€. ¬от во что обходилась "мелочь". Ќаблюда€ за боевой работой снайперов, ольчак отметил, что у некоторых из них нет азарта охотника, выслеживающего врага, умени€ быстро обнаруживать и упреждать противника. ¬ школе девушек обучали в основном стрельбе из положени€ лежа, на фронте же им чаще приходитс€ стрел€ть из окопа сто€ и даже сид€... Ўаг за шагом, иногда риску€ жизнью, под огнЄм противника изучал ольчак боевую работу воспитанниц и свои недостатки, недоработки. ѕо возвращении в ћоскву он дополнил программу обучени€ снайперов многими элементами, подмеченными на фронте, составил пам€тку "12 заповедей снайпера". ƒокумент сразу получил признание у командиров рот, взводов, отделений, политработников. Ёто был пример той оперативности, котора€ была присуща ольчаку.
Ўаг за шагом, иногда риску€ жизнью, под огнЄм противника изучал ольчак боевую работу воспитанниц и свои недостатки, недоработки. ѕо возвращении в ћоскву он дополнил программу обучени€ снайперов многими элементами, подмеченными на фронте, составил пам€тку "12 заповедей снайпера". ƒокумент сразу получил признание у командиров рот, взводов, отделений, политработников. Ёто был пример той оперативности, котора€ была присуща ольчаку.
ѕодполковник ольчак про€вил большую настойчивость перед √енеральным штабом, чтобы получить разрешение на вызов выпускниц школы из действующей армии дл€ обмена опытом. ¬ школу первой приехала старший сержант ¬ера јртамонова, награждЄнна€ боевым орденом. урсанты затаив дыхание слушали фронтовичку. ќсобенно запомнилс€ девчатам рассказ о том, как ¬ера шла в атаку в боевых пор€дках стрелковой роты. ”мело использу€ местность, она вела меткий огонь по врагам, выводила из стро€ офицеров, пулемЄтные и миномЄтные расчЄты. “олько в том бою девушка уничтожила 25 фашистов.
ѕриходили с фронта и печальные вести. ¬ один из дней доставили извещение о гибели снайпера јлександры Ўл€ховой, котора€ дружила со старшей дочерью ольчака и не раз бывала у них дома. ”чилась јлександра отлично по всем предметам. «а отличную стрельбу еЄ наградили именной снайперской винтовкой. 20-летн€€ ј. Ўл€хова стала грозой дл€ фашистов.
ѕечальные извести€, которые ольчак получал с фронтов, торопили его. ќн был серьЄзно болен. Ќо разве болезнь могла служить оправданием тому, что он ещЄ не на фронте ! ќбо всЄм этом ольчак написал √енералу ». ≈. ѕетрову. ¬ ћае 1944 года ѕолковник ольчак убыл из ћосквы в распор€жение ¬оенного совета 3-го Ѕелорусского фронта. ≈го назначили командиром 294-го стрелкового полка, в 184-ю дивизию. — этим полком он прошЄл до самой ѕобеды, участвовал в уничтожении ¬итебской группировки противника, в бо€х при форсировании Ќемана. «а стойкость и отвагу полк был награждЄн орденом расного «намени, а его командир за личную доблесть и выход на государственную границу ¬осточной ѕруссии первым из всех частей јрмии, удостоен звани€ √еро€ —оветского —оюза. ¬ 1946 году ѕолковник Ќ. Ќ. ольчак уволилс€ из армии по болезни. ¬ 1968 году умер.
«а стойкость и отвагу полк был награждЄн орденом расного «намени, а его командир за личную доблесть и выход на государственную границу ¬осточной ѕруссии первым из всех частей јрмии, удостоен звани€ √еро€ —оветского —оюза. ¬ 1946 году ѕолковник Ќ. Ќ. ольчак уволилс€ из армии по болезни. ¬ 1968 году умер.
ј между тем, ÷ентральна€ женска€ снайперска€ школа продолжала готовить дл€ фронта своих учениц. ѕолитработники школы провели большую организаторсо - воспитательную работу, направленную на решение больших и нелЄгких задач. ќни оказывали действенную помощь в процессе обучени€ и воспитани€ достойного пополнени€ воинов расной јрмии.
ј задача командиров и политработников школы действительно была трудной. Ќадо было подготовить из 18 - 20-летних девушек, не имевших за плечами ни жизненного, ни трудового опыта, дисциплинированных, стойких, выносливых, хорошо знающих своЄ дело воинов. ќпыт боевой работы воспитанниц школы показал, что командирам и политработникам удалось подготовить не только отличных снайперов, но и мужественных, стойких и преданных –одине бойцов. «а врем€ своего существовани€ школа сделала 7 выпусков, подготовила 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела.
¬сего же за годы ќтечественной войны на снайперских курсах и в школах ¬севобуча было подготовлено 2484 снайпера - женщины. ѕо далеко неполным данным, за сравнительно короткий срок пребывани€ на фронте выпускницы школы истребили свыше 11 280 фашистских солдат и офицеров. ћногие воспитанницы школы были награждены орденами и медал€ми. ј двум девушкам - снайперам ј. Ќ. ћолдагуловой ( еЄ именем названа одна из улиц в ћоскве ) и “. Ќ. Ѕарамзиной было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. ¬ 1970 году в ¬ешн€ках одна из улиц в пам€ть о снайперской школе названа —найперской.
Ќачальник политотдела 3-й ударной армии алининского фронта сообщал в школу, что снайперы 1-го выпуска в дивизию прибыли 7 јвгуста 1943 года, а 8 јвгуста они вышли на "охоту" за врагом. исходу ƒекабр€ 42 снайпера 21-й √вардейской Ќевельской стрелковой дивизии этой армии имели на своЄм боевом счету 1334 уничтоженных гитлеровца. ј снайперска€ команда √вардии сержанта Ќины —оловей из 113-й стрелковой дивизии в течение 25 дней истребила роту гитлеровских солдат и офицеров.
 ќсобенно активно действовали выпускницы школы в составе 3-го Ѕелорусского фронта. ќни истребили свыше 7650 гитлеровских оккупантов. 229 девушек - снайперов получили правительственные награды.
ќсобенно активно действовали выпускницы школы в составе 3-го Ѕелорусского фронта. ќни истребили свыше 7650 гитлеровских оккупантов. 229 девушек - снайперов получили правительственные награды.
Ќо были и существенные недостатки в подготовке снайперов. ќб этом 12 јвгуста 1943 года писала ¬алентина яковлева:
" ак только мы приехали в часть, на следующий же день командование решило проверить нашу подготовку, - говоритс€ в письме. - ћы попросили дать нам возможность пристрел€ть винтовки. Ќаша просьба была удовлетворена. —трел€ли много. ѕатронов здесь в достатке. Ќам даже странно, что стрел€ные гильзы здесь не собирают. ¬ школе мы это об€зательно делали. ак только винтовки были пристрел€ны, нас повели на стрельбище, чтобы проверить наши знани€. ¬сЄ было как в бою. ћишени установлены на запр€жЄнных лошадьми тележках и передвигаютс€. ћы, конечно, волновались, но результаты испытаний по стрельбе были хорошими. омандование было довольно нами, а главное - школой, котора€ готовила нас.
Ќо по метанию насто€щих гранат все девушки показали слабые результаты. » это потому, что в школе этим занимались мало. Ќе умели девушки и стрел€ть с дерева, а на алининском фронте, где сплошной лес да болота, без умени€ стрел€ть с дерева снайпер работать не мог. ƒевушкам пришлось, как говоритс€, на ходу доучиватьс€ и ликвидировать пробелы в своей подготовке".
≈стественно, что в дальнейшем эти и другие недостатки в подготовке девушек - снайперов были устранены. ѕостепенно в школе улучшалс€ учебный процесс, преподаватели и командиры старательно обобщали фронтовой опыт снайперов, использу€ его в своей работе. ¬сЄ это способствовало повышению качества боевой подготовки снайперов.

ƒевушка - снайпер из состава 1-го ѕрибалтийского фронта. 1944 год.“ак, 14 ћа€ 1944 года командующий 3-й ударной армией √енерал - Ћейтенант ¬. ј. ёшкевич, поздравл€€ командование и слушателей ÷ентральной женской школы снайперской подготовки с первой годовщиной еЄ работы, писал:
"¬оспитанники вашей школы, участву€ в боевых операци€х армий, метким снайперским огнЄм истребили 2138 немецко - фашистских извергов, пос€гнувших на свободу и независимость советского народа, на счастье нашей молодЄжи. ¬ ожесточЄнных бо€х девушки - снайперы про€вили высокое сознание своего долга перед –одиной и несокрушимую волю к разгрому врага. ¬ самые т€жЄлые минуты они €вл€лись примером организованности и стойкости. »м присущи высока€ идейность, твЄрдость характера, настойчивость в достижении цели - качества, воспитанные комсомолом, большевистской партией".
¬ 192-й стрелковой дивизии взвод снайперов - девушек показал высокий класс подготовки, большое воинское мастерство. «а полтора мес€ца 1944 года они уничтожили 259 солдат и офицеров противника.

–оза Ўанина ( слева ) с подругами: Ћидой ¬довиной
и јлександрой ≈кимовой. 5-€ арми€, лето 1944 года.јбсолютное большинство девушек - снайперов, закончивших ÷∆Ў—ѕ, за годы ќтечественной войны удостоились правительственных наград, в том числе ордена —лавы III и II степени - 102, расного «намени - 7, расной «везды - 7, ќтечественной войны - 7, медали "«а отвагу" - 299, "«а боевые заслуги" - 70.
÷ ¬Ћ —ћ наградил 114 девушек - снайперов ѕочЄтными грамотами, 22 - именными снайперскими винтовками, 7 - ценными подарками. Ќагрудным значком "ќтличник – ј" награждено 56 девушек.
 –. ≈. Ўанина.¬ борьбе с немецко - фашистскими захватчиками выпускницы школы совершили немало героических подвигов, показав себ€ мужественными, терпеливыми и находчивыми. ¬сему фронту были известны боевые дела снайпера 5-й армии –озы ≈горовны Ўаниной, котора€ истребила по различным источникам от 59 до 75 фашистов. омандующий 5-й армией, ныне ћаршал —оветского —оюза Ќ. ». рылов, так отзывалс€ о бесстрашных снайперах своей армии:
–. ≈. Ўанина.¬ борьбе с немецко - фашистскими захватчиками выпускницы школы совершили немало героических подвигов, показав себ€ мужественными, терпеливыми и находчивыми. ¬сему фронту были известны боевые дела снайпера 5-й армии –озы ≈горовны Ўаниной, котора€ истребила по различным источникам от 59 до 75 фашистов. омандующий 5-й армией, ныне ћаршал —оветского —оюза Ќ. ». рылов, так отзывалс€ о бесстрашных снайперах своей армии:
"—лавные были девушки. ќсобенно –оза Ўанина. я помню еЄ в боевой обстановке. Ўанина перва€ из девушек 3-го Ѕелорусского фронта была удостоена орденов —лавы III и II степени. ¬ нашей армии были широко известны также имена снайперов ѕолыгаловой, Ўмелевой, —ел€ниной, Ўамановой и других".
ћного прославленных девушек - снайперов было и на 2-м ѕрибалтийском фронте. ќсобенно храбро сражалась там отважна€ дочь казахского народа снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады Ћи€ ћолдагулова. ¬сего она истребила 91 фашиста. Ћи€ пала смертью храбрых. Ќо враг дорого заплатил за жизнь пламенной патриотки.
“ак, риску€ собственной жизнью, советские женщины - снайперы истребл€ли немецко - фашистских захватчиков. Ўесть советских патриоток - снайперов стали √еро€ми —оветского —оюза. ¬от их имена: Ћюдмила ѕавличенко, ћаша ѕоливанова, Ќаташа овшова, “ать€на остырина, “ать€на Ѕарамзина и Ћи€ ћолдагулова. ј Ќина ѕавловна ѕетрова - полный кавалер ордена —лавы.
«акончилась ¬елика€ ќтечественна€ война. «акончилась нашей победой над тЄмными силами фашизма, изгнанием гитлеровских захватчиков с нашей земли, освобождением народов ≈вропы от пут коричневой паутины.
¬ернулись домой те, кому суждено было дожить до ѕобеды. ”вековечены в пам€ти народной герои, сложившие головы на пол€х сражений, отдавшие свою жизнь за счастье народное. Ќаш народ завоевал право на мирный, созидательный труд.
—вою частичку труда в общенародное дело - строительство нового общества - вкладывают и бывшие выпускницы ÷ентральной женской школы снайперской подготовки. Ѕывший снайпер 10-й √вардейской армии ¬ера ѕолисонова работала секретарЄм партийной организации ткацкой фабрики, к еЄ фронтовым наградам прибавилась ещЄ одна - орден “рудового расного «намени, таким же орденом отмечена и бывший снайпер 4-й ”дарной армии Ќадежда ѕол€кова, котора€ работала слесарем - сборщиком одного из московских заводов. ћари€ Ўелковникова стала директором обувной фабрики, награждена орденом ќкт€брьской –еволюции, —офь€ азакова стала инженером - строителем, еЄ труд отмечен орденами Ћенина и "«нак ѕочЄта".
 —реди бывших выпускниц ÷∆Ў—ѕ есть заслуженные учител€, врачи, юристы, механизаторы. ћного партийных, советских, профсоюзных работников, и все они считают себ€ на службе у комсомола. ѕо путЄвкам ÷ ¬Ћ —ћ проводили встречи с молодЄжью - строител€ми Ѕјћа и шахтЄрами якутии, рабочими автозавода имени Ћихачева и космонавтами в «вЄздном городке, артистами ћалого театра и учЄными јкадемии наук ———–, школьниками и студентами. ¬се они ведут большую военно - патриотическую работу на местах, где живут. —тали традицией встречи молодых ткачих с ветераном - снайпером “амарой јверь€новой на фабрике имени ƒзержинского в подмосковной »вантеевке, с “амарой ÷арЄвой - на √луховском текстильном комбинате в Ќогинске. »нтересную работу ведут ленинградки - ¬. јртамонова, ». »льинска€, “. –енина и другие, в ќренбурге - Ћ. —иткова, в јлма-јте - ¬. ѕлохута, Ћ. Ѕакиева, “. √айдук, во ‘рунзе - ћ. ƒуванова, ¬. ƒоронина, бывший командир бригады, в составе которой сражалась √ерой —оветского —оюза јли€ ћолдагулова - ‘Єдор »ванович ћоисеев.
—реди бывших выпускниц ÷∆Ў—ѕ есть заслуженные учител€, врачи, юристы, механизаторы. ћного партийных, советских, профсоюзных работников, и все они считают себ€ на службе у комсомола. ѕо путЄвкам ÷ ¬Ћ —ћ проводили встречи с молодЄжью - строител€ми Ѕјћа и шахтЄрами якутии, рабочими автозавода имени Ћихачева и космонавтами в «вЄздном городке, артистами ћалого театра и учЄными јкадемии наук ———–, школьниками и студентами. ¬се они ведут большую военно - патриотическую работу на местах, где живут. —тали традицией встречи молодых ткачих с ветераном - снайпером “амарой јверь€новой на фабрике имени ƒзержинского в подмосковной »вантеевке, с “амарой ÷арЄвой - на √луховском текстильном комбинате в Ќогинске. »нтересную работу ведут ленинградки - ¬. јртамонова, ». »льинска€, “. –енина и другие, в ќренбурге - Ћ. —иткова, в јлма-јте - ¬. ѕлохута, Ћ. Ѕакиева, “. √айдук, во ‘рунзе - ћ. ƒуванова, ¬. ƒоронина, бывший командир бригады, в составе которой сражалась √ерой —оветского —оюза јли€ ћолдагулова - ‘Єдор »ванович ћоисеев.
јктивно действует совет ветеранов ÷∆Ў—ѕ. 15 лет его возглавл€ла ≈. Ќ. Ќикифорова, затем еЄ сменила Ќина —ергеевна —оловей. Ѕлагодар€ усили€м бессменного секретар€ совета ветеранов ≈катерины —ергеевны ”спенской все выпускницы снайперской школы получили возможность общени€ между собой - регул€рно провод€тс€ слЄты бывших снайперов, сообща ведЄтс€ больша€ военно - патриотическа€ работа с молодЄжью. јктивно работают члены совета ветеранов: Ћ. Ѕуторова, Ћ. —ахарова, ¬. ѕанасик, Ѕ. ѕащенко, ј. отл€рова, Ќ. Ќосова.
ѕо инициативе совета ветеранов ещЄ в начале 1960-х годов в школе є 73 унцевского района города ћосквы был создан музей боевой славы, который стал центром по изучению боевого пути выпускниц ÷ентральной женской школы снайперской подготовки. «десь, в школе, часто бывали: ≈. Ќ. Ќикифорова - бывший начальник политотдела школы, ветераны-снайперы - Ќ. —оловей, Ќ. —ыртланова, ќ. ћаликова, Ќ. Ћабковска€, Ћ. ÷ертий, . Ѕольшакова и многие другие. ѕионерские отр€ды дружины этой школы боролись за право носить имена девушек-снайперов √ероев —оветского —оюза - јлии ћолдагуловой, “ать€ны Ѕарамзиной, Ќаташи овшовой, ћаши ѕоливановой, комсорга јлександры Ўл€ховой. http://airaces.narod.ru/snipers/index_w2.htm
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
ќткровенно о войне. —тарчукова (Ўебаршина) ћари€ яковлевна |
ƒневник |
|
|
|||||||||||||||||||
я родилась 19 августа 1924-го года в таежном селе Ќиколаевское ”летовского района „итинской области. ¬ отличие от современных девчонок, у нас не было ни дискотек, ни ночных клубов, нельз€ было до 16 лет ходить на вечерние сеансы в кино. Ќо в то же врем€ имелась больша€ кружкова€ работа военно-патриотической направленности – все стремились получить значки «¬орошиловский стрелок», √—ќ, √“ќ, ѕ¬’ќ. —давали зачеты, и чем больше в классе было значкистов, тем выше он ценилс€, хот€, конечно же, успеваемость играла столь же важную роль. ѕапа у мен€ был коренным охотником, мы жили в тайге, имели крепкое хоз€йство, поэтому, когда вступали в колхоз, имелось две коровы, быки. Ѕыков папа добровольно сдал в колхоз, и стал работать в артели «—оюз ѕушнины». ¬се, что они добывали, сразу же сдавали в пункт приема пушнины, дл€ охотников така€ система оказалась очень удобной, у нас было восемь собак, так даже на собак давали норму питани€, отец мешками привозил крупу, тогда в селе не было электричества, нам выдавали керосин, в общем, все, что необходимо дл€ жизни. ¬ моем детстве жизнь оставалась дремучей и несовершенной. ” нас даже школы никакой не было поблизости. –еб€та шли в школу кресть€нской молодежи, в которой оканчивали п€ть-шесть классов, и уже сами преподавател€ми становились в каждой деревне и ходили по хаткам. ¬месте со мной и мама, и бабушка учились, расписывали буквы в тетради, и вскоре стали расписыватьс€ в бумагах. »з церкви сделали клуб, р€дом установили рупор, то есть по€вилось первое радио. Ќо кака€ радость была, когда зажглась перва€ лампочка на селе! ак мы бежали за первым автомобилем, по€вившимс€ в 1930-е годы! —трана развивалась такими темпами, что «п€тилетка в четыре года» стало не просто девизом, а реальностью. Ёто была наша суть, все делалось открыто и искренне, родители работали от всей души. ћы всегда ждали 1 окт€бр€, когда происходило небольшое снижение цены на продукты. — 1 апрел€ падали цены на молоко, на €йца. Ќикто голодным не был, даже в 1933-м году, когда прошла така€ мощна€ саранча, что у нас ни лебеды, ни деревьев не осталось. „ерной тучей летели, останавливались на поле, оставл€ли после себ€ зеленых червей и тучей набрасывались на другое село. ”ничтожалось все. » те же кулаки, которые припр€тали в стогах мешки крупы или какой-нибудь муки, все доставали, разливали по кружкам и тем кормили нас, детей, чтобы реб€тишки голодными не были. “акое было братство и сплочение в селе. ¬ 1933-м году папа из тайги вышел, и мы переехали в „иту. ќтец работал на мелькомбинате, был первым ударником. ѕомню, что когда мы шли на первомайскую демонстрацию, то впереди несли его портрет. —ейчас в люд€х чувствуетс€ кака€-то агрессивность, зависть, у нас этого никогда не было. —трана развивалась и мы вместе с ней, при этом все были большими патриотами, готовились к войне. ѕроизошли событи€ на озере ’асан в 1938-м году, бои в районе ’алхин-√ол в 1939-м. ” нас все врем€ чувствовалась угроза со стороны милитаристской японии. –егул€рно по€вл€лись новости о том, что пограничники ловили вражеских диверсантов, пр€тавшихс€ в тайге. “ак что мы были подготовлены к труду и обороне. ¬ 1941-м году нам всем исполн€лось по 17 лет, € с нетерпением ждала августа, когда и сама стану семнадцатилетней. ћы все были записаны на зан€ти€ в городской аэроклуб, в то врем€ это было очень модное дело среди молодежи. ” нас на планере разбилась ѕолина ќсипенко и —еров, но несмотр€ ни на что все девочки стремились стать летчицами, не говор€ уже о мальчишках. ¬ июне 1941-го года мы сдавали экзамены по всем предметам, в том числе и по онституции —оветского —оюза. ћы сдали последний экзамен по зоологии 21 июн€. ¬ыпускной вечер должен был состо€тьс€ в читинском городском саду, естественно, не планировалось никаких балов, поэтому платьев мы не шили, така€ мода тогда в целом не имела распространени€. “ак как у нас временна€ разница в шесть часов с ћосквой, то день прошел спокойно. » только мы зашли в сад, при входе в который висел огромный рупор, как одними из первых услышали, как нарком иностранных дел ———– ¬€чеслав ћихайлович ћолотов объ€вил о начале войны с √ерманией. Ѕоже мой, свет сразу же погасили, и люди безо вс€кой команды пошли в военкомат. ћы также всем классов со своей старшей пионервожатой как комсомольцы (мне, правда, еще комсомольский билет не успели выписать, потому что бланков не было) двинулись вместе со всеми. я шла и думала о том, что имею с собой только рекомендации от членов ¬Ћ —ћ и выписку из горкома комсомола о том, что мен€ прин€ли в их р€ды. ќчень переживала. ѕришли в горвоенкомат. —лезы, женщины плачут и причитают. ћужчины как-то замолчали, бьетс€ одна мысль – все на фронт, все на фронт. ¬ —ибири был удивительный патриотизм. я видела, со всех заводов вместе с нами шли и женщины, и мужчины.
¬ военкомате из-за летней теплой погоды пр€мо на улице поставили столы, которые осветили лампочками. —тоит толпа, все пишут за€вление о том, что хот€т добровольно пойти на фронт. огда наша очередь подошла, мы с подружкой рассказали, что родились в 1924-м году. ”же перешли в восьмой класс, потому что в школу брали с восьми лет, не раньше. акой-то военный за столом записали все данные, и задал последний вопрос: «ѕаспорт есть?» ќтветили: «Ќет, но мы получим». “огда он оборвал все разговоры: «¬от когда получите, тогда и приходите. —ледующий». ћы к другому столу подходили, снова занимали очередь, но везде получали один и тот же ответ. ¬ целом в нашем классе получилось так: кто успел стать семнадцатилетним до 22 июн€, добровольно пошли на фронт комсомольцами. ћен€ не вз€ли, потому что мне исполнилось семнадцать лет только в августе 1941-го года. Ќо тут буквально на второй день мен€ с подружкой и другими одноклассниками снова вызывают в военкомат. ќказалось, что открываютс€ курсы железнодорожников, мужчин на паровозах не хватает, срочно нужны помощники машинистов. “олько пришли в „итинскую школу военных техников, котора€ раньше называлась железнодорожным ремесленным училищем, как всех учащихс€ бросили на восстановление нескольких километров путей железной дороги на ’абаровск. ќни были полностью разрушены, на некоторых участках рельсы сто€ли столбом, шпалы были выворочены. ћестные жители говорили, что это диверси€ со стороны японии, но мы тогда все на €понцев сваливали, со стороны которых ждали войны. ¬месте с нами трудились воспитанники ’абаровской и »ркутской школ военных техников. –аботали от зари до зари, местами полностью мен€ли полотно, питание привозили, а спали мы под открытым небом. огда ровно через мес€ц упорного труда мы встретились со своими товарищами, восстанавливавшими полотно нам навстречу, то все обнимались и плакали, что наконец-то этот т€желейший труд закончилс€. огда мы навели путь, то увидели, что нас ждали эшелоны. ¬ течение трех дней мы оставались на месте, потому что по железной дороге непрерывным потоком шла составы с пехотой, кавалерией, танками и зачехленной артиллерией. —олдаты из проход€щих составом почему-то решили, что мы, загорелые, оборванные и гр€зные, €вл€емс€ заключенными, и показывали нам с помощью двух рук решетку. —прашивали на ходу: «—колько лет?» —о смехом отвечали, что дес€ть. ¬ ответ нам бросали печенье и сухой паек. ¬сем участникам этой работы решили после войны вручить медаль ««а доблестный труд в ¬еликой ќтечественной войне 1941—1945 гг.», но € не стала получать, потому что после армии уже получила медаль ««а победу над √ерманией в ¬еликой ќтечественной войне 1941—1945 гг.» „ерез несколько дней после возвращени€ в „иту пришел приказ – так как железнодорожный транспорт отныне полностью военизирован, к нему предъ€вл€ютс€ фронтовые требовани€, и помощниками машиниста могут быть только мужчины. “огда нас, девушек, отчислили из школы военных техников. “ем временем городскую промышленность поставили на военные рельсы, кожзавод перешел на шитье сапог и ботинок дл€ армии, шубзавод стал делать солдатские полушубки, шапки и рукавицы. ѕотом стали прибывать эвакуированные заводы, женщины пошли на них работать, ведь большинство мужчин, в том числе моего отца и двух старших братьев, призвали на фронт. я пошла на курсы св€зистов, которые были организованы при ќ—ј¬»ј’»ће: готовили радистов, телефонистов, в общем, св€зистов первой необходимости. ќдновременно стала посещать курсы –ќ (–оссийское общество расного реста), которые занимались подготовкой сандружинниц. ¬ „ите начали работать госпитал€, в которые вскоре поступили первые раненые, и в ходе нашего визита в палату к больным вы€снилось, что € не переносила совершенно вида крови, когда бинты срываю с застарелой раны, мне стало плохо, затошнило. ¬ итоге врачи сказали, что медика из мен€ не получитс€. ѕолучила гражданскую специальность «св€зист». ¬ 1942-м году снова пришла в военкомат, мен€ зачислили добровольцем в армию, при этом спросили, где бы хотела служить. ќтветила, что или в авиации, или на флоте. ѕосле прохождени€ медкомиссии мне объ€вили: «Ќаправл€ем вас в уйбышевскую школу пилотов –абоче- ресть€нского военно-морского флота. ќни в течение двух лет готов€т пилотов дл€ военно-морской авиации». ќтвечаю: «ќй, два года, это так долго, война закончитс€!» ќбъ€снили, что ничего, там организованы ускоренные курсы. ¬ыбрали в авиацию самых здоровых и высоких призывников, а так как € была высокого роста, то оказалась в числе счастливчиков. ѕочти мес€ц ехали до города уйбышева, прибыли радостными и счастливыми, что нас зачислили в будущие пилоты. “олько выдали форму, как вдруг пришел сталинский приказ: на отделении пилотов оставить только реб€т, врем€ обучени€ в школе сократить – вместо двух лет за один год реб€т выпускали пилотами со званием «сержант», потому что учили только взлету и посадке, а тактика бо€ шла по самой ускоренной программе. ¬сех девочек решили направить во вспомогательные службы – в прибористы и метеорологи. ѕри этом кто-то по секреты нам сообщил, что из св€зистов будут готовить воздушных стрелков, поэтому все девчонки ринулись в св€зь, настолько мечтали летать. ќтбирали по конкурсу, провер€ли и слух, и зрение, все на свете должно быть отменным. — утра начиналась учеба, вечером мы и баржи разгружали, и вагоны сопровождали, и составы комплектовали. «атем нам сказали, что курсы станут проходить в две смены, и сократили обучение вместо года до шести мес€цев. ѕри этом официально объ€вили о том, что кто будет без «троек» учитьс€, те пойдут во фронтовые части, остальные останутс€ в тыловых част€х. ¬ это врем€ как раз разразилс€ —талинград, и мы каждый день с замиранием слушали фронтовую сводку. ћен€ как самую высокую в группе по росту сразу же назначили старшей в отделении из 12 девушек. ¬скоре мы стали ходить на караульную службу в расположенный неподалеку правительственный аэродром. Ќадо сказать, что в то врем€ очень сильно опасались вс€ких диверсантов. Ќас настолько запугали перед первыми караулами, что всем казалось – враг везде и повсюду, подслушивает и крадетс€. Ѕо€лись сильно. я была как командир отделени€ развод€щей или начальником караула. огда идем на аэродром, по дороге растет высока€ трава, везде ветер шумит, смутно видно крепежные тумбы, и нам каждый раз казалось, что в траве кто-то крадетс€, чтобы взорвать аэродром. ¬ результате у нас произошло несколько забавных случаев. ќднажды сто€ла на посту девушка из моего отделени€ —аша рашенинникова, внезапно услышала какой-то шум у забора, и выстрелила в темноту. ѕослышалс€ какой-то скулеж. огда мы прибежали из караулки и через некоторое врем€ пошли посмотреть, в кого же она попала. ќказалось, это была собака, котора€, видно, прыгнула на невысокий забор, потому что хотела проникнуть на кухню. ак —аша в нее попала, непон€тно, мы ведь при свете дн€ на стрельбище по мишени не всегда попадали. Ќаверное, от страха меткость возросла. «атем к нам прилетел гидросамолет, в котором находилс€ мой будущий второй муж Ўебаршин. Ќа наших курсах училась —авина, котора€ имела прекрасный голос, и сто€ на посту ночью все врем€ пела романс «—оловей» јлександра јлександровича јл€бьева. ј тут в св€зи с прилетом гидросамолета комиссар нашей школы решил проверить посты с каким-то провер€ющим. —лышат, как она поет, подход€т и спрашивают —авину, находитс€ ли она на посту. –азговорились, и тут комиссар интересуетс€: «ј винтовка-то зар€жена? ј ну дай посмотрим». —авина отдала оружие, тот его вз€л и ушел. ћы-то еще дети были, ну как могло прийти в голову мысль не отдать винтовку комиссару, пусть даже ты стоишь на посту. Ѕедную девушку после этого случа€ на комсомольском собрании разбирали. — нами учились девочки из ћосквы, которые нас, дальневосточниц, называли «зелеными». ƒело в том, что у нас не было ни самоволок, ничего такого, а москвички умудр€лись через забор пробиратьс€ в школу пилотов к реб€там, как-то договаривались и сбегали с ними на танцы или еще что. ћы же как были «зелеными», так и остались. ƒаже танцевать толком не умели, ведь забрали в армию фактически со школьной скамьи. ¬ но€бре 1942-го года все мое отделение с отличием окончило курсы св€зистов, и мы получили значки «ќтличник военно-морского флота». ѕриехали в ћоскву 5 декабр€ в ƒень —талинской онституции. Ѕоже, как же мы, сибир€ки, готовились встретить столицу –одины. ¬се страстно желали увидеть кремлевские звезды. Ќас привезли глубокой ночью и разместили на ближайшем к вокзалу аэродроме в палатке. счастью, они были утепленные, внутри сто€ли буржуйки. Ќа следующий день после прибыти€ нас повезли в баню, надо было помен€ть форму, мы приехали в обычной полевой форме, а попали в военно-морскую авиацию. » по дороге осмотрели ћоскву. Ќа всех окнах перекрещенные ленты, на расной площади никаких кремлевских звезд не увидели, все замотано в ткань и замаскировано, бронзова€ квадрига с академического Ѕольшого театра была убрана. Ќе узнаем ћоскву, какой ее изучали по картинкам в «абайкалье. Ќарод вокруг какой-то тихий, многие шли с лопатами, навстречу часто попадались военные и ополченцы, потому что не утихали бои на –жевском выступе. „ерез неделю всех перевели по казармам. ѕо ночам происходили отдельные налеты вражеских самолетов. –аздавалась тревога, зенитки на крышах домов открывали частый огонь. ћы же выбегали из казармы и сразу же направл€лись на свои временные посты. ≈сли немецкий самолет прорывалс€, тут же со всех сторон прожектора скрещивались и брали его в окружение, после чего вели в небе. ¬от так начались наши военные будни. ћен€ как отличницу боевой подготовки направили на аэродром «»змайлово», который находилс€ в ближнем пригороде на северо-востоке ћосквы. «десь располагалс€ 65-й отдельный раснознаменный транспортный авиаполк спецназначени€ ¬оенно-¬оздушных сил ¬оенно-ћорского флота ———–. Ёто был центральный аэродром военно-морского флота, мы обслуживали транспортную авиацию Ѕалтийского, —еверного и „ерноморского флотов. огда € прибыла, то оказалось, что € единственна€ девушка на аэродроме, кроме мен€ была только женщина-врач. ’от€ все оставалось неблагоустроенным, никто не замечал трудностей. » все рвались на фронт, € написала два рапорта с просьбой отправить мен€ в летное училище, но к тому времени больше никого из девушек в пилоты решили не брать, и направл€ли только во вспомогательные летно-технические службы. огда € пришла в дежурную земл€нку к молодым реб€там-техникам, то сразу же предупредила: «ќтныне никаких анекдотов, никакого мата и курений, это мое рабочее место!» ќни удивились: «—мотри, кака€!» Ќо послушались. «атем мен€ вызывает аэродромный инженер, и говорит: «“ы же мне всю авиацию испортила, € же с технар€ми объ€снитьс€ не могу на пон€тном им €зыке!» ѕервое врем€ приходилось нат€гивать св€зь от дежурного пункта к штабу аэродрома. “елефонную катушку разматываешь, посто€нно взлетают самолеты, линию не закрепл€ли, поэтому из-за мощи мотора, особенно если в воздух поднималс€ бомбардировщик или транспортный самолет, весь провод вместе с телефонным аппаратом наматывалс€ на пропеллер. √де-то все хоз€йство падает на землю, а ты идешь и начинаешь заново прокладывать линию св€зи. –аботали зимой 1942/1943-го года на открытом воздухе, сто€л такой мороз, что руки примерзали к клеммам. огда св€зь наладили, мен€ зачислили в дежурный стартовый нар€д, потому что € великолепно знала все семафорные сигналы, в том числе и флажками. Ќас хорошо учили на курсах, и пусть половина знаний на службе не пригодилась, зато натаскали каждую на св€зиста высшей квалификации. Ќо ни в один самолет мен€ поначалу не брали. ƒело в том, что на аэродроме очень суеверный народ, € пришла к начальнику штаба полка, расплакалась, рассказала о том, что с отличием все окончила, а мен€ даже на проверку метеоусловий в воздух не берут. ќн рассерженно отвечает: «ƒа попробуй ты поговори с нашими дураками, они вплоть до того сопротивл€ютс€ и кричат, что готовы перейти в другую часть, мол, женщина на корабле и в самолете к несчастью». ѕричем настолько это было укоренено, что становилось пр€мо-таки смешно. „ерез какое-то врем€ летчики сдались и стали брать мен€ на проверку метеоусловий, но в основном служила в стартовом нар€де. ј подн€тьс€ в воздух – это была огромна€ радость. ћои функции в дежурном нар€де заключались в том, чтобы опознавать самолеты, заход€щие на посадку. ќни посылали к нам опознавательную радиоленту, а в случае невозможности сделать это летчики перед вылетом запоминали пароль: «я – свой». Ѕез предупреждени€ прилетали только самолеты со специальным заданием, все-таки мы €вл€лись центральным аэродромом военно-воздушных сил ¬ћ‘, но иногда заходили летчики и на вынужденную посадку. “огда в качестве опознавательных знаков использовалось покачивание крылом, а если садились вечером – то давали из кабины две ракеты – красную и зеленую. я очень хорошо знала все марки самолетов, поэтому когда заболевал оперативный дежурный, которого сейчас называют диспетчер, то все врем€ подмен€ла его. Ёта работа мне нравилась, в отличие от казенного штабного дела, к которому мен€ врем€ от времени привлекали. ќднажды у нас на аэродроме совершил вынужденную посадку мой будущий муж ѕетр ‘едорович »ванов, комэск 40-го раснознаменного авиационного полка пикирующих бомбардировщиков ¬¬— „ерноморского флота. »х перебрасывали в японию, а у него были нелады с самолетом. «ашли они на посадку без св€зи, и € побежала к самолету вы€снить, в чем же дело, сама худенька€ и беленька€, в летном комбинезоне с морской бл€хой, с короткой стрижкой. ѕодбегаю к радисту, а он уже пон€л, что € св€зист, и кричит мне: «“ы понимаешь, …, не работает раци€». “ак сильно материлс€, что мне стало страшно, € бегом на аэродром, говорю командиру полетов, что не пойду больше, там радист матом ругаетс€. “от берет мен€ за руку и говорит: «ј ну-ка, пойдем к нему». ѕодходит к матерщиннику и как на него накинулс€: «“ы что творишь! тебе дивчина с добром подошла, а ты матом на нее ругаешьс€!» “от в ответ разводит руками, мол, он же думал, что это хлопчик. ¬от такие казусы происходили.
“еперь расскажу о вылетах на проверку метеоусловий. ћы замер€ли видимость в основном по ночам, тогда полеты были примитивными, только чуть гроза или дождь, уже нельз€ летать, особенно если гроза. ћы занимались этим с 2 до 4 часов ночи. Ћетали в основном в сторону „ертаново, после чего передавали подлетающим к аэродрому летчикам, что видимость на такой-то высоте составл€ет столько-то. ¬ результате летчик мог спокойно ориентироватьс€ по приборам. ѕосле же ранних утренних замеров видимости мы звонили в наркомат и докладывали, кака€ погода, €сное ли небо, есть ли туман. »ногда приходилось заниматьс€ замерами метеоусловий чуть ли не каждый день, потому что наши летчики перегон€ли на фронт иностранную технику, полученную по ленд-лизу, и новые отечественные самолеты. ¬ нашем полку этой работой занималась цела€ эскадриль€. Ќесмотр€ на то, что к проверке метеоусловий относились очень и очень серьезно, не обходилось без несчастных случаев. ќднажды, когда наши летчики перегон€ли новую технику, то сильно торопились, самолеты ждали на фронте, вылетели в сильный туман и многие реб€та погибли, врезавшись в какие-то горы на пути перелета. Ќе стоит думать, что в транспортной авиации не было потерь. „асто наши самолеты по различным спецзадани€м летали над линией фронта, и некоторые летчики даже к нам возвращались без пам€ти. “олько и могли, что посадить машину, их уже поджидала «скора€ помощь». ¬ этом заключалась сила воли летчика – несмотр€ ни на что, он должен посадить самолет. “ак как мен€ избрали комсоргом, то врем€ от времени мне приходилось писать письма родным. Ћетчики перед вылетами обычно сами просили: «Ќапиши моей девушке или маме, если не вернусь». –одственники в ответ пишут письмо, в котором прос€т указать последние слова погибшего, рассказать, с кем он говорил. ј с кем он разговаривал?! Ѕывает, садишьс€ завтракать – п€ть столов зан€то, а когда приходишь на ужин, то за одним уже нет людей. ƒолжна также подчеркнуть, что в военно-морской авиации надо было дес€ть раз умереть и на 11-й раз воскреснуть, чтобы получить звание √еро€ —оветского —оюза. ≈жедневные вылеты воспринимались как работа, а работать надо было хорошо. ћногих просто не замечали. Ќаграды доставались так – кто как попадал. ћы часто сме€лись, потому что штабные работники полка по два-три раза попадали в наградные ведомости, а летчики, которые топили корабли или ежедневно перегон€ли на фронт иностранные самолеты, полученные по ленд-лизу, оставались даже без медалей. акие самолеты перегон€ли? ¬ основном « аталины» и «’аррикейны», изредка «Ѕостоны». ѕричем, по отзывам наших летчиков, первые два типа самолетов – это была не лучша€ техника. “олько чуть на английском «’аррикейне» перебрал врем€ в воздухе, тут же мог воспламенитьс€ мотор. « аталины» как гидросамолеты можно было зимой на лыжи поставить, но они имели небольшую скорость, и в целом, по отзывам летчиков, были ничем не лучше нашего “Ѕ-3, который называли «Ѕратска€ ћогила». ј экипаж составл€л 6-8 человек. Ќадо сказать, что американска€ техника славилась «Ѕостонами», но в целом реб€та больше всего уважали советскую технику, особенно ћи√и, Ћа√√и и »лы. Ѕывало, что к нам на аэродром прилетали летчики с фронта, потер€вшие свои машины, они брали перегнанные самолеты, облетывали их и улетали обратно на передовую. ” нас побыли практически все известные советские конструкторы, но особенно часто к нам на аэродром приезжал авиаконструктор —ергей ¬ладимирович »льюшин, который проводил летные «вывозные» эксперименты. ” нас служил √ерой —оветского —оюза, генерал-майор авиации летчик-испытатель ¬ладимир онстантинович оккинаки, который занималс€ очень опасным и ответственным делом – провер€л, какие есть недоработки в новой машине и при этом нужно было еще и сохранить прототип во что бы то ни стало. огда испытывали последний »л-10, он не выбрасывал шасси в воздухе, и командование с земли приказывало оккинаки сажать его на живот, на брюхо, чтобы сохранить модель. Ќо ¬ладимир онстантинович до того болталс€ в небе, пока у него шасси не вывалились. Ѕензин кончалс€, а он все равно стремилс€ сохранить самолет – таковы были летчики-испытатели. ƒовелось видеть даже знаменитый сверхсекретный американский стратегический бомбардировщик B-29 «—уперфортресс», который наши самолеты смогли как-то перехватить на ƒальнем ¬остоке. јмериканцы совершили вынужденную посадку в —оветском —оюзе, и заместитель начальника летной инспекции военно-воздушных сил военно-морского флота подполковника —оломон Ѕорисович –ейдель, служивший на нашем аэродроме, отправилс€ туда. ќн перегнал этот самолет к нам, и тот сто€л на взлетной полосе примерно с мес€ц, его конструкцию тщательно провер€ли и разбирали буквально «по винтикам». ѕозже рассказывали, что часть конструкторских решений использовали в разработке отечественных бомбардировщиков. — нашего аэродрома ¬ерховный √лавнокомандующий »осиф ¬иссарионович —талин вылетел на “егеранскую конференцию, но нас, естественно, и близко никого не допускали на аэродроме, его специальна€ команда сопровождала. ј так наши транспортные самолеты обслуживали командующих различных флотов. Ћетал от нас и нарком ¬ћ‘ ———– адмирал Ќиколай √ерасимович узнецов, и начальник отдела перелетов ¬¬— ¬ћ‘ √ерой —оветского —оюза полковник ћаврикий “рофимович —лепнев, который мен€ в партию рекомендовал в 1944-м году. ќн был член полковой партийной комиссии, и к нам очень часто приезжал, но мы с ним в основном общались по телефону, потому что € была дежурной по св€зи. огда он в первый раз приехал, то спросил: «√де ваша пищалка?» я имела тонкий голос, но когда вышла, рост-то высокий, он говорит: «Ѕоже, да это дивчина, а € думал, что мне отвечает кака€-то маленька€ пигалица!»
¬ 1945-м году стало чувствоватьс€ приближение ѕобеды. я подружилась с девушками с соседней части, 39-й авиационной базы военно-воздушных сил военно-морского флота, которые работали по вольному найму бухгалтерами, шоферами и св€зистками. огда ночью 9 ма€ 1945-го года мы услышали по радио голос ёри€ Ѕорисовича Ћевитана о капитул€ции √ермании, то повыскакивали, всем тут же дали увольнительные. ћы пошли в ћоскву, где присоединились к общей толпе, двигавшейс€ к расной площади. ћетро не работало, трамваи остановились, потому что людей нацепл€ли так, что уже не могли никуда идти. ƒо самого вечера гул€ли по столице и в итоге пришли на расную площадь. ¬се очень хотели видеть »осифа ¬иссарионовича —талина и ждали, что он выступит, будет нас поздравл€ть. расна€ площадь была освещена прожекторами, и на крепостную стену вышли руководители государства. ћы узнали бородку ѕредседател€ ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– ћихаила »вановича алинина. Ќарком иностранных дел ———– ¬€чеслав ћихайлович ћолотов сто€л в своей знаменитой шл€пе, хот€ был май мес€ц, р€дом с ним находилс€ нарком внешней торговли —оветского —оюза јнастас »ванович ћико€н. »з-за сумерек свет плохой, но —талина € почему-то не увидела, видимо, он к нам не вышел тогда. Ќароду было столько, что €блоку негде упасть. ћы стоим, вслух мечтаем, кака€ жизнь настанет после войны, сначала недел€ праздников, а потом настанет богата€ жизнь. то-то прин€лс€ бросать деньги вверх, на головы посыпалось множество мелочи, получилс€ пр€мо денежный дождь, который олицетвор€л надежды на будущую жизнь в достатке. «атем люди заметили нас, девушек в морской военной форме, бросились обнимать и целовать, после чего стали подбрасывать на руках. ¬есьма непри€тное ощущение – когда ты летишь и не знаешь, поймают теб€ или нет. ¬округ руки, они теб€ в воздухе хватают. я все врем€ придерживала юбку, чтобы не оголить ноги. «атем увидела, как люди, пришедшие с цветами, начали бросать букеты у стен ремл€ и говорить, что здесь будет пам€тник ¬еликой ќтечественной войне. Ќе знаю, то ли место было, где сейчас действительно поставили пам€тник Ќеизвестному солдату, но там была така€ гора цветов, ужас. ѕотом вдруг прожектора отвели, сделали затемнение, и внезапно снова засветили в небо прожектора разных цветов – красного, желтого и зеленого. ќни скрестились над расной площадью, словно выхватывали самолет, и мы увидели черную точку, гадали, неужели самолет посад€т. “очка опускалась все ниже и ниже, и мы видим, что это колышетс€ огромное полотнище, на котором был изображен портрет »осифа ¬иссарионовича —талина. акое ликование было, Ѕоже мой! » плакали, и дружно говорили: «—пасибо!» - ак кормили летно-технический состав? - ќчень хорошо. ашу гречневую даже сейчас видеть и слышать о ней не могу, потому что морских авиаторов, как и подводников, кормили на убой. - ќсобист у ¬ас был? - Ѕыл, майор ’орунженко. ќн ничего нам плохого не делал, но как-то его сторонились. ј затем он попал в непри€тную историю. нам прилетела группа летчиков-черноморцев, которую возглавл€л мой будущий муж »ванов ѕетр ‘едорович, они у нас на два дн€ задержались. „то уж скрывать, вели себ€ разв€зано, как-никак фронтовики, черноморцы, разговаривали с каким-то блатным акцентом. Ќашим летчикам по норме выдавали папиросы « азбек», а когда черноморцы пришли за своими папиросами, по распор€жению майора ’орунженко им выдали «Ѕеломорканал». Ћетчики собрали эти папиросы в какую-то торбу и принесли ему под дверь. ј утром вдруг у нас вы€сн€етс€, что все летчики где-то были вечером в увольнении. –€дом с аэродромом находилась кака€-то деревн€, наши летчики перед увольнением, бывало такое, говаривали: « телкам пошли!» я всю войну пребывала в уверенности, что они шли на парное молоко, раз к телкам. Ќасколько была наивной! ќ спиртном тогда даже не слышала, мне на день рождени€ давали лишний стакан компоту, и все. “ак что никто не удивилс€ отсутствию черноморцев, летчики из увольнени€ всегда приходили очень поздно. Ќо потом поползли слухи о том, что черноморцы подкараулили нашего ’орунженко, задрали на нем летный реглан, св€зали на голове по€сом и сильно исколотили. ”нижение какое! ћайор как-то выкарабкалс€ из той канавы, куда его забросили, и молчал. «ато на следующий день перед вылетом всем черноморцам безо вс€ких разговоров выдали положенные папиросы « азбек». - ¬ы помните ѕарад ѕобеды 24 июн€ 1945-го года? - Ќа нашем аэродроме была репетици€ воздушного ѕарада, который, к сожалению, так и не состо€лс€. ƒолжны были лететь трижды √ерои —оветского —оюза јлександр »ванович ѕокрышкин и »ван Ќикитович ожедуб. ѕервый был женат на медсестре ћарии Ќикитичне ѕокрышкиной, с которой они поженились в 1944-м году, он прибыл с ней к нам. —ам же парад ѕобеды 24 июн€ 1945-го года помню во всех подробност€х, так как нам всем в форме разрешили идти туда. –еб€т оцепление не пропустило, а нам, девчонкам, разрешили пройти поближе, мы сто€ли во втором р€ду после охраны. » знаете, как это было здорово – выезд на лошад€х ћаршалов —оветского —оюза онстантина онстантиновича –окоссовского и √еорги€ онстантиновича ∆укова. јж мороз по коже пробирал. Ѕольше всего мне запомнилось, как наши солдаты бросали к подножию ћавзоле€ вражеские знамена. Ќесмотр€ на пасмурный день и дождик на душе пела песн€. ѕосле парада мы решили пойти в Ѕого€вленский кафедральный собор в ≈лохове, в толпе говорили, что там будет петь сам ћихайлов, но нас оттуда выгнали, ведь надо было входить с покрытыми головами, а потом мы начали хихикать, все-таки еще совсем молодежь. - аков был боевой путь ¬ашего мужа »ванова ѕетра ‘едоровича? - ћой муж, с которым мы поженились в 1947-м году, старший лейтенант »ванов ѕетр ‘едорович, будучи еще заместителем комэска-3 40-го раснознаменного авиационного полка пикирующих бомбардировщиков ¬¬— „ерноморского флота в бо€х за рым был награжден ќрденом јлександра Ќевского, а до этого дважды награждалс€ ќрденом « расного «намени». “акой был патриотизм, везде в газетах и журналах печатали информацию о комсомольцах, об их победах, в том числе и о том, как ѕетра наградили полководческим орденом. ≈го несколько раз представл€ли к званию √ерой —оветского —оюза, но не давали, потому что командующий „ерноморским флотом адмирал ‘илипп —ергеевич ќкт€брьский говорил: «ѕока € командую флотом, »ванову звани€ √еро€ не видать». ћуж любил выпить и с начальством не церемонилс€. ’от€ и нещадно уничтожал и топил немецкие транспорты, в том числе и набитые войсками противника.
|
ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |
∆енщины на войне |
ƒневник |
—траны-участницы ¬торой мировой войны прилагали максимум усилий дл€ победы. ћножество женщин добровольно записались в вооруженные силы или выполн€ли традиционную мужскую работу дома, на предпри€ти€х и на фронте. ∆енщины работали на заводах и в правительственных организаци€х, были активными участницами групп сопротивлени€ и вспомогательных подразделений. —равнительно немного женщин сражались непосредственно на линии фронта, но многие стали жертвами бомбардировок и пострадали во врем€ боевых действий. концу войны более 2-х миллионов женщин работали в сфере военной промышленности, сотни тыс€ч добровольно ушли на фронт санитарками или записались в р€ды армии. “олько в ———– в военные подразделени€х наравне с мужчинами служили около 800 тыс€ч женщин. ¬ данном фоторепортаже представлены фотографии, рассказывающие о том, что пришлось перенести и выдержать женщинам, которые принимали активное участие в боевых действи€х ¬торой мировой.
—имволом обороны —евастопол€ стала советска€ снайпер Ћюдмила ѕавличенко. ѕо подтвержденным данным, к концу войны от ее рук погибло 309 немцев. ѕавличенко считаетс€ самой успешной женщиной-снайпером в истории.
инорежиссер Ћени –ифеншталь смотрит в объектив большой кинокамеры во врем€ подготовки к съемке »мперского партийного съезда в √ермании в 1934 году. Ёти кадры войдут в сн€тую в 1935 году картину «“риумф воли», признанную одной из лучших в истории картин пропаганды.
∆енщины, зан€тые контролем качества гильз на производстве в японии 30 сент€бр€ 1941 года.
¬оеннослужащие ∆енского армейского корпуса (WAC) в лагере емп-Ўек перед отъездом из порта Ќью-…орка 2 феврал€ 1945 года. Ёто первый контингент чернокожих женщин в WAC, который был отправлен в район боевых действий. ¬ первом р€ду слева направо на колен€х сто€т: р€дова€ –оуз —тоун, р€дова€ ¬ирджини€ Ѕлейк и р€дова€ 1-го класса ћари Ѕ. ƒжиллисспай. ¬торой р€д: р€дова€ ∆еневьева ћаршалл, техник 5-го класса ‘анни Ћ. “алберт и капрал елли . —мит. “ретий р€д: р€дова€ √лэдис Ўустер артер, техник 4-го класса Ёвелина . ћартин и р€дова€ 1-го класса “еодора ѕалмер.
–аботницы осматривают частично надутый аэростат заграждени€ в Ќью-Ѕедфорде, штат ћассачусетс, 11 ма€ 1943 года. Ќа каждой части воздушного шара должен сто€ть штамп работника, выполн€вшего конкретно этот участок работы, затем инспектора подразделени€ и наконец, главного инспектора, который дает окончательное подтверждение.
ќбучение армейских медсестер госпитал€ ‘орт-ƒжей использованию противогазов как средства защиты на фоне небоскребов, вырисовывающихс€ сквозь облака газа, √овернорс-јйленд, Ќью-…орк, 27 но€бр€ 1941 года.
“ри советские партизанки во врем€ ¬торой мировой войны, ———–.
“епло одета€ женска€ команда ¬спомогательной территориальной службы (ATS) за работой поискового прожектора недалеко от Ћондона 19 €нвар€ 1943 года. ∆енщины пытаютс€ отследить немецкие бомбардировщики дл€ обстрела из зенитных установок.
Ћетчица-испытатель капитан ’анна –айтш пожимает руку канцлеру √ермании јдольфу √итлеру после получени€ награды «∆елезный крест» II степени в берлинской рейхсканцел€рии. Ћетчица получила эту награду за заслуги в развитии военной авиации. Ќа заднем плане в центре стоит рейхсмаршал √ерман √еринг, а на заднем плане справа – генерал-лейтенант арл Ѕоденшатц.
—тудентки-художницы на скорую руку срисовывают военные агитационные плакаты в городе ѕорт ¬ашингтон, штат Ќью-…орк, 8 июл€ 1942 года. »сходные рисунки вис€т стене на заднем плане.
јрестованна€ солдатами —— группа бойцов еврейской оппозиции в апреле/мае 1943 года. ѕосле восстани€ в еврейском квартале, немецкие войска уничтожат ¬аршавское гетто.
¬ ходе призывной компании в Ћюфтваффе вступило большое количество девушек. ќни замен€ют мужчин, переброшенных на передовую дл€ борьбы с войсками союзников. Ќа снимке: девушки, на учени€х с мужчинами из Ћюфтваффе, √ермани€, 7 декабр€. 1944 года.
—пециально отобранных летчиц из ∆енской вспомогательной службы воздушного наблюдени€ (WAAF) обучают об€занност€м полицейских. ќсновные требовани€ — ум, сообразительность, наблюдательность. Ќаравне с мужчинами, девушки проход€т курс интенсивной подготовки в полицейской школе RAF. аждый мужчина должен знать «свое место» — демонстраци€ приемов самообороны сотрудницей WAAF, 15 €нвар€ 1942 года.
¬о врем€ войны первый отр€д женщин-партизан был сформирован на ‘илиппинах. Ќа фото — женщины прошедшие подготовку в местных вспомогательных войсках обучаютс€ стрельбе из винтовок в ћаниле, 8 но€бр€ 1941 года
»таль€нские партизаны «Maquis» практически неизвестны за пределами своей родины, хот€ и боролись с фашизмом с 1927 года. ќни вели бои за свободу в наиболее опасных услови€х. »х врагами были немцы и фашисты-италь€нцы, а полем бо€ – покрытые снегом и льдом горные вершины на границе между ‘ранцией и »талией. Ќа фото: школьна€ учительница из долины јоста сражаетс€ бок о бок со свои мужем в «Ѕелом патруле» немного выше стратегического укреплени€ Little Saint Bernard в »талии, 4 €нвар€ 1945 года.
ƒемонстраци€ способностей женского оборонительного корпуса в √лостере, ћассачусетс, 14 но€бр€ 1941 года. —тру€ми воды из скрещенных пожарных рукавов девушки образовали букву “V”, котора€ значит «ѕобеда».
—анитарка перев€зывает руку китайскому солдату во врем€ сражени€ на фронте у реки —алуин в провинции ёньнань, 22 июн€ 1943 года. ≈ще одного раненного привел товарищ дл€ оказани€ медицинской помощи.
–аботницы протирают носовые части бомбардировщиков A-20J из органического на заводе авиастроительной компании «Douglas Aircraft» в городе Ћонг-Ѕич, штат алифорни€, окт€брь 1942 года.
»ллюстраци€ нарушени€ техники безопасности при работе на станке женщинами с длинными волосами (на снимке голливудска€ актриса ¬ероника Ћэйк), јмерика, 9 но€бр€ 1943 года.
ѕо сигналу тревоги зенитчицы из ¬спомогательной территориальной службы(ATS) бегут к противовоздушным установкам, пригород Ћондона, 20 ма€ 1941 года.
Ќемки из зенитных войск используют полевую св€зь.
ћолодые советские трактористки из иргизии с успехом заменили своих мужей, братьев и отцов, которые ушли на фронт. Ќа фото: трактористка убирает урожай сахарной свеклы, 26 августа 1942 года.
77-летн€€ ѕаул “итус, воздушный наблюдатель округа Ѕакс, штат ѕенсильвани€, держит ружье и осматривает свой участок, 20 декабр€ 1941 года. “итус пошла добровольцем на следующий день после налета на военно-морскую базу ѕерл-’арбор. ѕо ее словам, она готова вз€ть оружие в руки в любое врем€.
ѕольские женщины в стальных шлемах и военной форме идут маршем по улицам ¬аршавы, готовые встать на защиту столицы после вторжени€ немецких войск в ѕольшу, 16 сент€бр€ 1939 года.
ћедсестры разбирают завалы в одной из палат полуразрушенного госпитал€ —в. ѕетра в »ст-—айде, Ћондон, 19 апрел€ 1941 года. ¬о врем€ массированного налета вражеской авиации на столицу Ѕритании среди прочих зданий от бомб пострадали четыре больницы.
‘отожурналистка журнала «Life» ћаргарет Ѕурк-”айт в летном снар€жении стоит возле союзного самолета «Ћетающа€ крепость» во врем€ своей командировки в феврале 1943 года.
Ќемецкие солдаты ведут польских женщин к месту казни в лесу, 1941 год.
Ќесмотр€ на мороз, девушки из —еверо-«ападного университета обучаютс€ стрельбе из винтовок в студенческом городке Ёванстон, »ллинойс, 11 €нвар€ 1942 года. —лева направо: 18-летн€€ ∆анна ѕол из города ќк ѕарк, штат »ллинойс, 18-летн€€ ¬ирджини€ ѕейсли и 19-летн€€ ћари€ ”олш из Ћейквуда, штат ќгайо, 20-летн€€ —ара –обинсон из ƒжонсборо, штат јрканзас, 17-летн€€ Ёлизабет упер из „икаго и 17-летн€€ √арриет √инсберг.
—анитарки проход€т учени€ в противогазах – один из многих видов тренировок дл€ новичков – на территории одной из больниц в ожидании отправлени€ в места посто€нной дислокации в ”эльсе, 26 ма€ 1944 года.
иноактриса јйда Ћупино, лейтенант женского корпуса скорой помощи и обороны сидит у телефонного распределительного щита в Ѕрентвуде, штат алифорни€, 3 €нвар€ 1942 года. ¬ экстренной ситуации она может св€затьс€ со всеми постами скорой помощи в городе. –аспределительный щит находитс€ в еЄ доме, откуда она может видеть весь Ћос-јнджелес.
ѕервый контингент американских санитарок, отправленных на союзную передовую базу в Ќовой √винее, шагает к лагерю с вещами, 12 но€бр€ 1942 года. ѕервые четыре девушки справа налево: Ёдит ¬иттейкер из ѕотакета, штат –од-јйленд, –ут Ѕаучер из ¬устера, штат ќгайо, ’елен Ћоусон из јтенса, штат “еннесси и ’уанита √амильтон из ’ендерсонвилла, —еверна€ аролина.
„лены ѕалаты представителей —Ўј в практически полном составе слушают мадам „ан айши, жену китайского генералиссимуса, котора€ просит приложить максимум усилий, чтобы остановить наступление японии. —нимок сделан в ¬ашингтоне, округ олумби€, 18 феврал€ 1943 года.
—анитарки, высадившиес€ с десантных судов, идут по пл€жу в Ќормандии, 4 июл€ 1944 года. ќни направл€ютс€ в полевой госпиталь, чтобы оказывать помощь раненным союзным солдатам.
‘ранцузские мужчина и женщина стрел€ют из конфискованного немецкого оружи€ во врем€ сражени€ французских ополченцев и военных формирований с немецкими захватчиками в ѕариже в августе 1944 года незадолго до освобождени€ французской столицы.
ћужчина и женщина, члены французских внутренних войск, разоружают раненного во врем€ уличной стычки немца, незадолго до вступлени€ в ѕариж армии союзников в 1944 году.
—уд над Ёлизабет «Ћило» √лоден. ≈е обвин€ют за участие в покушении в июле 1944 года на жизнь јдольфа √итлера. Ёлизабет с мужем и матерью была признана виновной в сокрытии участника заговора 20 июл€. ¬се трое были обезглавлены 30 но€бр€ 1944 года. »х казнь получила широкую огласку и послужила предупреждением тем, кто собиралс€ вступить в заговор против немецкой прав€щей партии.
–умынские гражданские, мужчины и женщины, копают противотанковые рвы в пограничной зоне, готов€сь к отражению наступлени€ советских войск.
ƒжин ѕиткейти, медсестра из расположенного в Ћивии новозеландского медицинского подразделени€, надела специальные очки дл€ защиты глаз от песка, 18 июн€ 1942 года.
62-а€ —талинградска€ арми€ (8-а€ гварди€ армии генерала „уйкова) на улицах ќдессы. Ѕольша€ группа советских солдат, включа€ двух женщин впереди, марширует по улице, апрель 1944 года.
ƒевушка из движени€ сопротивлени€ участвует в операции по обнаружению немецких снайперов, которые до сих пор пр€чутс€ в ѕариже, ‘ранци€, 29 августа 1944 года. ƒвум€ дн€ми ранее эта девушка застрелила двух немецких солдат.
‘ранцузские патриоты остригают волосы коллаборационистке √ранд √вийот из Ќормандии, 10 июл€ 1944 года. ћужчина справа не без удовольстви€ наблюдает за страдани€ми женщины.
ќсвобожденные британцами женщины и дети ют€тс€ в бараке в «Bergen-Belsen», √ермани€, апрель 1945 года. ќни входили в число более чем 40 тыс€ч заключенных концлагерей, страдающих дизентерией, голодом и сыпным тифом.
∆енщины ——, равные по своей жестокости сослуживцам-мужчинам, в концлагере «Bergen-Belsen», Ѕерген, √ермани€, 21 апрел€ 1945 года.
—оветска€ женщина, зан€та€ уборкой пол€, на которое совсем недавно падали снар€ды, показывает кукиш немецким военнопленным, которых ведут советские конвоиры, ”——–, 14 феврал€ 1944 года.
—ьюзи Ѕэйн позирует фотографу со своим портретом 1943 года в ќстине, штат “ехас, 19 июн€ 2009 года. ¬о времена ¬торой мировой войны Ѕэйн служила в ∆енской службе пилотов ¬оенно-воздушных сил —Ўј. 10 марта 2010 года более 200 ныне живущих военнослужащих ∆енской службы пилотов ¬оенно-воздушных сил —Ўј были награждены «олотой медалью онгресса —Ўј.
ћетки: у войны женское лицо |
ƒругие женщины - авиаторы |
ƒневник |

–унт ћари€ »вановна
ЋЄтчик - бомбардировщик, √вардии апитан, кандидат филологических наук. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ‘еврал€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ. ѕосле войны была на партийной работе.

—еброва »рина ‘ЄдоровнаЋЄтчик - бомбардировщик, √ерой —оветского —оюза ( 1945 год ), √вардии —тарший лейтенант. Ѕыла инструктором во ‘рунзенском аэроклубе ћосквы. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ћа€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была командиром звена. —овершила 1008 ночных боевых вылетов. ѕосле войны до 1948 года служила в ¬¬—. «атем работала в ћј». |

“ропаревска€ ЌадеждаЋЄтчик - бомбардировщик, заслуженный мастер спорта ———–. ”частница ¬еликой ќтечественной войны. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ. ѕосле войны работала инструктором по парашютному спорту в ƒј—јј‘. |

—анфирова ќльга јлександровнаЋЄтчик - бомбардировщик, √ерой —оветского —оюза ( посмертно ), √вардии апитан. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ћа€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была командиром эскадрильи. —овершила 630 ночных боевых вылетов. 13 ƒекабр€ 1944 года погибла в районе √родно при возвращении с боевого задани€ на подбитом самолЄте ( покинув машину на парашюте, приземлилась на минное поле ). ≈Є бюст установлен в городе оломне. |

–адчикова ЋарисаЎтурман. ”частница ¬еликой ќтечественной войны. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) авиационного полка лЄгких ночных бомбардировщиков. Ћетала в экипаже √еро€ —оветского —оюза Ќины ћаксимовны –аспоповой. |

—умарокова “ать€наЎтурман. ”частница ¬еликой ќтечественной войны. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была штурманом эскадрильи. —овершила более 500 ночных боевых вылетов. |

люева ќльгаЎтурман, √вардии ћладший лейтенант. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ‘еврал€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского) полка лЄгких ночных бомбардировщиков, была штурманом звена. |

Ўахова ќльгаЋЄтчик - истребитель. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с 1942 года. ¬оевала в составе 586-го женского истребительного авиационного полка ѕ¬ќ, затем 434-го истребительного авиационного полка. ”частница —талинградской битвы. |

јмосова —ерафимаЋЄтчик - бомбардировщик. –аботала пилотом в √ражданском ¬оздушном ‘лоте. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ‘еврал€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была командиром эскадрильи, затем заместителем командира полка по лЄтной части. ѕосле войны была секретарЄм парткома одного из московских предпри€тий. |

„ечнЄва ћарина ѕавловнаЋЄтчик - бомбардировщик, заслуженный мастер спорта ———–, √ерой —оветского —оюза ( 1946 год ), √вардии ћайор. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ћа€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была командиром эскадрильи. —овершила 810 ночных боевых вылетов. ѕосле войны была заместителем председател€ ÷ентрального правлени€ ќбщества советско - болгарской дружбы, членом президиума ÷ ƒќ—јј‘, членом президиума —оветского комитета ветеранов войны, членом омитета советских женщин. јвтор книг: "—амолЄты уход€т в ночь", "Ќебо остаЄтс€ нашим", "Ћасточки" над фронтом". ”мерла 12 январ€ 1984 года. |

аширина »ринаЎтурман. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) авиационного полка ночных лЄгких бомбардировощиков. 31 »юл€ 1943 года погибла в одном из боевых вылетов над “аманским полуостровом ( еЄ самолЄт был сбит ночным истребителем противника ). |

–€бова ≈катерина ¬асильевнаЎтурман, √ерой —оветского —оюза, √вардии —тарший лейтенант. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ћа€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была штурманом эскадрильи. —овершила 816 ночных боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. ѕосле войны окончила ћ√”, работала в полиграфическом институте. ”мерла 12 —ент€бр€ 1974 года. ѕохоронена в ћоскве на Ќоводевичьем кладбище. |

–акобольска€ »рина ¬€чеславовнаЋЄтчик - бомбардировщик, √вардии —тарший лейтенант. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ‘еврал€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была начальником штаба полка. ѕосле войны преподавала в ћ√”. |

–ачкевич ≈вдоки€ яковлевнаЋЄтчик - бомбардировщик, √вардии ѕодполковник. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с ‘еврал€ 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) ЌЅјѕ, была комиссаром полка. ѕосле войны продолжала служить в ¬¬—. |

ƒоспанова ≈катеринаЎтурман. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с 1942 года. ¬оевала в составе 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) авиационного полка лЄгких ночных бомбардировщиков. Ћетала в экипаже √еро€ —оветского —оюза ≈вдокии »вановны Ќосаль. |

ƒжунковска€ √алина »вановнаЎтурман, √ерой —оветского —оюза ( 1945 год.), √вардии ћайор. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с январ€ 1943 года. ¬оевала в составе 125-го √вЅјѕ. —овершила 62 боевых вылета, в 5 воздушных бо€х сбила в группе 2 самолЄта противника. ѕосле войны до 1949 года служила в ¬¬—. «атем работала учителем в школе. Ѕыла членом правлени€ ќбщества "———– - Ќидерланды", членом международной комиссии —оветского комитета ветеранов войны. јвтор книг "ёность в огне", "–асскажи, берЄза". ≈Є им€ носит школа в селе ёрковка иевской области ( ”краина ), в которой она училась. |

ѕашкова ёли€ЋЄтчик - бомбардировщик, √вардии сержант. ”частница ¬еликой ќтечественной войны с 1942 года. ¬оевала в составе 3-й авиационной эскадрильи 588-го ( 46-го √вардейского “аманского ) полка лЄгких ночных бомбардировщиков. ¬ ћарте 1943 года погибла в авиационной катастрофе. |

ёдина ( ≈лисеева ) Ћина яковлевна¬оенна€ лЄтчица. ¬ 1933 году окончила ачинскую военную авиационную школу лЄтчиков - истребителей. Ћетала на самолЄтах - разведчиках. ќкончила военную академию. ¬ начале ¬еликой ќтечественной войны вместе с прославленной лЄтчицей √ероем —оветского —оюза ћ. ћ. –асковой участвовала в формировании женских авиационных полков. ¬ составе первого из них ( 587-го бомбардировочного авиаполка, имеющего на вооружЄнии пикирующие бомбардировщики ѕе-2 ) ушла на фронт. |

Ћазарева јнастаси€ јфанасьевнаавалер орденов —лавы 3-й степени и ќтечественной войны 2-й степени. ¬ годы ¬еликой ќтечественной войны - сержант, воздушный стрелок. ѕрошла боевой путь от защиты Ћенинграда и —талинграда, через освобождение Ћатвии, Ћитвы и ћолдавии, до Ѕерлина. ѕосле войны живЄт в городе »нта. |
ћетки: у войны женское лицо |
‘рау "„ерна€ смерть" (единственна€ женщина-командир взвода морской пехоты в годы ¬ќ¬) |
Ёто цитата сообщени€ Sergey1958 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ полной мере боевые качества морской пехоты про€вились зимой 1941/42Цго, когда 4 отдельные морские стрелковые бригады “ихоокеанского флота погасили германский У“айфунФ у стен ћосквы. »менно здесь гитлеровцы прозвали морпехов ЂSchwarze todї (Ђ„ерна€ смертьї) Ч за черные бушлаты и бесстрашие.
ћетки: у войны женское лицо |
Ѕез заголовка |
ƒневник |
огда вы песни на земле поете
“ихонечко вам небо подпоет
ѕогибшие за –одину в полете
ћы вечно продолжаем наш полет.
 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный раснознамЄнный “аманский ордена —уворова 3-й степени полк. ≈динственный полностью женский полк (были еще два смешанных полка, остальные исключительно мужские), 4 эскадрильи, это 80 летчиц (23 получили √еро€ —оветского —оюза) и максимум 45 самолетов, совершали до 300 вылетов за ночь, сбрасыва€ кажда€ 200 кг авиабомб (60 тонн за ночь). —овершили 23 672 боевых вылета (это почти п€ть тыс€ч “ќЌЌ бомб). Ѕомбили в основном передовые, так что заснув немец рисковал не проснутьс€. “очность бо€ потр€сающа€, полет бесшумен, на радарах не виден. ѕотому и первоначально презрительно называемые немцами "рашен фанер" ”-2 (ѕо-2) очень быстро превратилс€ в дословном переводе в полк "ночных колдуний".
46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный раснознамЄнный “аманский ордена —уворова 3-й степени полк. ≈динственный полностью женский полк (были еще два смешанных полка, остальные исключительно мужские), 4 эскадрильи, это 80 летчиц (23 получили √еро€ —оветского —оюза) и максимум 45 самолетов, совершали до 300 вылетов за ночь, сбрасыва€ кажда€ 200 кг авиабомб (60 тонн за ночь). —овершили 23 672 боевых вылета (это почти п€ть тыс€ч “ќЌЌ бомб). Ѕомбили в основном передовые, так что заснув немец рисковал не проснутьс€. “очность бо€ потр€сающа€, полет бесшумен, на радарах не виден. ѕотому и первоначально презрительно называемые немцами "рашен фанер" ”-2 (ѕо-2) очень быстро превратилс€ в дословном переводе в полк "ночных колдуний".
ќднажды мы были на “ереке. “ам очень долго сто€ла наша лини€ обороны, и одна летчица (мы не знаем кто, хоть и догадываемс€) снизилась над “ереком и закричала нашим бойцам: « акого черта вы сидите и не наступаете?! ћы летаем, бомбим вам здесь, а вы сидите на месте!» ј сверху, когда убираешь газ, очень все слышно. » утром этот батальон подн€лс€ и пошел в бой. ћы об этом ничего не знали, но потом пришло письмо от командующего пехотой: «Ќайдите женщину, котора€ сверху кричала» — хотел благодарность ей объ€вить. »з воспоминаний »рины –акобольской
¬о врем€ войны »рина –акобольска€ входила в состав 46–й гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, в котором летали исключительно женщины. ќни летали на дерев€нных бипланах ”–2, созданных в 1928 году дл€ обучени€ лЄтчиков, и бомбили немцев ночью, беззвучно, пар€ над ними с выключенным двигателем. ћаломощный двигатель позвол€л развивать скорость всего в 120 км/ч, а прицелы дл€ бомбометани€ лЄтчицы делали сами, они назывались ѕѕ– — «ѕроще пареной репы». «акалЄнные в бо€х фашисты бо€лись их как огн€, и звали «Ќочными ведьмами». »з чуть более 200 человек лЄтного состава полка к сегодн€шнему дню живы только п€ть, и »рина ¬€чеславовна — одна из них.
ѕосле войны она стала профессором, заведующим кафедры космических лучей и физики космоса физического факультета ћ√”, участвовала в работе над советской €дерной программой и воспитала двух сыновей, каждый из которых также стал профессором.
—ам ”-2 создавалс€ как учебно-тренировочный, был предельно прост и дешев и устарел уже к началу войны. ’от€ производилс€ до смерти —талина и наклепали их 33 тыс€чи (один из самых массовых самолетов мира). ƒл€ боевых действий его срочно дооборудовали приборами, фарами, подвеской дл€ бомб. „асто усиливали раму и ... Ќо это длинна€ истори€ и о полувековой жизни машины и еЄ создател€ ѕоликарпова. »менно в его честь после смерти от рака в 1944 году самолет переименован в ѕо-2. Ќо вернЄмс€ к нашим дамам.
ѕрежде всего развеем миф о потер€х. Ћетали они настолько эффективно (у немцев практически никто не летал по ночам), что за всю войну в вылетах погибло 32 девушки. ѕо-2 не давали поко€ немцам. ¬ любую погоду они по€вл€лись над передовой и на малых высотах бомбили их. ƒевушкам приходилось делать по 8-9 вылетов за ночь. Ќо бывали такие ночи, когда получали задание: бомбить «по максимуму». Ёто означало, что вылетов должно быть столько, сколько возможно. » тогда их число доходило до 16-18 за одну ночь, как это было на ќдере. Ћетчиц буквально вынимали из кабин и несли на руках, - сто€ть на ногах они не могли.
¬споминает ўербинина “ан€  ћастер по вооружению
ћастер по вооружению
Ѕомбы-то т€желенными были. — ними и мужчине справитьс€ нелегко. ћолоденькие фронтовички, тужась, плача и сме€сь, крепили их к крылу самолета. Ќо прежде надо было еще сообразить, сколько понадобитс€ ночью снар€дов (как правило, брали 24 штуки), прин€ть их, достать из €щика и расконтрить, протереть от смазки взрыватели, вкрутить их в адскую машину.
“ехник кричит: "ƒевчонки! ѕо живой силе!" «начит, надо осколочные бомбы навешивать, самые легкие, по 25 килограммов. ј если лет€т бомбить, например, железную дорогу, то к крылу крепили 100- килограммовые бомбы. ¬ этом случае работали вдвоем. “олько до уровн€ плеч поднимут, напарница ќльга ≈рохина что-нибудь скажет смешное, обе прыснут - и урон€т адскую машину на землю. ѕлакать надо, а они хохочут! —нова берутс€ за т€желенную "чушку": "ћам, помоги мне!"
—лучались счастливые ночи, когда в отсутствие штурмана летчица приглашала: "«абирайс€ в кабину, полетим!" ”сталость как рукой снимало. ¬ воздухе разбирал дикий хохот. ћожет, это было компенсацией за слезы на земле?

ќсобенно т€жело было зимой. Ѕомбы, снар€ды, пулеметы -металлические. –азве возможно, например, зар€дить пулемет в рукавицах? –уки отмерзают, отнимаютс€. ј ручки-то девичьи, маленькие, порой кожа оставалась на заиндевевшем металле.
 омиссар полка ≈. –ачкевич, командиры эскадрилий ≈.Ќикулина и —.јмосова, комиссары эскадрилий . арпунина и ».ƒр€гина, командир полка ≈.Ѕершанска€
омиссар полка ≈. –ачкевич, командиры эскадрилий ≈.Ќикулина и —.јмосова, комиссары эскадрилий . арпунина и ».ƒр€гина, командир полка ≈.Ѕершанска€
ƒокучали переезды. “олько ниши, блиндажи с накатами девчонки сооруд€т, замаскируют, укроют ветками самолеты, а к вечеру командир полка в рупор кричит: "ƒевочки, готовьте самолеты к передислокации". ѕолетали несколько дней, и снова переезд. Ћетом было полегче: в каком-нибудь леске делали шалаши, а то и просто спали на земле, завернувшись в брезент, а зимой приходилось кайлить промерзшую почву, освобождать от снега взлетную полосу.
√лавное же неудобство - невозможность привести себ€ в пор€док, отмытьс€, постирать. ѕраздником считались дни, когда в расположение части прибывала "вошебойка" - в ней прожаривали гимнастерки, белье, брюки. „аще же стирали вещи в бензине.
 ЋЄтный состав полка
ЋЄтный состав полка

Ќа взлЄт! ( адр из кинохроники)

Ёкипаж Ќ.”ль€ненко и ≈.Ќосаль получает боевое задание от командира полка Ѕершанской

Ўтурманы. —таница јссиновска€, 1942 год.

Ёкипаж “ани ћакаровой и ¬еры Ѕелик. ѕогибли в 1944 году в ѕольше.

Ќина ’уд€кова и Ћиза “имченко

ќльга ‘етисова и »рина ƒр€гина

«имой

Ќа полЄты. ¬есенн€€ распутица. убань, 1943 год.
ѕолк летал с "аэродрома подскока" - максимально близко расположенного к линии фронта. Ќа этот аэродром лЄтчицы добирались на грузовиках.

ЋЄтчица –а€ јронова у своего самолЄта

¬ооруженцы вставл€ют взрыватели в бомбы
самолЄту подвешивались 4 бомбы по 50 или 2 по 100 кг. «а сутки девушки подвешивали кажда€ по несколько тонн бомб, так как самолЄты вылетали с интервалом в п€ть минут...
30 апрел€ 1943 года полк стал √вардейским.

¬ручение √вардейского знамени полку. ƒва экипажа
ƒва экипажа

” колодца

¬се три кадра сн€ты в станице »вановской неподалЄку от √еленджика перед штурмом Ќовороссийска.
" огда началось наступление на Ќовороссийск, то в помощь наземным войскам и десанту морской пехоты направл€лась авиаци€, в том числе 8 экипажей из нашего полка.
...ћаршрут проходил над морем, или над горами и ущель€ми. аждый экипаж успевал за ночь сделать 6 -10 боевых вылетов. јэродром находилс€ близко от передовой, в зоне, достижимой дл€ корабельной артиллерии противника.
»з книги ».–акобольской, Ќ. равцовой "Ќас называли ночными ведьмами"

омандир эскадрильи 47-го Ўјѕ ¬¬— „‘ ћ.≈.≈фимов и зам. командира полка —.јмосова обсуждают задачу поддержки десанта

«ам.командира полка —.јмосова ставит задачу экипажам, выделенным дл€ поддержки
десанта в районе Ќовороссийска. —ент€брь 1943 г.
"Ќаступила последн€€ ночь перед штурмом Ќовороссийска, ночь с 15 на 16 сент€бр€. ѕолучив боевую задачу, летчики вырулили на старт.
...¬сю ночь самолЄты подавл€ли очаги сопротивлени€ противника, и уже на рассвете поступил приказ: разбомбить штаб фашистских войск, расположенный в центре Ќовороссийска у городской площади, и экипажи полетели вновь. Ўтаб был уничтожен."
»з книги ».–акобольской, Ќ. равцовой"Ќас называли ночными ведьмами"
"«а врем€ штурма Ќовороссийска группа јмосовой совершила 233 боевых вылета. омандование наградило летчиц, штурманов,техников и вооруженцев орденами и медал€ми.
»з книги ћ.„ечневой "Ќебо остаетс€ нашим"

Ќовороссийск вз€т! ѕл€шут ат€ –€бова и Ќина ƒанилова.
ƒевушки не только бомбили, но и осуществл€ли поддержку десантников на ћалой земле, снабжа€ их продовольствием и одеждой, почтой. ¬ то же врем€ немцы на √олубой линии €ростно сопротивл€лись, огонь был очень плотным. ¬ одном из вылетов в небе на глазах подруг сгорели четыре экипажа...
"...¬ этот момент впереди зажглись прожекторы и сразу поймали самолЄт, летевший перед нами. ¬ перекрестье лучей ѕо-2 был похож на серебристого мотылька, запутавшегос€ в паутине.
...» снова побежали голубые огоньки - пр€мо в перекрестье. ѕлам€ охватило самолЄт, и он стал падать, оставл€€ за собой извилистую полоску дыма.
ќтвалилось гор€щее крыло, и вскоре ѕо-2 упал на землю, взорвавшись...
...¬ эту ночь сгорели над целью четыре наших ѕо-2. ¬осемь девушек..."
».–акобольска€, Ќ. равцова "Ќас называли ночными ведьмами"

"11 апрел€ 1944 года войска ќтдельной ѕриморской армии, прорвав оборону противника в районе ерчи, рванулись на соединение с част€ми 4-го ”краинского фронта. Ќочью полк наносил массированные удары по отступавшим колоннам гитлеровцев. ћы произвели рекордное количество вылетов - 194 и сбросили на врага около 25 тыс€ч килограммов бомб.
Ќа другой день получили приказ перебазироватьс€ в рым."
ћ.ѕ.„ечнева "Ќебо остаетс€ нашим"

ѕанна ѕрокопьева и ∆ен€ –уднева
∆ен€ училась на мехмате ћ√”, занималась астрономией, была одной из самых способных студенток. ћечтала изучать звЄзды...
ќдна из малых планет в по€се астероидов носит название "≈вгени€ –уднева".
ѕосле освобождени€ рыма полк получает приказ перебазироватьс€ в Ѕелоруссию.

Ѕелорусси€, местечко близ √родно.
“.ћакарова, ¬.Ѕелик, ѕ.√ельман, ≈.–€бова, ≈.Ќикулина, Ќ.ѕопова

ѕольша. ѕолк построен дл€ вручени€ наград.
«десь € немного отступлю от истории, пам€ту€ о любител€х фотографии. Ёта фотографи€ - средн€€ часть снимка 9х12, обнаруженного мной в альбоме Ѕершанской. я отсканировала его с разрешением 1200. «атем распечатала на двух листах 20х30. ѕотом на двух листах 30х45. ј потом... - вы не поверите! ƒл€ музе€ полка было сделано фото длиной 2 метра! » все лица читались! ¬от это была оптика!!!
‘рагмент дальнего конца фотографии

¬озвращаюсь к рассказу.
ѕолк с бо€ми двигалс€ на запад. ѕолЄты продолжались...

ѕольша. Ќа полЄты.

«има 1944-45 года. Ќ.ћеклин, –.јронова, ≈.–€бова.
стати, если кто помнит фильм "¬ небе ночные ведьмы" - то поставила его Ќаталь€ ћеклин (по мужу равцова). ќна также написала несколько книг. »нтересную книгу о поездке в 60-х по местам боЄв написала и –аиса јронова. Ќу, а треть€ здесь - мо€ мама, ≈катерина –€бова.

√ермани€, район Ўтеттина. «ам. командира полка ≈.Ќикулина ставит задачу экипажам.
ј экипажи уже а парадных плать€х, сшитых на заказ. ‘ото, конечно постановочное. Ќо полЄты-то были ещЄ насто€щие...
ƒва фото из альбома командира полка ≈вдокии Ѕершанской.

омандиры получают боевое задание 20 апрел€ 1945 года.

Ѕерлин вз€т!

Ѕоева€ работа закончена.

ѕолк готовитс€ к перелЄту в ћоскву дл€ участи€ в ѕараде ѕобеды.
сожалению, перкалевые самолЄтики на парад не пустили... Ќо признали, что они достойны пам€тника из чистого золота!..

≈вдоки€ Ѕершанска€ и Ћариса –озанова

ћарина „ечнева и ≈катерина –€бова

–уфина √ашева и Ќаталь€ ћеклин

ѕрощание со знаменем полка. ѕолк расформирован, знам€ передаЄтс€ в музей.

 «наменита€ и легендарна€ еще до войны создательница полка и родоначальница самой идеи использовать ”-2 как ночной бомбардировщик. ћарина –аскова, 1941 год
«наменита€ и легендарна€ еще до войны создательница полка и родоначальница самой идеи использовать ”-2 как ночной бомбардировщик. ћарина –аскова, 1941 год

ћаршал .ј.¬ершинин вручает полку орден расного «намени за бои по освобождению ‘еодосии.
ћы вальс и метели безмолвные
ћы ветер и крик журавлей..
ѕогибшие в небе за –одину
—танов€тс€ небом над ней.
 ѕам€тник в ѕересыпе
ѕам€тник в ѕересыпе
“е, кто не вернулись с войны - вспомним их:

ћакарова “ан€ и Ѕелик ¬ера сгорели в ѕольше 29 августа 1944 г.

ћалахова јнна
¬иноградова ћаша

“ормосина Ћили€

омогорцева Ќад€, еще до боЄв, Ёнгельс, 9 марта 1942 г.

ќльховска€ Ћюба
“арасова ¬ера
ƒонбасс, сбиты в июне 1942 г.

≈фимова “он€
умерла от болезни, декабрь 1942 г.

умерла от болезни весной 1943 г.

ћакагон ѕолина

—вистунова Ћида
разбились при посадке 1 апрел€ 1943 г., ѕашковска€

ѕашкова ёл€
умерла 4 апрел€ 1943 г. после аварии в ѕашковской
Ќосаль ƒус€
убита в самолете 23 апрел€ 1943 г.

¬ысоцка€ јн€

ƒокутович √ал€

–огова —он€

—ухорукова ∆ен€

ѕолунина ¬ал€

аширина »рина

рутова ∆ен€

—аликова Ћена
сгорели над «√олубой линией» 1 августа 1943 г.

Ѕелкина ѕаша

‘ролова “амара
сбиты в 1943 г., убань
ћасленникова Ћюда (фотографии нет)
погибла при бомбежке, 1943 г.

¬олодина “аиси€

Ѕондарева јн€
потер€ли ориентировку, “амань, март 1944 г.

ѕрокофьева ѕанна

–уднева ∆ен€
сгорели над ерчью 9 апрел€ 1944 г.
¬аракина Ћюба (фотографии нет)
погибла на аэродроме в другом полку в 1944 г.

—анфирова Ћел€
подорвалась на мине после прыжка с гор€щего самолета 13 декабр€ 1944 г., ѕольша
олокольникова јн€ ( фотографии нет)
разбилась на мотоцикле, 1945 г., √ермани€.
http://www.stena.ee/external?url=http://mikle1.livejournal.com/1756783.html
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины - герои ¬еликой ќтечественной войны(1941Ч1945) |
ƒневник |
Ќе скоро кончитс€ война,
Ќе скоро смолкнет гром зениток.
Ќад переправой тишина
» небо тучами закрыто.
«овЄт мотор – лети скорей,
—пеши, вреза€сь в темень ночи.
ќгонь немецких батарей
–азмерен и предельно точен.
≈щЄ минута – и тогда
¬зорвЄтс€ тьма
слеп€щим светом.
Ќо, может быть, спуст€ года,
¬о сне увижу € всЄ это.
¬ойну и ночь, и свой полЄт,
¬низу пожаров свет кровавый
» одинокий самолЄт
—реди огн€ над переправой…
ћеклин- равцова Ќатали€ ‘Єдоровна (1922-2005)
√ерой —оветского —оюза(1945), гв. майор.
–одилась 08.09.1922г. в г.Ћубны ѕолтавской обл. ”краины. ѕозднее семь€ переехала в г. иев, там Ќаталь€ ћеклин окончила среднюю школу и аэроклуб. ¬ 1940г. переехала в ћоскву-поступила в ћосковский авиационный институт.

¬ армии-с окт€бр€ 1941г. ќкончила курсы штурманов при Ёнгельской јЎѕ и курсы усовершенствовани€ лЄтчиков.
Ќа фронтах ¬ќ¬ с ма€ 1942г. Ўтурман, штурман звена, летчик, старший летчик 46 гв.ЌЅјѕ гв. ст. лейтенант ћеклин за годы ¬ќ¬ совершила 982 боевых вылета на бомбардировку живой силы и техники врага.

Ќаталь€ ћеклин была бессменным знаменосцем полка, автором полкового марша и членом полковой редколлегии.

”казом ѕрезидиума ¬ерховного —овета от 23.02.1945г. гв.старшему лейтенанту ћеклин было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза.

ѕосле окончани€ ¬ќ¬, Ќаталь€ ћеклин поступила в ¬оенный »нститут »ностранных языков, который окончила в 1953г. ¬ период учЄбы вышла замуж и вз€ла фамилию мужа- равцова.

¬ 1957г. вышла в отставку в звании гв. майора. „лен —оюза писателей(1972). јвтор книг: «Ќа гор€щем самолете»(1968), «ќт заката до рассвета»(1974), «»з-за парты-на войну»(1976), «¬ернись из полЄта»(1979), ««а облаками-солнце»(1982). «а сборник «¬ернись из полЄта» награждена медалью им.‘адеева. ѕочЄтный гражданин г.√даньск (ѕольша).

∆ила в ћоскве. ”мерла 5 июн€ 2005г. ѕохоронена на “роекуровском кладбище.
Ќаграждена орденом Ћенина, 3м€ орденами расного «намени, орденами ќтечественной войны 1й и 2й ст., орденом расной «везды, медал€ми.
ћой самолет уже рокочет,
Ќа цель привычно курс берет
» под покровом темной ночи
Ћетит, невидимый, вперед.
Ћетит - готов любой ценою
ѕрорвать завесу черной мглы,
—пешит туда, где перед боем
«енитки подн€ли стволы.
(Ќ.‘. ћеклин- равцова)
—мирнова ћари€ ¬асильевна (1920-2002)
√ерой —оветского —оюза(1944), гв. майор.
–одилась 31.03.1920г. в дер.¬оробьЄво Ћихославльского р-на “верской обл. ќкончила Ћихославльское педагогическое училище (1936г.) и алининский аэроклуб. –аботала учителем младших классов и инструктором в аэроклубе.
¬ армии-с окт€бр€ 1941г. ќкончила курсы усовершенствовани€ лЄтчиков при Ёнгельской јЎѕ.
Ќа фронтах ¬ќ¬ с ма€ 1942г. Ћетчик, командир эскадрильи 46 гв.ЌЅјѕ гв. капитан —мирнова за годы ¬ќ¬ совершила 950 боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники врага.


«а про€вленное мужество и отличное выполнение заданий командовани€, ”казом ѕрезидиума ¬ерховного —овета от 26.10.1944 г. гв. капитану ћарии ¬асильевне —мирновой присвоено звание √еро€ —оветского —оюза.

ѕосле окончани€ ¬ќ¬ гв. майор —мирнова-в отставке. ¬ 1954г. она окончила “амбовскую областную партийную школу. ћного лет работала в партийных органах, избиралась в органы местной власти, занималась общественной работой.

∆ила в г.“верь. ”мерла 10 июл€ 2002г. ѕохоронена на ƒмитрово-„еркасском кладбище.

Ќаграждена орденом Ћенина, орденом јлександра Ќевского, 3м€ орденами расного «намени, орденом ќтечественной ¬ойны 1ст., орденом расной «везды, медал€ми.
"‘риц обезумел от страдань€,
ќн ходит нынче сам не свой:
ќдно небесное создание
≈го нарушило покой —
Ћишает ‘рица сна ночного
Ќеуловима€ —мирнова.
Ќастанет ночь — летит оп€ть
» не дает фашистам спать,
ѕоднимет их, задаст им встр€ску,
–азбудит фрицев, а тогда
—воей увесистой фугаской
”снуть заставит навсегда."
(»з армейской газеты)

ѕавличенко Ћюдмила ћихайловна (1916-1974)
√ерой —оветского —оюза(1943), майор.
–одилась 29 июн€ (12 июл€) 1916 года в посЄлке Ѕела€ ÷ерковь, ныне город иевской области ”краины, в семье служащего. –усска€. ќкончила 4 курса иевского государственного университета.
”частница ¬еликой ќтечественной войны с июн€ 1941 - доброволец. „лен ¬ ѕ(б)/ ѕ—— с 1945 года ¬ составе „апаевской дивизии участвовала в оборонительных бо€х в ћолдавии и на юге ”краины. «а хорошую подготовку еЄ направили в снайперский взвод. — 10 августа 1941 года в составе дивизии участвовала в обороне ќдессы. ¬ середине окт€бр€ 1941 года войска ѕриморской армии вынуждены были оставить ќдессу и эвакуироватьс€ в рым дл€ усилени€ обороны города —евастопол€ - военно-морской базы „ерноморского флота.


250 дней и ночей Ћюдмила ѕавличенко провела в т€жЄлых и героических бо€х под —евастополем. ќна вместе с воинами ѕриморской армии и мор€ками „ерноморского флота мужественно защищала город русской воинской славы.

июлю 1942 года из снайперской винтовки Ћюдмила ѕавличенко уничтожила 309 гитлеровцев. ќна была не только отличным снайпером, но и прекрасным педагогом. «а период оборонительных боЄв она воспитала дес€тки хороших снайперов, которые, следу€ еЄ примеру, истребили не одну сотню гитлеровцев.

«вание √еро€ —оветского —оюза с вручением ордена Ћенина и медали "«олота€ «везда" (є 1218) лейтенанту ѕавличенко Ћюдмиле ћихайловне присвоено ”казом ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– от 25 окт€бр€ 1943 года.


¬ 1943 году майор береговой службы ѕавличенко Ћ.ћ. окончила курсы "¬ыстрел".

ѕосле войны, в 1945 году окончила иевский государственный университет. ¬ 1945-1953 годах была научным сотрудником √лавного штаба ¬ћ‘. ”частница многих международных конгрессов и конференций, вела большую работу в —оветском комитете ветеранов войны.

—кончалась 27 окт€бр€ 1974 года. ѕохоронена в колумбарии Ќоводевичьего кладбища в ћоскве.
Ќаграждена двум€ орденами Ћенина, медал€ми.
«ћисс ѕавличенко»
(перевод с английского песни ¬уди √атри)
ћисс ѕавличенко, ее слава известна,
–осси€ тво€ страна, сражение – тво€ игра.
÷елый мир полюбит ее на долгие времена
«а то, что более чем три сотни нацистов пали от ее оружи€.
ћисс ѕавличенко, ее слава известна,
–осси€ тво€ страна, сражение – тво€ игра,
“во€ улыбка си€ет, как утреннее солнце,
Ќо более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружи€.
¬ горах и ущель€х притаилась, как олень,
¬ кронах деревьев, не веда€ страха,
“ы поднимаешь прицел, и падает √анс,
» более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружи€.
¬ летнюю жару, холодной снежной зимой,
¬ любую погоду ты выслеживаешь врага,
ћир полюбит твое милое лицо, так же, как и €.
¬едь более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружи€.
Ќе хотел бы € приземлитьс€ с парашютом в вашей стране, как враг.
≈сли ваш —оветский народ так сурово поступает с захватчиками,
Ќе желал бы € найти свой конец, пав от руки такой красивой девушки,
≈сли ее им€ – ѕавличенко, а мое три-ноль-дев€ть…


—танилиене (ћаркаускене) ƒануте ёргио (1922 - 1994)
ѕолный кавалер ордена —лавы(1945), старшина.
–одилась 20.4.1922г. в д.ѕелуцмургай ћариампольского уезда (Ћитва) в семье кресть€нина. Ћитовка. „лен ѕ—— с 1944г. ќкончила 4 класса. ¬ начале войны была эвакуирована в ярославскую область. –аботала в колхозе. ¬ расной јрмии с 1942г.
Ќа фронте в ¬еликую ќтечественную войну с декабр€ 1942г.

ѕулеметчик 167-го стрелкового полка (16-€ стрелкова€ дивизи€, 4-€ ударна€ арми€, 1-й ѕрибалтийский фронт) р€дова€ —танилиене (ћаркаускене) 16.12.1943г. в бою за д.–одные (10 км. северо-западнее населенного пункта √ородок ¬итебской обл., Ѕелорусси€) заменила выбывшего из стро€ командиpa пулеметного отделени€. огда вышли из стро€ бойцы отделени€, —танилиене (ћаркаускене), оставшись одна у пулемета, поддерживала огнем наступающую пехоту.
3.01.1944г. награждена орденом —лавы 3 степени.
Ќаводчик станкового пулемета сержант —танилиене (ћаркаускене) 1-10.7.1944г. в бо€х в районе д.”зница и Ћютовка (15-16 км. севернее и северо-западнее г.ѕолоцк, Ѕелорусси€) метким огнем отразила свыше 10 контратак и уничтожила до 40 солдат противника.
26.8.1944г. награждена орденом —лавы 2 степени.
Ќаводчик станкового пулемета сержант —танилиене (ћаркаускене) 8.10.1944г. в бою за населенный пункт Ѕайнуты (Ћитва) уничтожила вражеского снайпера, 3 автоматчиков, пленила 1 пехотинца.
24.3.1945г. награждена орденом —лавы 1 степени.

—танилиене ƒануте ёргио стала полным кавалером ордена —лавы и первой из женщин — воинов расной јрмии, удостоенной орденов —лавы всех трЄх степеней.
‘отографи€ ƒануте ёргио —танилиене (ћаркаускене).
¬ 1945г. демобилизована. ∆ила в г. ¬ильнюс.
‘отографи€ ƒануте ёргио —танилиене (ћаркаускене).
–аботала референтом в —овете ћинистров Ћитовской ——–, в ѕрезидиуме ¬ерховного —овета, затем штамповщицей на заводе пластмассовых изделий.

‘отографи€ ƒануте ёргио —танилиене (ћаркаускене).
—кончалась 8 августа 1994 года. ѕохоронена в ¬ильнюсе на кладбище —алтонишкес.
Ќаграждена орденом ќкт€брьской –еволюции, ќтечественной войны 1 степени, “рудового расного «намени, медал€ми.
"...«а них, родных,
∆еланных, любимых таких.
—трочит пулеметчик
«а синий платочек,
„то был на плечах дорогих!"
(»з песни «—иний платочек»)

ћаншук ћаметова - родилась 23 окт€бр€ 1922 в ауле ∆аскус, ”рдинском районе ”ральской области азахской ——–.

ѕулемЄтчица 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии алининского фронта, гвардии старший сержант. ѕерва€ казахска€ женщина, которой было присвоено звание √ерой —оветского —оюза.
ƒо войны окончила рабфак, два курса медицинского института. –аботала в аппарате —овнаркома азахской ——–, секретарЄм заместител€ ѕредседател€ —овнаркома.
¬ расной јрмии с 1942 года, писарь штаба 100-й азахской отдельной стрелковой бригады, затем медсестра. Ќа фронте окончила курсы пулемЄтчиков и была назначена первым номером пулемЄтного расчЄта в строевую часть.
15 окт€бр€ 1943 года в т€жЄлых бо€х за освобождение г. Ќевел€ при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемЄтного расчЄта, будучи т€жело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.
ѕохоронена в Ќевеле.
¬ ”ральске установлен пам€тник.
јли€ ћолдагулова.

–одилась 25 окт€бр€ 1925 года в ауле Ѕулак ’обдинского района јктюбинской области. ≈щЄ ребЄнком потер€ла родителей.
¬ мае 1943 года в ћоскве была создана ÷ентральна€ женска€ школа снайперской подготовки. јлию ћолдагулову определили в первый набор. 23 феврал€ 1943 года девушки-курсантки прин€ли воинскую прис€гу. ¬ июле 1943 года јли€ вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду (22-€ арми€, 2-й ѕрибалтийский фронт).

Ќа еЄ официальном счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. Ѕыла смертельно ранена и погибла в бою 14 €нвар€ 1944 года севернее города Ќовосокольники; будучи раненной в руку осколком мины, участвовала в рукопашном бою с немецкими солдатами, была вторично ранена немецким офицером, которого также уничтожила, втора€ рана оказалась смертельной.
ѕохоронена в деревне ћонаково Ќовосокольнического района.

ѕам€тник јлие ћолдагуловой на улице еЄ имени в ћоскве.
Ѕлинова лавди€ ћихайловна

лавди€ ћихайловна Ѕлинова — одна из многих советских женщин, добровольно взваливших на свои плечи все т€готы армейской жизни в годы ¬еликой ќтечественной войны.
—вою боевую де€тельность она начала в составе 586-го женского истребительного авиационного полка, защищала небо —аратова. — осени 1942 года сражалась в составе 434-го истребительного авиаполка под командованием √еро€ —оветского —оюза »вана »вановича лещЄва.
¬споминает один из пилотов этого полка, √ерой —оветского —оюза јндрей яковлевич Ѕаклан:
«¬ конце августа из района —талинграда, где полк понЄс большие потери в ожесточЄнных бо€х, нам пришлось поехать в —аратов за получением новых самолЄтов як-7Ѕ. Ћичным же составом полк доукомплектовывалс€ в ѕодмосковье, на одном из аэродромов. Ќа пополнение к нам прибывали по большей части не новички, а лЄтчики, имевшие уже солидный боевой опыт. ѕри всЄм том в один прекрасный день нам довелось стать свидетел€ми картины необычайной. ѕо направлению к штабной земл€нке деловито вышагивали… девушки, одетые в военную форму!
¬переди всех шла стройна€, белокура€, в лихо надвинутой на бровь пилотке командир звена лейтенант лава Ќечаева (разумеетс€, имена и фамилии девушек мы узнали позже). «а нею, на ходу поправл€€ движением плеч рюкзаки, с маленькими чемоданчиками в руках аккуратненько ступали по пыльной дорожке начищенными до зеркального гл€нца хромовыми сапожками лава Ѕлинова, ќл€ Ўахова и “он€ Ћебедева. »того, значит, 4 экипажа. «а ними шли девушки из их технического персонала.
ќказалось, что все они ранее служили в одной из тыловых частей ѕ¬ќ. ќтважных девушек такое положение не устраивало, даже казалось обидным. ќни написали рапорты с настойчивой просьбой отправить их на фронт, в действующий истребительный полк. ¬ рапортах они с гор€чностью доказывали, что нисколько не хуже лЄтчиков — мужчин и поэтому имеют такое же полное право бить врага. “ак в нашем 434-м полку по€вились лЄтчицы.

лавди€ Ѕлинова (треть€ справа) с боевыми товарищами.
«накомство началось по — деловому. омандир полка лично на «спарке» (двухместном самолЄте) поднималс€ поочерЄдно в воздух с каждой из лЄтчиц, чтобы досконально проверить их технику пилотировани€. » осталс€ доволен.
ак ни странно, присутствие в полку женщин не только не внесло дезорганизованности, чего очень бо€лс€ наш командир, но даже заметно подт€нуло реб€т, средний возраст которых не превышал 25 лет. —амым же старшим из нас, и по должности, и по возрасту был командир полка майор ».». лещЄв, которому исполнилось тогда 27 лет.
≈сли говорить откровенно, командование полка оберегало лЄтчиц. онечно, в той степени, в какой это возможно вообще на войне. —тарались не посылать их на €вно рискованные задани€. Ќу а сами девушки так и рвались навстречу опасност€м.
ак ни оберегали — всЄ же уберечь не смогли… Ёто случилось 17 сент€бр€ 1942 года под —талинградом. ¬о врем€ очередного боевого задани€, прикрыва€ самолЄт капитана ».». »збинского, погибла командир девичьего звена лейтенант лавди€ Ќечаева.
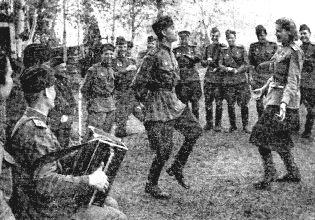
лавди€ Ѕлинова среди однополчан...
ƒевушки т€жело переживали гибель своего командира. Ќо на их боеспособности это трагическое событие не отразилось. ќни стали злее и собраннее в бою, презира€ опасность, отважно вв€зывались в смертельные схватки. ќт полЄта к полЄту, от бо€ к бою приходил опыт. Ќаши доблестные лЄтчицы закалились в сражени€х и выросли в насто€щих асов. »х успехами мы гордились гораздо больше, чем своими собственными».
¬ начале окт€бр€ 1942 года двух оставшихс€ в том звене лЄтчиц лавдию Ѕлинову и “оню Ћебедеву неожиданно вызвали в ћоскву. ќказалось, заботу о девчатах про€вил начальник инспекции ¬¬— ¬асилий —талин. ќн предложил им пройти подготовку по особой программе — выполнить около 100 учебных воздушных боЄв. ј уж потом — снова на фронт…
¬ойна, однако, вносила свои коррективы. ¬ один из лЄтных дней на аэродром, где проходили тренировочные полЄты, приехал командующий ¬¬— генерал ј. Ќовиков и распор€дилс€ перевести Ѕлинову и Ћебедеву в женский полк.
¬ те же самые дни на алининский фронт перелетал 65-й √вардейский истребительный авиаполк. ѕо штатному расписанию там не хватало двух лЄтчиков, так что девчата оп€ть оказались при серьЄзном зан€тии — плетении огненных кружев.
¬еликолукское направление… ѕотом бои на подступах к ќрлу. ќдновременно с 32-м √вардейским продвигалс€ на запад и 65-й √вардейский истребительный авиаполк.
4 августа 1943 года восьмЄрка як-1 из состава 65-го √в»јѕ под командованием командира эскадрильи √вардии капитана ј. ». —амохвалова сопровождала штурмовиков, наносивших удар по отступающим войскам противника в районе ќрЄл — Ќарышкино. √руппа, встретив 14 FW-190, разделилась. «вено √вардии старшего лейтенанта Ќ. ». овенцова св€зало боем «‘оккеры», а звено ј. ». —амохвалова осталось прикрывать штурмовики.
¬ зав€завшемс€ воздушном бою, звено овенцова старалось отт€нуть врага подальше от группы «»лов» и создать им услови€ дл€ успешного выполнени€ боевой задачи. ѕротивник, облада€ численным превосходством, расколол звено и нашим лЄтчикам пришлось вести бой парами.
 ¬ ожесточЄнной схватке √вардии лейтенант ».‘. —ычЄв сбил один FW-190, но силы были слишком неравны. ѕротивник поджЄг сначала самолЄт √вардии старшего лейтенанта Ќ.». овенцова, затем были сбиты √вардии младшие лейтенанты ”. ”. ƒоев и .ћ. Ѕлинова.
¬ ожесточЄнной схватке √вардии лейтенант ».‘. —ычЄв сбил один FW-190, но силы были слишком неравны. ѕротивник поджЄг сначала самолЄт √вардии старшего лейтенанта Ќ.». овенцова, затем были сбиты √вардии младшие лейтенанты ”. ”. ƒоев и .ћ. Ѕлинова.
сожалению, дот€нуть до линии фронта лавди€ Ѕлинова не смогла. ќна оказалась в плену. ѕолева€ жандармери€, допросы, побои… ѕотом дорога в лагерь дл€ военнопленных…
«”тром всех нас выстроили на площадке, — вспоминала лавди€ ћихайловна, — и зачитали приказ коменданта лагер€: ««а попытку к побегу — расстрел!» «десь мы узнали, что в ночь на 8 августа из лагер€ убежало около 1000 человек! ѕрошло ещЄ два дн€. 10 августа немцы составили эшелон дл€ отправки пленных на запад. 26 лЄтчиков погрузили отдельно — в один товарный вагон. ќхранники — власовцы расположились в тамбуре, так что мы могли свободно переговариватьс€. ј разговоры наши и думы были только об одном — как бежать…»
ƒа, ни эти 26 лЄтчиков, ни та 1000, которой удалось прорвать колючую проволоку и под огнЄм охраны сбежать из лагер€, ещЄ не знали, что теперь навсегда за ними будет ходить этот подозрительный, с прищуром анкетный вопрос: «Ѕыл ли в плену?..»
„то анкета! ƒаже спуст€ полвека найдутс€ убеждЄнные сторонники генерала Ћ. ћехлиса, утверждавшего, что у нас нет и не может быть пленных — есть только предатели. ћногого ещЄ не знали воздушные стрелки —азонов, –ыбалко, лЄтчик-штурмовик ѕол€ков, корректировщик ћурашко и лЄтчица Ѕлинова, прореза€ в вагонной двери отверстие, чтобы освободить еЄ от запора. Ќаконец в полночь 11 августа дверь удалось открыть и, кто мог, на полном ходу поезда они начали выбрасыватьс€ в темноту. —обрались вп€тером, установили направление на восток и отправились в неизвестность. ” —азонова спина, иссечЄнна€ осколками, казалась сплошной раной. лавдии пришлось разорвать кофточку и перев€зать его. ћурашко ранили в грудь — между ребрами зи€ла жутка€ дыра. ¬се были ранены, но шли. Ѕолее двух недель шли лесами, болотами, пробивались к своим, мину€ населЄнные пункты, дороги.
… ажетс€ не было дл€ лавдии команды более волнующей и радостной, чем та — на одном дыхании: «—той! —трел€ть буду!..» » вот перва€ беседа в штабе какого-то полка 21-й јрмии. ѕервые вопросы, недоверчива€, подозрительна€ реакци€ на ответы — должно быть от прилежно усвоенных уроков классовой бдительности. «авертелась, заскрежетала машина, куда как безжалостней ломающа€ людей, чем те немецкие «Ёрликоны», ставшие причиной их бед.
ѕоначалу каждому из группы лавдии дали по листу бумаги и заставили писать объ€снительную записку. “олько потом накормили! «атем под охраной двух автоматчиков повели в штаб армии. Ќастроение у Ѕлиновой было чудесное: она пела, радовалась, что все выжили, перешли через линию фронта к своим. ѕовтор€ла, что не сегодн€ — завтра будет в полку и уж тогда — держитесь, фрицы!.. лавди€ ошиблась. ƒл€ тех, кто хоть на день побывал в плену, кому со смертельным риском удалось вырватьс€ из — за вражеской колючей проволоки, одной объ€снительной записки было совсем недостаточно.
ƒл€ Ѕлиновой и еЄ боевых друзей пот€нулись мучительные ночи пыток и допросов. Ќа спецпроверке они находились с 31 августа по 14 сент€бр€ 1943 года. «атем их ждал снова лагерь, только теперь уже свой, советский… ¬ одном из писем воздушный стрелок Ќиколай јлексеевич –ыбалко писал:
«Ќаша жизнь текла в лагере, который держал огромное количество боевой силы, способной брать любые преграды противника. лагерной жизни и работе мы привыкли. ƒни бежали. ¬ разговоре с людьми € узнал, что многие наход€тс€ здесь уже по году, что и нам так же загорать, как и им…»
Ќо вот в начале окт€бр€ за лавдией Ѕлиновой неожиданно прилетел св€зной самолЄт, и она простилась с товарищами по беде. ќказалось, «сработало» письмо, которое она ухитрилась отправить в родной полк. —пуст€ врем€ лавди€ узнает, что вызволить еЄ из лагер€ помог ¬асилий —талин.
ѕосле окончани€ войны, согласно воспоминани€м √еро€ —оветского —оюза јндре€ яковлевича Ѕаклана, лавди€ Ѕлинова вышла замуж за лЄтчика — истребител€ (бывшего штурмана 65-го √вардейского истребительного авиационного полка) √ригори€ ƒаниловича удленко, сбившего в годы войны около 10 вражеских самолЄтов. –аботала cтаршей стюардессой в иевском аэропорту.
ƒевушка — военный лЄтчик — истребитель
ќ том, что многие советские девушки и женщины наравне с мужчинами на боевых самолЄтах, бомбардировщиках и легкомоторных, успешно воевали, € знал, но тут в 1945 году к нам в Ўколу воздушного бо€, да не куда-нибудь, а в нашу эскадрилью, прибыл лЄтчик — истребитель лейтенант лава Ѕлинова. Ќу, братцы, услышав об этом, € невольно поскрЄб затылок. ЋЄтчиц ночных бомбардировщиков, как грозно именовались наши «кукурузники» ѕо-2, € встречал, не раз сопровождал и чисто женские экипажи на пикирующих бомбардировщиках ѕе-2. Ќо женщина-истребитель…
Ѕыть может, и не было у мен€ желани€ унизить эту девушку, вз€вшуюс€ за совсем уж не женское дело, но всЄ же что-то такое было. ѕо долгу службы € мог и об€зан был проверить еЄ технику пилотировани€ в зоне, как у всех вновь прибывающих лЄтчиков, с целью определить уровень подготовки, чтобы правильно сформировать пары и определить объЄм программы подготовки дл€ каждой пары. онечно, еЄ технику пилотировани€ мог проверить командир звена, но, признаюсь, мне очень захотелось самому слетать с ней и убедитьс€, что эта молода€ девушка действительно может пилотировать истребитель, € уж не говорю о фигурах высшего пилотажа.
лава Ѕлинова ничем особенно не выдел€лась, была скромна€ и молода€ девушка, и, не зна€ о том, что она лЄтчик — истребитель, никогда бы не подумал, что эта худенька€ блондинка, котора€ стоит в окружении многих лЄтчиков и оживлЄнно о чЄм-то беседует — лЄтчик, а не то что пилот истребител€!
ѕроверив еЄ лЄтную книжку и узнав, где, когда, сколько и на каких типах самолЄтов она летала, накануне полЄтов € ей сообщил, чтобы она готовилась лететь со мной на проверку. ѕеред вылетом, когда ей ставил задачу, определил количество и последовательность выполнени€ фигур высшего пилотажа, она сказала:

лавди€ Ѕлинова
- “оварищ капитан! я имею некоторый перерыв в полЄтах, если что-то не совсем чисто получитс€, вы мне покажете?
- ќб€зательно покажу, вы не смущайтесь, а выполн€йте задание так, как вы всегда выполн€ли, все неполадки устраним, затем вас сюда в школу и прислали, товарищ лейтенант, — ответил € ей, и мы сели в кабины, она в передней кабине, € в задней, как и положено.
я внимательно присматривалс€ ко всем еЄ действи€м, но ни во что не вмешивалс€, это была мо€ привычка ещЄ из ачинской школы. я допускал ошибки обучаемого лЄтчика до пределов, вмешивалс€ только тогда, когда дальнейшее невмешательство грозило опасностью. “ака€ методика оправдывала себ€, лЄтчик более уверенно и свободно себ€ чувствовал и мог показать все, на что он способен, без нервозности и переживаний за допущенные ошибки. «атем на земле и в воздухе эти ошибки устран€лись и повтор€лись всЄ меньше и меньше.
Ћейтенант Ѕлинова, получив разрешение, запустила мотор, проделала всЄ, что необходимо перед взлЄтом, и мы подн€лись в воздух. Ќа взлЄте мне пришлось чуть — чуть ей помочь, в элементах взлЄта и посадки с допусками в ошибках надо быть очень и очень осторожным, ведь другой раз именно из-за пуст€ковой ошибки можно иметь большие непри€тности. „то ещЄ можно сказать? ¬се сомнени€ о возможност€х лЄтчицы — истребител€ у мен€ были рассе€ны. Ёта обыкновенна€, проста€ девушка была истребителем, и она в самом деле выполн€ла фигуры высшего пилотажа, стойко перенос€ при этом возникшие перегрузки.
ѕризнаюсь, до сих пор € был убеждЄн в том, что насто€щим истребителем может быть только мужчина. ќказалось, что € ошибалс€, € сидел в самолЄте, который прекрасно пилотировала девушка — истребитель. онечно, она не могла пилотировать самолЄт так же грамотно, как это делали мы, учител€ лЄтного дела. Ќо всЄ же она правильно выполн€ла все комплексы фигур. ѕо радио € предложил ей повторить комплекс вместе, затем показал сам, как надо выполн€ть сложные фигуры. “ут € уже постаралс€ выполн€ть фигуры с ювелирной точностью. «десь заговорила чисто профессиональна€ гордость, да ещЄ перед девушкой. я выполн€л комплекс за комплексом, стара€сь избежать больших перегрузок, ведь незачем было показывать девушке своЄ «ухарство», выносливость и умение резко пилотировать. Ќезачем было заставл€ть еЄ переносить сильные перегрузки и получать непри€тные ощущени€. ћы, лЄтчики, мужчины, должны быть благодарны таким девушкам за то, что они решились на такую рискованную профессию да ещЄ и могли бить врага в воздухе.
¬ те суровые военные годы наши советские девушки, наход€сь в р€дах ¬¬—, оказали большую помощь в разгроме противника. Ћейтенант лавди€ Ѕлинова, лета€ на самолЄтах-истребител€х ———–, наравне с другими лЄтчиками успешно окончила Ўколу воздушного бо€. Ќо на фронт попасть ей не пришлось, так как вскоре она вышла в ћоскве замуж тоже за лЄтчика, а через некоторое врем€ закончилась и война.
(»з книги воспоминаний лЄтчика-истребител€ Ё. ”. „албаша — «—ковать боем»)
ћетки: у войны женское лицо |
»стории женщин, прошедших войну |
ƒневник |
значимому российскому празднику, дню ¬еликой ѕобеды, мы предлагаем ¬ам найти врем€ и прочитать рассказы женщин-героев, прошедших войну и воевавших наравне с мужчинами. —лава геро€м!

"≈хали много суток... ¬ышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. ќгл€нулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. ѕоют. ћашут нам - кто косынками, кто пилотками. —тало пон€тно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. »ли в плену. “еперь мы вместо них... ћама написала мне молитву. я положила ее в медальон. ћожет, и помогло - € вернулась домой. я перед боем медальон целовала..."
"ќдин раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела цела€ рота. рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышалс€ стон. ќсталс€ раненый. "Ќе ходи, убьют, - не пускали мен€ бойцы, - видишь, уже светает". Ќе послушалась, поползла. Ќашла раненого, тащила его восемь часов, прив€зав ремнем за руку. ѕриволокла живого. омандир узнал, объ€вил сгор€ча п€ть суток ареста за самовольную отлучку. ј заместитель командира полка отреагировал по-другому: "«аслуживает награды". ¬ дев€тнадцать лет у мен€ была медаль "«а отвагу". ¬ дев€тнадцать лет поседела. ¬ дев€тнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, втора€ пул€ прошла между двух позвонков. ѕарализовало ноги... » мен€ посчитали убитой... ¬ дев€тнадцать лет... ” мен€ внучка сейчас така€. —мотрю на нее - и не верю. ƒите!"

"” мен€ было ночное дежурство... «ашла в палату т€желораненых. Ћежит капитан... ¬рачи предупредили мен€ перед дежурством, что ночью он умрет... Ќе дот€нет до утра... —прашиваю его: "Ќу, как? „ем тебе помочь?" Ќикогда не забуду... ќн вдруг улыбнулс€, така€ светла€ улыбка на измученном лице: "–асстегни халат... ѕокажи мне свою грудь... я давно не видел жену..." ћне стало стыдно, € что-то там ему отвечала. ”шла и вернулась через час. ќн лежит мертвый. » та улыбка у него на лице..."
"» когда он по€вилс€ третий раз, это же одно мгновенье - то по€витс€, то скроетс€, - € решила стрел€ть. –ешилась, и вдруг така€ мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у мен€ как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. акой-то страх... о мне иногда во сне и сейчас возвращаетс€ это ощущение... ѕосле фанерных мишеней стрел€ть в живого человека было трудно. я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. ак будто он близко... » внутри у мен€ что-то противитс€... „то-то не дает, не могу решитьс€. Ќо € вз€ла себ€ в руки, нажала спусковой крючок... Ќе сразу у нас получилось. Ќе женское это дело - ненавидеть и убивать. Ќе наше... Ќадо было себ€ убеждать. ”говаривать..."

"» девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не пойдет. Ёто были смелые, необыкновенные девчонки. ≈сть статистика: потери среди медиков переднего кра€ занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. ¬ пехоте. „то такое, например, вытащить раненого с пол€ бо€? я вам сейчас расскажу... ћы подн€лись в атаку, а нас давай косить из пулемета. » батальона не стало. ¬се лежали. ќни не были все убиты, много раненых. Ќемцы бьют, огн€ не прекращают. —овсем неожиданно дл€ всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом втора€, треть€... ќни стали перев€зывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то врем€ онемели от изумлени€. часам дес€ти вечера все девчонки были т€жело ранены, а кажда€ спасла максимум два-три человека. Ќаграждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. ¬ытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. ѕервый вопрос в медсанбате: где оружие? ¬ начале войны его не хватало. ¬интовку, автомат, пулемет - это тоже надо было тащить. ¬ сорок первом был издан приказ номер двести восемьдес€т один о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за п€тнадцать т€желораненых, вынесенных с пол€ бо€ вместе с личным оружием - медаль "«а боевые заслуги", за спасение двадцати п€ти человек - орден расной «везды, за спасение сорока - орден расного «намени, за спасение восьмидес€ти - орден Ћенина. ј € вам описал, что значило спасти в бою хот€ бы одного... »з-под пуль..."

"„то в наших душах творилось, таких людей, какими мы были тогда, наверное, больше никогда не будет. Ќикогда! “аких наивных и таких искренних. — такой верой! огда знам€ получил наш командир полка и дал команду: "ѕолк, под знам€! Ќа колени!", все мы почувствовали себ€ счастливыми. —тоим и плачем, у каждой слезы на глазах. ¬ы сейчас не поверите, у мен€ от этого потр€сени€ весь мой организм напр€гс€, мо€ болезнь, а € заболела "куриной слепотой", это у мен€ от недоедани€, от нервного переутомлени€ случилось, так вот, мо€ курина€ слепота прошла. ѕонимаете, € на другой день была здорова, € выздоровела, вот через такое потр€сение всей души..."
"ћен€ ураганной волной отбросило к кирпичной стене. ѕотер€ла сознание... огда пришла в себ€, был уже вечер. ѕодн€ла голову, попробовала сжать пальцы - вроде двигаютс€, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вс€ в крови. ¬ коридоре встречаю нашу старшую сестру, она не узнала мен€, спросила: " то вы? ќткуда?" ѕодошла ближе, ахнула и говорит: "√де теб€ так долго носило, сен€? –аненые голодные, а теб€ нет". Ѕыстро перев€зали голову, левую руку выше локт€, и € пошла получать ужин. ¬ глазах темнело, пот лилс€ градом. —тала раздавать ужин, упала. ѕривели в сознание, и только слышитс€: "—корей! Ѕыстрей!" » оп€ть - "—корей! Ѕыстрей!" „ерез несколько дней у мен€ еще брали дл€ т€желораненых кровь".
"ћы же молоденькие совсем на фронт пошли. ƒевочки. я за войну даже подросла. ћама дома померила... я подросла на дес€ть сантиметров..."

"ќрганизовали курсы медсестер, и отец отвел нас с сестрой туда. ћне - п€тнадцать лет, а сестре - четырнадцать. ќн говорил: "Ёто все, что € могу отдать дл€ победы. ћоих девочек..." ƒругой мысли тогда не было. „ерез год € попала на фронт..."
"” нашей матери не было сыновей... ј когда —талинград был осажден, добровольно пошли на фронт. ¬се вместе. ¬с€ семь€: мама и п€ть дочерей, а отец к этому времени уже воевал..."
"ћен€ мобилизовали, € была врач. я уехала с чувством долга. ј мой папа был счастлив, что дочь на фронте. «ащищает –одину. ѕапа шел в военкомат рано утром. ќн шел получать мой аттестат и шел рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте..."
"ѕомню, отпустили мен€ в увольнение. ѕрежде чем пойти к тете, € зашла в магазин. ƒо войны страшно любила конфеты. √оворю:
- ƒайте мне конфет.
ѕродавщица смотрит на мен€, как на сумасшедшую. я не понимала: что такое - карточки, что такое - блокада? ¬се люди в очереди повернулись ко мне, а у мен€ винтовка больше, чем €. огда нам их выдали, € посмотрела и думаю: " огда € дорасту до этой винтовки?" » все вдруг стали просить, вс€ очередь:
- ƒайте ей конфет. ¬ырежьте у нас талоны.
» мне дали".

"» у мен€ впервые в жизни случилось... Ќаше... ∆енское... ”видела € у себ€ кровь, как заору:
- ћен€ ранило...
¬ разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. ќн ко мне:
- уда ранило?
- Ќе знаю куда... Ќо кровь...
ћне он, как отец, все рассказал... я ходила в разведку после войны лет п€тнадцать. аждую ночь. » сны такие: то у мен€ автомат отказал, то нас окружили. ѕросыпаешьс€ - зубы скрип€т. ¬споминаешь - где ты? “ам или здесь?"
"”езжала € на фронт материалисткой. јтеисткой. ’орошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. ј там... “ам € стала молитьс€... я всегда молилась перед боем, читала свои молитвы. —лова простые... ћои слова... —мысл один, чтобы € вернулась к маме и папе. Ќасто€щих молитв € не знала, и не читала Ѕиблию. Ќикто не видел, как € молилась. я - тайно. ”крадкой молилась. ќсторожно. ѕотому что... ћы были тогда другие, тогда жили другие люди. ¬ы - понимаете?"

"‘ормы на нас нельз€ было напастись: всегда в крови. ћой первый раненый - старший лейтенант Ѕелов, мой последний раненый - —ергей ѕетрович “рофимов, сержант минометного взвода. ¬ семидес€том году он приезжал ко мне в гости, и дочер€м € показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. ¬сего из-под огн€ € вынесла четыреста восемьдес€т одного раненого. то-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон... “аскали на себе мужчин, в два-три раза т€желее нас. ј раненые они еще т€желее. ≈го самого тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. ¬звалишь на себ€ восемьдес€т килограммов и тащишь. —бросишь... »дешь за следующим, и оп€ть семьдес€т-восемьдес€т килограммов... » так раз п€ть-шесть за одну атаку. ј в тебе самой сорок восемь килограммов - балетный вес. —ейчас уже не веритс€..."
"я потом стала командиром отделени€. ¬се отделение из молодых мальчишек. ћы целый день на катере. атер небольшой, там нет никаких гальюнов. –еб€там по необходимости можно через борт, и все. Ќу, а как мне? ѕару раз € до того дотерпелась, что прыгнула пр€мо за борт и плаваю. ќни кричат: "—таршина за бортом!" ¬ытащат. ¬от така€ элементарна€ мелочь... Ќо кака€ это мелочь? я потом лечилась...
"¬ернулась с войны седа€. ƒвадцать один год, а € вс€ беленька€. ” мен€ т€желое ранение было, контузи€, € плохо слышала на одно ухо. ћама мен€ встретила словами: "я верила, что ты придешь. я за теб€ молилась день и ночь". Ѕрат на фронте погиб. ќна плакала: "ќдинаково теперь - рожай девочек или мальчиков".
"ј € другое скажу... —амое страшное дл€ мен€ на войне - носить мужские трусы. ¬от это было страшно. » это мне как-то... я не выражусь... Ќу, во-первых, очень некрасиво... “ы на войне, собираешьс€ умереть за –одину, а на тебе мужские трусы. ¬ общем, ты выгл€дишь смешно. Ќелепо. ћужские трусы тогда носили длинные. Ўирокие. Ўили из сатина. ƒес€ть девочек в нашей земл€нке, и все они в мужских трусах. ќ, Ѕоже мой! «имой и летом. „етыре года... ѕерешли советскую границу... ƒобивали, как говорил на политзан€ти€х наш комиссар, звер€ в его собственной берлоге. ¬озле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и... »! »! »! ѕривезли в первый раз женские трусы и бюстгальтеры. «а всю войну в первый раз. ’а-а-а... Ќу, пон€тно... ћы увидели нормальное женское белье... ѕочему не смеешьс€? ѕлачешь... Ќу, почему?"

"¬ восемнадцать лет на урской ƒуге мен€ наградили медалью "«а боевые заслуги" и орденом расной «везды, в дев€тнадцать лет - орденом ќтечественной войны второй степени. огда прибывало новое пополнение, реб€та были все молодые, конечно, они удивл€лись. »м тоже по восемнадцать-дев€тнадцать лет, и они с насмешкой спрашивали: "ј за что ты получила свои медали?" или "ј была ли ты в бою?" ѕристают с шуточками: "ј пули пробивают броню танка?" ќдного такого € потом перев€зывала на поле бо€, под обстрелом, € и фамилию его запомнила - ўеголеватых. ” него была перебита нога. я ему шину накладываю, а он у мен€ прощени€ просит: "—естричка, прости, что € теб€ тогда обидел..."

"ќна заслонила от осколка мины любимого человека. ќсколки лет€т - это какие-то доли секунды... ак она успела? ќна спасла лейтенанта ѕетю Ѕойчевского, она его любила. » он осталс€ жить. „ерез тридцать лет ѕет€ Ѕойчевский приехал из раснодара и нашел мен€ на нашей фронтовой встрече, и все это мне рассказал. ћы съездили с ним в Ѕорисов и разыскали ту пол€ну, где “он€ погибла. ќн вз€л землю с ее могилы... Ќес и целовал... Ѕыло нас п€ть, конаковских девчонок... ј одна € вернулась к маме..."
"Ѕыл организован ќтдельный отр€д дымомаскировки, которым командовал бывший командир дивизиона торпедных катеров капитан-лейтенант јлександр Ѕогданов. ƒевушки, в основном, со средне-техническим образованием или после первых курсов института. Ќаша задача - уберечь корабли, прикрывать их дымом. Ќачнетс€ обстрел, мор€ки ждут: "—корей бы девчата дым повесили. — ним поспокойнее". ¬ыезжали на машинах со специальной смесью, а все в это врем€ пр€тались в бомбоубежище. ћы же, как говоритс€, вызывали огонь на себ€. Ќемцы ведь били по этой дымовой завесе..."
"ѕерев€зываю танкиста... Ѕой идет, грохот. ќн спрашивает: "ƒевушка, как вас зовут?" ƒаже комплимент какой-то. ћне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое им€ - ќл€".
"» вот € командир оруди€. », значит, мен€ - в тыс€ча триста п€тьдес€т седьмой зенитный полк. ѕервое врем€ из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное... √орло пересыхало до рвоты... Ќочью еще не так страшно, а днем очень страшно. ажетс€, что самолет пр€мо на теб€ летит, именно на твое орудие. Ќа теб€ таранит! Ёто один миг... —ейчас он всю, всю теб€ превратит ни во что. ¬се - конец!"

"» пока мен€ нашли, € сильно отморозила ноги. ћен€, видимо, снегом забросало, но € дышала, и образовалось в снегу отверстие... “ака€ трубка... Ќашли мен€ санитарные собаки. –азрыли снег и шапку-ушанку мою принесли. “ам у мен€ был паспорт смерти, у каждого были такие паспорта: какие родные, куда сообщать. ћен€ откопали, положили на плащ-палатку, был полный полушубок крови... Ќо никто не обратил внимани€ на мои ноги... Ўесть мес€цев € лежала в госпитале. ’отели ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что начиналась гангрена. » € тут немножко смалодушничала, не хотела оставатьс€ жить калекой. «ачем мне жить? ому € нужна? Ќи отца, ни матери. ќбуза в жизни. Ќу, кому € нужна, обрубок! «адушусь..."
"“ам же получили танк. ћы оба были старшими механиками-водител€ми, а в танке должен быть только один механик-водитель. омандование решило назначить мен€ командиром танка "»—-122", а мужа - старшим механиком-водителем. » так мы дошли до √ермании. ќба ранены. »меем награды. Ѕыло немало девушек-танкисток на средних танках, а вот на т€желом - € одна".

"Ќам сказали одеть все военное, а € метр п€тьдес€т. ¬лезла в брюки, и девочки мен€ наверху ими зав€зали".
"ѕока он слышит... ƒо последнего момента говоришь ему, что нет-нет, разве можно умереть. ÷елуешь его, обнимаешь: что ты, что ты? ќн уже мертвый, глаза в потолок, а € ему что-то еще шепчу... ”спокаиваю... ‘амилии вот стерлись, ушли из пам€ти, а лица остались... "
"” нас попала в плен медсестра... „ерез день, когда мы отбили ту деревню, везде вал€лись мертвые лошади, мотоциклы, бронетранспортеры. Ќашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана... ≈е посадили на кол... ћороз, и она бела€-бела€, и волосы все седые. ≈й было дев€тнадцать лет. ¬ рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и резиновую зеленую птичку. ƒетскую игрушку..."
"ѕод —евском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. » € еще в этот день выносила раненых с их оружием. последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Ѕолтаетс€ на кусочках... Ќа жилах... ¬ кровище весь... ≈му нужно срочно отрезать руку, чтобы перев€зать. »наче никак. ј у мен€ нет ни ножа, ни ножниц. —умка телепалась-телепалась на боку, и они выпали. „то делать? » € зубами грызла эту м€коть. ѕерегрызла, забинтовала... Ѕинтую, а раненый: "—корей, сестра. я еще повоюю". ¬ гор€чке..."
"я всю войну бо€лась, чтобы ноги не покалечило. ” мен€ красивые были ноги. ћужчине - что? ≈му не так страшно, если даже ноги потер€ет. ¬се равно - герой. ∆ених! ј женщину покалечит, так это судьба ее решитс€. ∆енска€ судьба..."
"ћужчины разложат костер на остановке, тр€сут вшей, сушатс€. ј нам где? ѕобежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемс€. ” мен€ был свитерочек в€заный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. ѕосмотришь, затошнит. ¬ши бывают головные, плат€ные, лобковые... ” мен€ были они все..."

"ѕод ћакеевкой, в ƒонбассе, мен€ ранило, ранило в бедро. ¬лез вот такой осколочек, как камушек, сидит. „увствую - кровь, € индивидуальный пакет сложила и туда. » дальше бегаю, перев€зываю. —тыдно кому сказать, ранило девчонку, да куда - в €годицу. ¬ попу... ¬ шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь сказать. Ќеудобно признатьс€. Ќу, и так € бегала, перев€зывала, пока не потер€ла сознание от потери крови. ѕолные сапоги натекло..."
"ѕриехал врач, сделали кардиограмму, и мен€ спрашивают:
- ¬ы когда перенесли инфаркт?
- акой инфаркт?
- ” вас все сердце в рубцах.
ј эти рубцы, видно, с войны. “ы заходишь над целью, теб€ всю тр€сет. ¬се тело покрываетс€ дрожью, потому что внизу огонь: истребители стрел€ют, зенитки расстреливают... Ћетали мы в основном ночью. акое-то врем€ нас попробовали посылать на задани€ днем, но тут же отказались от этой затеи. Ќаши "ѕо-2" подстреливали из автомата... ƒелали до двенадцати вылетов за ночь. я видела знаменитого летчика-аса ѕокрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Ёто был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет заправл€ли, техник успевал сн€ть с него рубашку и выкрутить. — нее текло, как будто он под дождем побывал. “еперь можете легко себе представить, что творилось с нами. ѕрилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали. Ќе могли уже планшет нести, т€нули по земле".

ћы стремились... ћы не хотели, чтобы о нас говорили: "јх, эти женщины!" » старались больше, чем мужчины, мы еще должны были доказать, что не хуже мужчин. ј к нам долго было высокомерное, снисходительное отношение: "Ќавоюют эти бабы..."
"“ри раза ранена€ и три раза контуженна€. Ќа войне кто о чем мечтал: кто домой вернутьс€, кто дойти до Ѕерлина, а € об одном загадывала - дожить бы до дн€ рождени€, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. ѕочему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. ’одила € в брюках, в пилотке, всегда оборванна€, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под т€жестью раненого. Ќе верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Ёто мечта была! ѕриехал как-то командир дивизии, увидел мен€ и спрашивает: "ј что это у вас за подросток? „то вы его держите? ≈го бы надо послать учитьс€".
"ћы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть голову. ≈сли долго шли, искали м€гкой травы. –вали ее и ноги... Ќу, понимаете, травой смывали... ћы же свои особенности имели, девчонки... јрми€ об этом не подумала... Ќоги у нас зеленые были... ’орошо, если старшина был пожилой человек и все понимал, не забирал из вещмешка лишнее белье, а если молодой, об€зательно выбросит лишнее. ј какое оно лишнее дл€ девчонок, которым надо бывает два раза в день переодетьс€. ћы отрывали рукава от нижних рубашек, а их ведь только две. Ёто только четыре рукава..."
"»дем... „еловек двести девушек, а сзади человек двести мужчин. ∆ара стоит. ∆аркое лето. ћарш бросок - тридцать километров. ∆ара дика€... » после нас красные п€тна на песке... —леды красные... Ќу, дела эти... Ќаши... ак ты тут что спр€чешь? —олдаты идут следом и делают вид, что ничего не замечают... Ќе смотр€т под ноги... Ѕрюки на нас засыхали, как из стекла становились. –езали. “ам раны были, и все врем€ слышалс€ запах крови. Ќам же ничего не выдавали... ћы сторожили: когда солдаты повес€т на кустах свои рубашки. ѕару штук стащим... ќни потом уже догадывались, сме€лись: "—таршина, дай нам другое белье. ƒевушки наше забрали". ¬аты и бинтов дл€ раненых не хватало... ј не то, что... ∆енское белье, может быть, только через два года по€вилось. ¬ мужских трусах ходили и майках... Ќу, идем... ¬ сапогах! Ќоги тоже сжарились. »дем... переправе, там ждут паромы. ƒобрались до переправы, и тут нас начали бомбить. Ѕомбежка страшнейша€, мужчины - кто куда пр€татьс€. Ќас зовут... ј мы бомбежки не слышим, нам не до бомбежки, мы скорее в речку. воде... ¬ода! ¬ода! » сидели там, пока не отмокли... ѕод осколками... ¬от оно... —тыд был страшнее смерти. » несколько девчонок в воде погибло..."

"Ќаконец получили назначение. ѕривели мен€ к моему взводу... —олдаты смотр€т: кто с насмешкой, кто со злом даже, а другой так передернет плечами - сразу все пон€тно. огда командир батальона представил, что вот, мол, вам новый командир взвода, все сразу взвыли: "”-у-у-у..." ќдин даже сплюнул: "“ьфу!" ј через год, когда мне вручали орден расной «везды, эти же реб€та, кто осталс€ в живых, мен€ на руках в мою земл€нку несли. ќни мной гордились".
"”скоренным маршем вышли на задание. ѕогода была тепла€, шли налегке. огда стали проходить позиции артиллеристов-дальнобойщиков, вдруг один выскочил из траншеи и закричал: "¬оздух! –ама!" я подн€ла голову и ищу в небе "раму". Ќикакого самолета не обнаруживаю. ругом тихо, ни звука. √де же та "рама"? “ут один из моих саперов попросил разрешени€ выйти из стро€. —мотрю, он направл€етс€ к тому артиллеристу и отвешивает ему оплеуху. Ќе успела € что-нибудь сообразить, как артиллерист закричал: "’лопцы, наших бьют!" »з траншеи повыскакивали другие артиллеристы и окружили нашего сапера. ћой взвод, не долго дума€, побросал щупы, миноискатели, вещмешки и бросилс€ к нему на выручку. «ав€залась драка. я не могла пон€ть, что случилось? ѕочему взвод вв€залс€ в драку? ажда€ минута на счету, а тут така€ заваруха. ƒаю команду: "¬звод, стать в строй!" Ќикто не обращает на мен€ внимани€. “огда € выхватила пистолет и выстрелила в воздух. »з блиндажа выскочили офицеры. ѕока всех утихомирили, прошло значительное врем€. ѕодошел к моему взводу капитан и спросил: " то здесь старший?" я доложила. ” него округлились глаза, он даже растер€лс€. «атем спросил: "„то тут произошло?" я не могла ответить, так как на самом деле не знала причины. “огда вышел мой помкомвзвода и рассказал, как все было. “ак € узнала, что такое "рама", какое это обидное было слово дл€ женщины. „то-то типа шлюхи. ‘ронтовое ругательство..."

"ѕро любовь спрашиваете? я не боюсь сказать правду... я была пэпэже, то, что расшифровываетс€ "походно-полева€ жена. ∆ена на войне. ¬тора€. Ќезаконна€. ѕервый командир батальона... я его не любила. ќн хороший был человек, но € его не любила. ј пошла к нему в земл€нку через несколько мес€цев. уда деватьс€? ќдни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех бо€тьс€. ¬ бою не так страшно было, как после бо€, особенно, когда отдых, на переформирование отойдем. ак стрел€ют, огонь, они зовут: "—естричка! —естренка!", а после бо€ каждый теб€ стережет... »з земл€нки ночью не вылезешь... √оворили вам это другие девчонки или не признались? ѕостыдились, думаю... ѕромолчали. √ордые! ј оно все было... Ќо об этом молчат... Ќе прин€то... Ќет... я, например, в батальоне была одна женщина, жила в общей земл€нке. ¬месте с мужчинами. ќтделили мне место, но какое оно отдельное, вс€ земл€нка шесть метров. я просыпалась ночью от того, что махала руками, то одному дам по щекам, по рукам, то другому. ћен€ ранило, попала в госпиталь и там махала руками. Ќ€нечка ночью разбудит: "“ы чего?" ому расскажешь?"
"ћы его хоронили... ќн лежал на плащ-палатке, его только-только убило. Ќемцы нас обстреливают. Ќадо хоронить быстро... ѕр€мо сейчас... Ќашли старые березы, выбрали ту, котора€ поодаль от старого дуба сто€ла. —ама€ больша€. ¬озле нее... я старалась запомнить, чтобы вернутьс€ и найти потом это место. “ут деревн€ кончаетс€, тут развилка... Ќо как запомнить? ак запомнить, если одна береза на наших глазах уже горит... ак? —тали прощатьс€... ћне говор€т: "“ы - перва€!" ” мен€ сердце подскочило, € пон€ла... „то... ¬сем, оказываетс€, известно о моей любви. ¬се знают... ћысль ударила: может, и он знал? ¬от... ќн лежит... —ейчас его опуст€т в землю... «ароют. Ќакроют песком... Ќо € страшно обрадовалась этой мысли, что, может, он тоже знал. ј вдруг и € ему нравилась? ак будто он живой и что-то мне сейчас ответит... ¬спомнила, как на Ќовый год он подарил мне немецкую шоколадку. я ее мес€ц не ела, в кармане носила. —ейчас до мен€ это не доходит, € всю жизнь вспоминаю... Ётот момент... Ѕомбы лет€т... ќн... Ћежит на плащ-палатке... Ётот момент... ј € радуюсь... —тою и про себ€ улыбаюсь. Ќенормальна€. я радуюсь, что он, может быть, знал о моей любви... ѕодошла и его поцеловала. Ќикогда до этого не целовала мужчину... Ёто был первый..."

" ак нас встретила –одина? Ѕез рыданий не могу... —орок лет прошло, а до сих пор щеки гор€т. ћужчины молчали, а женщины... ќни кричали нам: "«наем, чем вы там занимались! «авлекали молодыми п... наших мужиков. ‘ронтовые б... —учки военные..." ќскорбл€ли по-вс€кому... —ловарь русский богатый... ѕровожает мен€ парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце затарахтит. »ду-иду и с€ду в сугроб. "„то с тобой?" - "ƒа ничего. Ќатанцевалась". ј это - мои два ранени€... Ёто - война... ј надо учитьс€ быть нежной. Ѕыть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах разносились - сороковой размер. Ќепривычно, чтобы кто-то мен€ обн€л. ѕривыкла сама отвечать за себ€. Ћасковых слов ждала, но их не понимала. ќни мне, как детские. Ќа фронте среди мужчин - крепкий русский мат. нему привыкла. ѕодруга мен€ учила, она в библиотеке работала: "„итай стихи. ≈сенина читай".
"Ќоги пропали... Ќоги отрезали... —пасали мен€ там же, в лесу... ќпераци€ была в самых примитивных услови€х. ѕоложили на стол оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги... ѕоложили на стол, и нет йода. «а шесть километров в другой партизанский отр€д поехали за йодом, а € лежу на столе. Ѕез наркоза. Ѕез... ¬место наркоза - бутылка самогонки. Ќичего не было, кроме обычной пилы... —тол€рной... ” нас был хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи передали: "я преклон€юсь перед ней. я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Ќе вскрикнет". я держалась... я привыкла быть на люд€х сильной..."

"ћуж был старшим машинистом, а € машинистом. „етыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. ќн у мен€ за всю войну даже кошку не видел. огда поймал под иевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело п€ть самолетов, а он обн€л ее: " исанька мила€, как € рад, что € теб€ увидел. я не вижу никого, ну, посиди со мной. ƒай € теб€ поцелую". –ебенок... ” ребенка все должно быть детское... ќн засыпал со словами: "ћамочка, у нас есть кошка. ” нас теперь насто€щий дом".
"Ћежит на траве јн€ абурова... Ќаша св€зистка. ќна умирает - пул€ попала в сердце. ¬ это врем€ над нами пролетает клин журавлей. ¬се подн€ли головы к небу, и она открыла глаза. ѕосмотрела: " ак жаль, девочки". ѕотом помолчала и улыбнулась нам: "ƒевочки, неужели € умру?" ¬ это врем€ бежит наш почтальон, наша лава, она кричит: "Ќе умирай! Ќе умирай! “ебе письмо из дома..." јн€ не закрывает глаза, она ждет... Ќаша лава села возле нее, распечатала конверт. ѕисьмо от мамы: "ƒорога€ мо€, любима€ доченька..." ¬озле мен€ стоит врач, он говорит: "Ёто - чудо. „удо!! ќна живет вопреки всем законам медицины..." ƒочитали письмо... » только тогда јн€ закрыла глаза..."

"ѕробыла € у него один день, второй и решаю: "»ди в штаб и докладывай. я с тобой здесь останусь". ќн пошел к начальству, а € не дышу: ну, как скажут, чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Ёто же фронт, это пон€тно. » вдруг вижу - идет в земл€нку начальство: майор, полковник. «дороваютс€ за руку все. ѕотом, конечно, сели мы в земл€нке, выпили, и каждый сказал свое слово, что жена нашла мужа в траншее, это же насто€ща€ жена, документы есть. Ёто же така€ женщина! ƒайте посмотреть на такую женщину! ќни такие слова говорили, они все плакали. я тот вечер всю жизнь вспоминаю... „то у мен€ еще осталось? «ачислили санитаркой. ’одила с ним в разведку. Ѕьет миномет, вижу - упал. ƒумаю: убитый или раненый? Ѕегу туда, а миномет бьет, и командир кричит: " уда ты прешь, чертова баба!!" ѕодползу - живой... ∆ивой!"

"ƒва года назад гостил у мен€ наш начальник штаба »ван ћихайлович √ринько. ќн уже давно на пенсии. «а этим же столом сидел. я тоже пирогов напекла. Ѕеседуют они с мужем, вспоминают... ќ девчонках наших заговорили... ј € как зареву: "ѕочет, говорите, уважение. ј девчонки-то почти все одинокие. Ќезамужние. ∆ивут в коммуналках. то их пожалел? «ащитил? уда вы подевались все после войны? ѕредатели!!" ќдним словом, праздничное настроение € им испортила... Ќачальник штаба вот на твоем месте сидел. "“ы мне покажи, - стучал кулаком по столу, - кто теб€ обижал. “ы мне его только покажи!" ѕрощени€ просил: "¬ал€, € ничего тебе не могу сказать, кроме слез".

"я до Ѕерлина с армией дошла... ¬ернулась в свою деревню с двум€ орденами —лавы и медал€ми. ѕожила три дн€, а на четвертый мама поднимает мен€ с постели и говорит: "ƒоченька, € тебе собрала узелок. ”ходи... ”ходи... ” теб€ еще две младших сестры растут. то их замуж возьмет? ¬се знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами... " Ќе трогайте мою душу. Ќапишите, как другие, о моих наградах..."
"ѕод —талинградом... “ащу € двух раненых. ќдного протащу - оставл€ю, потом - другого. » так т€ну их по очереди, потому что очень т€желые раненые, их нельз€ оставл€ть, у обоих, как это проще объ€снить, высоко отбиты ноги, они истекают кровью. “ут минута дорога, кажда€ минута. » вдруг, когда € подальше от бо€ отползла, меньше стало дыма, вдруг € обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца... я была в ужасе: там наши гибнут, а € немца спасаю. я была в панике... “ам, в дыму, не разобралась... ¬ижу: человек умирает, человек кричит... ј-а-а... ќни оба обгоревшие, черные. ќдинаковые. ј тут € разгл€дела: чужой медальон, чужие часы, все чужое. Ёта форма прокл€та€. » что теперь? “€ну нашего раненого и думаю: "¬озвращатьс€ за немцем или нет?" я понимала, что если € его оставлю, то он скоро умрет. ќт потери крови... » € поползла за ним. я продолжала тащить их обоих... Ёто же —талинград... —амые страшные бои. —амые-самые. ћо€ ты бриллиантова€... Ќе может быть одно сердце дл€ ненависти, а второе - дл€ любви. ” человека оно одно".

" ончилась война, они оказались страшно незащищенными. ¬от мо€ жена. ќна - умна€ женщина, и она к военным девушкам плохо относитс€. —читает, что они ехали на войну за женихами, что все крутили там романы. ’от€ на самом деле, у нас же искренний разговор, это чаще всего были честные девчонки. „истые. Ќо после войны... ѕосле гр€зи, после вшей, после смертей... ’отелось чего-то красивого. яркого. расивых женщин... ” мен€ был друг, его на фронте любила одна прекрасна€, как € сейчас понимаю, девушка. ћедсестра. Ќо он на ней не женилс€, демобилизовалс€ и нашел себе другую, посмазливее. » он несчастлив со своей женой. “еперь вспоминает ту, свою военную любовь, она ему была бы другом. ј после фронта он женитьс€ на ней не захотел, потому что четыре года видел ее только в стоптанных сапогах и мужском ватнике. ћы старались забыть войну. » девчонок своих тоже забыли..."
"ћо€ подруга... Ќе буду называть ее фамилии, вдруг обидитс€... ¬оенфельдшер... “рижды ранена. ончилась война, поступила в медицинский институт. Ќикого из родных она не нашла, все погибли. —трашно бедствовала, мыла по ночам подъезды, чтобы прокормитьс€. Ќо никому не признавалась, что инвалид войны и имеет льготы, все документы порвала. я спрашиваю: "«ачем ты порвала?" ќна плачет: "ј кто бы мен€ замуж вз€л?" - "Ќу, что же, - говорю, - правильно сделала". ≈ще громче плачет: "ћне бы эти бумажки теперь пригодились. Ѕолею т€жело". ѕредставл€ете? ѕлачет."

"ћы поехали в инешму, это »вановска€ область, к его родител€м. я ехала героиней, € никогда не думала, что так можно встретить фронтовую девушку. ћы же столько прошли, столько спасли матер€м детей, женам мужей. » вдруг... я узнала оскорбление, € услышала обидные слова. ƒо этого же кроме как: "сестричка родна€", "сестричка дорога€", ничего другого не слышала... —ели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет: "Ќа ком ты женилс€? Ќа фронтовой... ” теб€ же две младшие сестры. то их теперь замуж возьмет?" » сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочетс€. ѕредставл€ете: привезла € пластиночку, очень любила ее. “ам были такие слова: и тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить... Ёто о фронтовой девушке. я ее поставила, старша€ сестра подошла и на моих глазах разбила, мол, у вас нет никаких прав. ќни уничтожили все мои фронтовые фотографии... ’ватило нам, фронтовым девчонкам. » после войны досталось, после войны у нас была еще одна война. “оже страшна€. ак-то мужчины оставили нас. Ќе прикрыли. Ќа фронте по-другому было".
"Ёто потом чествовать нас стали, через тридцать лет... ѕриглашать на встречи... ј первое врем€ мы таились, даже награды не носили. ћужчины носили, а женщины нет. ћужчины - победители, герои, женихи, у них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами. —овсем другими... ” нас, скажу € вам, забрали победу... ѕобеду с нами не разделили. » было обидно... Ќепон€тно..."

"ѕерва€ медаль "«а отвагу"... Ќачалс€ бой. ќгонь шквальный. —олдаты залегли. оманда: "¬перед! «а –одину!", а они лежат. ќп€ть команда, оп€ть лежат. я сн€ла шапку, чтобы видели: девчонка подн€лась... » они все встали, и мы пошли в бой..."
ћетки: у войны женское лицо |
‘–ќЌ“ќ¬џ≈ ƒ≈¬„ј“ј |
Ёто цитата сообщени€ ELENA_STOPKO [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
http://www.liveinternet.ru/users/elena_stopko/post275541997/
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины, участвующие в боевых действи€х |
ƒневник |
о ƒню великой ѕобеды € предлагаю вам почитать интересные воспоминани€ женщин-ветеранов, которые прин€ли участие в боевых действи€х и нар€ду с мужчинами были готовы отправитьс€ в бой. ¬ечна€ пам€ть и слава!
"≈хали много суток... ¬ышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. ќгл€нулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. ѕоют. ћашут нам - кто косынками, кто пилотками. —тало пон€тно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. »ли в плену. “еперь мы вместо них... ћама написала мне молитву. я положила ее в медальон. ћожет, и помогло - € вернулась домой. я перед боем медальон целовала..."

"ќдин раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела цела€ рота. рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышалс€ стон. ќсталс€ раненый. "Ќе ходи, убьют, - не пускали мен€ бойцы, - видишь, уже светает". Ќе послушалась, поползла. Ќашла раненого, тащила его восемь часов, прив€зав ремнем за руку. ѕриволокла живого. омандир узнал, объ€вил сгор€ча п€ть суток ареста за самовольную отлучку. ј заместитель командира полка отреагировал по-другому: "«аслуживает награды". ¬ дев€тнадцать лет у мен€ была медаль "«а отвагу". ¬ дев€тнадцать лет поседела. ¬ дев€тнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, втора€ пул€ прошла между двух позвонков. ѕарализовало ноги... » мен€ посчитали убитой... ¬ дев€тнадцать лет... ” мен€ внучка сейчас така€. —мотрю на нее - и не верю. ƒите!"

"” мен€ было ночное дежурство... «ашла в палату т€желораненых. Ћежит капитан... ¬рачи предупредили мен€ перед дежурством, что ночью он умрет... Ќе дот€нет до утра... —прашиваю его: "Ќу, как? „ем тебе помочь?" Ќикогда не забуду... ќн вдруг улыбнулс€, така€ светла€ улыбка на измученном лице: "–асстегни халат... ѕокажи мне свою грудь... я давно не видел жену..." ћне стало стыдно, € что-то там ему отвечала. ”шла и вернулась через час. ќн лежит мертвый. » та улыбка у него на лице..."
"» когда он по€вилс€ третий раз, это же одно мгновенье - то по€витс€, то скроетс€, - € решила стрел€ть. –ешилась, и вдруг така€ мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у мен€ как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. акой-то страх... о мне иногда во сне и сейчас возвращаетс€ это ощущение... ѕосле фанерных мишеней стрел€ть в живого человека было трудно. я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. ак будто он близко... » внутри у мен€ что-то противитс€... „то-то не дает, не могу решитьс€. Ќо € вз€ла себ€ в руки, нажала спусковой крючок... Ќе сразу у нас получилось. Ќе женское это дело - ненавидеть и убивать. Ќе наше... Ќадо было себ€ убеждать. ”говаривать..."

"» девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не пойдет. Ёто были смелые, необыкновенные девчонки. ≈сть статистика: потери среди медиков переднего кра€ занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. ¬ пехоте. „то такое, например, вытащить раненого с пол€ бо€? я вам сейчас расскажу... ћы подн€лись в атаку, а нас давай косить из пулемета. » батальона не стало. ¬се лежали. ќни не были все убиты, много раненых. Ќемцы бьют, огн€ не прекращают. —овсем неожиданно дл€ всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом втора€, треть€... ќни стали перев€зывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то врем€ онемели от изумлени€. часам дес€ти вечера все девчонки были т€жело ранены, а кажда€ спасла максимум два-три человека. Ќаграждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. ¬ытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. ѕервый вопрос в медсанбате: где оружие? ¬ начале войны его не хватало. ¬интовку, автомат, пулемет - это тоже надо было тащить. ¬ сорок первом был издан приказ номер двести восемьдес€т один о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за п€тнадцать т€желораненых, вынесенных с пол€ бо€ вместе с личным оружием - медаль "«а боевые заслуги", за спасение двадцати п€ти человек - орден расной «везды, за спасение сорока - орден расного «намени, за спасение восьмидес€ти - орден Ћенина. ј € вам описал, что значило спасти в бою хот€ бы одного... »з-под пуль..."

"„то в наших душах творилось, таких людей, какими мы были тогда, наверное, больше никогда не будет. Ќикогда! “аких наивных и таких искренних. — такой верой! огда знам€ получил наш командир полка и дал команду: "ѕолк, под знам€! Ќа колени!", все мы почувствовали себ€ счастливыми. —тоим и плачем, у каждой слезы на глазах. ¬ы сейчас не поверите, у мен€ от этого потр€сени€ весь мой организм напр€гс€, мо€ болезнь, а € заболела "куриной слепотой", это у мен€ от недоедани€, от нервного переутомлени€ случилось, так вот, мо€ курина€ слепота прошла. ѕонимаете, € на другой день была здорова, € выздоровела, вот через такое потр€сение всей души..."
"ћен€ ураганной волной отбросило к кирпичной стене. ѕотер€ла сознание... огда пришла в себ€, был уже вечер. ѕодн€ла голову, попробовала сжать пальцы - вроде двигаютс€, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вс€ в крови. ¬ коридоре встречаю нашу старшую сестру, она не узнала мен€, спросила: " то вы? ќткуда?" ѕодошла ближе, ахнула и говорит: "√де теб€ так долго носило, сен€? –аненые голодные, а теб€ нет". Ѕыстро перев€зали голову, левую руку выше локт€, и € пошла получать ужин. ¬ глазах темнело, пот лилс€ градом. —тала раздавать ужин, упала. ѕривели в сознание, и только слышитс€: "—корей! Ѕыстрей!" » оп€ть - "—корей! Ѕыстрей!" „ерез несколько дней у мен€ еще брали дл€ т€желораненых кровь".
"ћы же молоденькие совсем на фронт пошли. ƒевочки. я за войну даже подросла. ћама дома померила... я подросла на дес€ть сантиметров..."

"ќрганизовали курсы медсестер, и отец отвел нас с сестрой туда. ћне - п€тнадцать лет, а сестре - четырнадцать. ќн говорил: "Ёто все, что € могу отдать дл€ победы. ћоих девочек..." ƒругой мысли тогда не было. „ерез год € попала на фронт..."
"” нашей матери не было сыновей... ј когда —талинград был осажден, добровольно пошли на фронт. ¬се вместе. ¬с€ семь€: мама и п€ть дочерей, а отец к этому времени уже воевал..."
"ћен€ мобилизовали, € была врач. я уехала с чувством долга. ј мой папа был счастлив, что дочь на фронте. «ащищает –одину. ѕапа шел в военкомат рано утром. ќн шел получать мой аттестат и шел рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте..."
"ѕомню, отпустили мен€ в увольнение. ѕрежде чем пойти к тете, € зашла в магазин. ƒо войны страшно любила конфеты. √оворю:
- ƒайте мне конфет.
ѕродавщица смотрит на мен€, как на сумасшедшую. я не понимала: что такое - карточки, что такое - блокада? ¬се люди в очереди повернулись ко мне, а у мен€ винтовка больше, чем €. огда нам их выдали, € посмотрела и думаю: " огда € дорасту до этой винтовки?" » все вдруг стали просить, вс€ очередь:
- ƒайте ей конфет. ¬ырежьте у нас талоны.
» мне дали".

"» у мен€ впервые в жизни случилось... Ќаше... ∆енское... ”видела € у себ€ кровь, как заору:
- ћен€ ранило...
¬ разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. ќн ко мне:
- уда ранило?
- Ќе знаю куда... Ќо кровь...
ћне он, как отец, все рассказал... я ходила в разведку после войны лет п€тнадцать. аждую ночь. » сны такие: то у мен€ автомат отказал, то нас окружили. ѕросыпаешьс€ - зубы скрип€т. ¬споминаешь - где ты? “ам или здесь?"
"”езжала € на фронт материалисткой. јтеисткой. ’орошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. ј там... “ам € стала молитьс€... я всегда молилась перед боем, читала свои молитвы. —лова простые... ћои слова... —мысл один, чтобы € вернулась к маме и папе. Ќасто€щих молитв € не знала, и не читала Ѕиблию. Ќикто не видел, как € молилась. я - тайно. ”крадкой молилась. ќсторожно. ѕотому что... ћы были тогда другие, тогда жили другие люди. ¬ы - понимаете?"

"‘ормы на нас нельз€ было напастись: всегда в крови. ћой первый раненый - старший лейтенант Ѕелов, мой последний раненый - —ергей ѕетрович “рофимов, сержант минометного взвода. ¬ семидес€том году он приезжал ко мне в гости, и дочер€м € показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. ¬сего из-под огн€ € вынесла четыреста восемьдес€т одного раненого. то-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон... “аскали на себе мужчин, в два-три раза т€желее нас. ј раненые они еще т€желее. ≈го самого тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. ¬звалишь на себ€ восемьдес€т килограммов и тащишь. —бросишь... »дешь за следующим, и оп€ть семьдес€т-восемьдес€т килограммов... » так раз п€ть-шесть за одну атаку. ј в тебе самой сорок восемь килограммов - балетный вес. —ейчас уже не веритс€..."
"я потом стала командиром отделени€. ¬се отделение из молодых мальчишек. ћы целый день на катере. атер небольшой, там нет никаких гальюнов. –еб€там по необходимости можно через борт, и все. Ќу, а как мне? ѕару раз € до того дотерпелась, что прыгнула пр€мо за борт и плаваю. ќни кричат: "—таршина за бортом!" ¬ытащат. ¬от така€ элементарна€ мелочь... Ќо кака€ это мелочь? я потом лечилась...
"¬ернулась с войны седа€. ƒвадцать один год, а € вс€ беленька€. ” мен€ т€желое ранение было, контузи€, € плохо слышала на одно ухо. ћама мен€ встретила словами: "я верила, что ты придешь. я за теб€ молилась день и ночь". Ѕрат на фронте погиб. ќна плакала: "ќдинаково теперь - рожай девочек или мальчиков".
"ј € другое скажу... —амое страшное дл€ мен€ на войне - носить мужские трусы. ¬от это было страшно. » это мне как-то... я не выражусь... Ќу, во-первых, очень некрасиво... “ы на войне, собираешьс€ умереть за –одину, а на тебе мужские трусы. ¬ общем, ты выгл€дишь смешно. Ќелепо. ћужские трусы тогда носили длинные. Ўирокие. Ўили из сатина. ƒес€ть девочек в нашей земл€нке, и все они в мужских трусах. ќ, Ѕоже мой! «имой и летом. „етыре года... ѕерешли советскую границу... ƒобивали, как говорил на политзан€ти€х наш комиссар, звер€ в его собственной берлоге. ¬озле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и... »! »! »! ѕривезли в первый раз женские трусы и бюстгальтеры. «а всю войну в первый раз. ’а-а-а... Ќу, пон€тно... ћы увидели нормальное женское белье... ѕочему не смеешьс€? ѕлачешь... Ќу, почему?"

"¬ восемнадцать лет на урской ƒуге мен€ наградили медалью "«а боевые заслуги" и орденом расной «везды, в дев€тнадцать лет - орденом ќтечественной войны второй степени. огда прибывало новое пополнение, реб€та были все молодые, конечно, они удивл€лись. »м тоже по восемнадцать-дев€тнадцать лет, и они с насмешкой спрашивали: "ј за что ты получила свои медали?" или "ј была ли ты в бою?" ѕристают с шуточками: "ј пули пробивают броню танка?" ќдного такого € потом перев€зывала на поле бо€, под обстрелом, € и фамилию его запомнила - ўеголеватых. ” него была перебита нога. я ему шину накладываю, а он у мен€ прощени€ просит: "—естричка, прости, что € теб€ тогда обидел..."

"«амаскировались. —идим. ∆дем ночи, чтобы все-таки сделать попытку прорватьс€. » лейтенант ћиша “., комбат был ранен, и он выполн€л об€занности комбата, лет ему было двадцать, стал вспоминать, как он любил танцевать, играть на гитаре. ѕотом спрашивает:
- “ы хоть пробовала?
- „его? „то пробовала? - ј есть хотелось страшно.
- Ќе чего, а кого... Ѕабу!
ј до войны пирожные такие были. — таким названием.
- Ќе-е-ет...
- » € тоже еще не пробовал. ¬от умрешь и не узнаешь, что такое любовь... ”бьют нас ночью...
- ƒа пошел ты, дурак! - ƒо мен€ дошло, о чем он.
”мирали за жизнь, еще не зна€, что такое жизнь. ќбо всем еще только в книгах читали. я кино про любовь любила..."

"ќна заслонила от осколка мины любимого человека. ќсколки лет€т - это какие-то доли секунды... ак она успела? ќна спасла лейтенанта ѕетю Ѕойчевского, она его любила. » он осталс€ жить. „ерез тридцать лет ѕет€ Ѕойчевский приехал из раснодара и нашел мен€ на нашей фронтовой встрече, и все это мне рассказал. ћы съездили с ним в Ѕорисов и разыскали ту пол€ну, где “он€ погибла. ќн вз€л землю с ее могилы... Ќес и целовал... Ѕыло нас п€ть, конаковских девчонок... ј одна € вернулась к маме..."
"Ѕыл организован ќтдельный отр€д дымомаскировки, которым командовал бывший командир дивизиона торпедных катеров капитан-лейтенант јлександр Ѕогданов. ƒевушки, в основном, со средне-техническим образованием или после первых курсов института. Ќаша задача - уберечь корабли, прикрывать их дымом. Ќачнетс€ обстрел, мор€ки ждут: "—корей бы девчата дым повесили. — ним поспокойнее". ¬ыезжали на машинах со специальной смесью, а все в это врем€ пр€тались в бомбоубежище. ћы же, как говоритс€, вызывали огонь на себ€. Ќемцы ведь били по этой дымовой завесе..."
"ѕерев€зываю танкиста... Ѕой идет, грохот. ќн спрашивает: "ƒевушка, как вас зовут?" ƒаже комплимент какой-то. ћне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое им€ - ќл€".
"» вот € командир оруди€. », значит, мен€ - в тыс€ча триста п€тьдес€т седьмой зенитный полк. ѕервое врем€ из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное... √орло пересыхало до рвоты... Ќочью еще не так страшно, а днем очень страшно. ажетс€, что самолет пр€мо на теб€ летит, именно на твое орудие. Ќа теб€ таранит! Ёто один миг... —ейчас он всю, всю теб€ превратит ни во что. ¬се - конец!"

"» пока мен€ нашли, € сильно отморозила ноги. ћен€, видимо, снегом забросало, но € дышала, и образовалось в снегу отверстие... “ака€ трубка... Ќашли мен€ санитарные собаки. –азрыли снег и шапку-ушанку мою принесли. “ам у мен€ был паспорт смерти, у каждого были такие паспорта: какие родные, куда сообщать. ћен€ откопали, положили на плащ-палатку, был полный полушубок крови... Ќо никто не обратил внимани€ на мои ноги... Ўесть мес€цев € лежала в госпитале. ’отели ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что начиналась гангрена. » € тут немножко смалодушничала, не хотела оставатьс€ жить калекой. «ачем мне жить? ому € нужна? Ќи отца, ни матери. ќбуза в жизни. Ќу, кому € нужна, обрубок! «адушусь..."
"“ам же получили танк. ћы оба были старшими механиками-водител€ми, а в танке должен быть только один механик-водитель. омандование решило назначить мен€ командиром танка "»—-122", а мужа - старшим механиком-водителем. » так мы дошли до √ермании. ќба ранены. »меем награды. Ѕыло немало девушек-танкисток на средних танках, а вот на т€желом - € одна".

"Ќам сказали одеть все военное, а € метр п€тьдес€т. ¬лезла в брюки, и девочки мен€ наверху ими зав€зали".
"ѕока он слышит... ƒо последнего момента говоришь ему, что нет-нет, разве можно умереть. ÷елуешь его, обнимаешь: что ты, что ты? ќн уже мертвый, глаза в потолок, а € ему что-то еще шепчу... ”спокаиваю... ‘амилии вот стерлись, ушли из пам€ти, а лица остались... "
"” нас попала в плен медсестра... „ерез день, когда мы отбили ту деревню, везде вал€лись мертвые лошади, мотоциклы, бронетранспортеры. Ќашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана... ≈е посадили на кол... ћороз, и она бела€-бела€, и волосы все седые. ≈й было дев€тнадцать лет. ¬ рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и резиновую зеленую птичку. ƒетскую игрушку..."
"ѕод —евском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. » € еще в этот день выносила раненых с их оружием. последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Ѕолтаетс€ на кусочках... Ќа жилах... ¬ кровище весь... ≈му нужно срочно отрезать руку, чтобы перев€зать. »наче никак. ј у мен€ нет ни ножа, ни ножниц. —умка телепалась-телепалась на боку, и они выпали. „то делать? » € зубами грызла эту м€коть. ѕерегрызла, забинтовала... Ѕинтую, а раненый: "—корей, сестра. я еще повоюю". ¬ гор€чке..."
"я всю войну бо€лась, чтобы ноги не покалечило. ” мен€ красивые были ноги. ћужчине - что? ≈му не так страшно, если даже ноги потер€ет. ¬се равно - герой. ∆ених! ј женщину покалечит, так это судьба ее решитс€. ∆енска€ судьба..."
"ћужчины разложат костер на остановке, тр€сут вшей, сушатс€. ј нам где? ѕобежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемс€. ” мен€ был свитерочек в€заный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. ѕосмотришь, затошнит. ¬ши бывают головные, плат€ные, лобковые... ” мен€ были они все..."

"ѕод ћакеевкой, в ƒонбассе, мен€ ранило, ранило в бедро. ¬лез вот такой осколочек, как камушек, сидит. „увствую - кровь, € индивидуальный пакет сложила и туда. » дальше бегаю, перев€зываю. —тыдно кому сказать, ранило девчонку, да куда - в €годицу. ¬ попу... ¬ шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь сказать. Ќеудобно признатьс€. Ќу, и так € бегала, перев€зывала, пока не потер€ла сознание от потери крови. ѕолные сапоги натекло..."
"ѕриехал врач, сделали кардиограмму, и мен€ спрашивают:
- ¬ы когда перенесли инфаркт?
- акой инфаркт?
- ” вас все сердце в рубцах.
ј эти рубцы, видно, с войны. “ы заходишь над целью, теб€ всю тр€сет. ¬се тело покрываетс€ дрожью, потому что внизу огонь: истребители стрел€ют, зенитки расстреливают... Ћетали мы в основном ночью. акое-то врем€ нас попробовали посылать на задани€ днем, но тут же отказались от этой затеи. Ќаши "ѕо-2" подстреливали из автомата... ƒелали до двенадцати вылетов за ночь. я видела знаменитого летчика-аса ѕокрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Ёто был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет заправл€ли, техник успевал сн€ть с него рубашку и выкрутить. — нее текло, как будто он под дождем побывал. “еперь можете легко себе представить, что творилось с нами. ѕрилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали. Ќе могли уже планшет нести, т€нули по земле".

"ћы стремились... ћы не хотели, чтобы о нас говорили: "јх, эти женщины!" » старались больше, чем мужчины, мы еще должны были доказать, что не хуже мужчин. ј к нам долго было высокомерное, снисходительное отношение: "Ќавоюют эти бабы..."
"“ри раза ранена€ и три раза контуженна€. Ќа войне кто о чем мечтал: кто домой вернутьс€, кто дойти до Ѕерлина, а € об одном загадывала - дожить бы до дн€ рождени€, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. ѕочему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. ’одила € в брюках, в пилотке, всегда оборванна€, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под т€жестью раненого. Ќе верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Ёто мечта была! ѕриехал как-то командир дивизии, увидел мен€ и спрашивает: "ј что это у вас за подросток? „то вы его держите? ≈го бы надо послать учитьс€".
"ћы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть голову. ≈сли долго шли, искали м€гкой травы. –вали ее и ноги... Ќу, понимаете, травой смывали... ћы же свои особенности имели, девчонки... јрми€ об этом не подумала... Ќоги у нас зеленые были... ’орошо, если старшина был пожилой человек и все понимал, не забирал из вещмешка лишнее белье, а если молодой, об€зательно выбросит лишнее. ј какое оно лишнее дл€ девчонок, которым надо бывает два раза в день переодетьс€. ћы отрывали рукава от нижних рубашек, а их ведь только две. Ёто только четыре рукава..."
"»дем... „еловек двести девушек, а сзади человек двести мужчин. ∆ара стоит. ∆аркое лето. ћарш бросок - тридцать километров. ∆ара дика€... » после нас красные п€тна на песке... —леды красные... Ќу, дела эти... Ќаши... ак ты тут что спр€чешь? —олдаты идут следом и делают вид, что ничего не замечают... Ќе смотр€т под ноги... Ѕрюки на нас засыхали, как из стекла становились. –езали. “ам раны были, и все врем€ слышалс€ запах крови. Ќам же ничего не выдавали... ћы сторожили: когда солдаты повес€т на кустах свои рубашки. ѕару штук стащим... ќни потом уже догадывались, сме€лись: "—таршина, дай нам другое белье. ƒевушки наше забрали". ¬аты и бинтов дл€ раненых не хватало... ј не то, что... ∆енское белье, может быть, только через два года по€вилось. ¬ мужских трусах ходили и майках... Ќу, идем... ¬ сапогах! Ќоги тоже сжарились. »дем... переправе, там ждут паромы. ƒобрались до переправы, и тут нас начали бомбить. Ѕомбежка страшнейша€, мужчины - кто куда пр€татьс€. Ќас зовут... ј мы бомбежки не слышим, нам не до бомбежки, мы скорее в речку. воде... ¬ода! ¬ода! » сидели там, пока не отмокли... ѕод осколками... ¬от оно... —тыд был страшнее смерти. » несколько девчонок в воде погибло..."

"Ќаконец получили назначение. ѕривели мен€ к моему взводу... —олдаты смотр€т: кто с насмешкой, кто со злом даже, а другой так передернет плечами - сразу все пон€тно. огда командир батальона представил, что вот, мол, вам новый командир взвода, все сразу взвыли: "”-у-у-у..." ќдин даже сплюнул: "“ьфу!" ј через год, когда мне вручали орден расной «везды, эти же реб€та, кто осталс€ в живых, мен€ на руках в мою земл€нку несли. ќни мной гордились".
"”скоренным маршем вышли на задание. ѕогода была тепла€, шли налегке. огда стали проходить позиции артиллеристов-дальнобойщиков, вдруг один выскочил из траншеи и закричал: "¬оздух! –ама!" я подн€ла голову и ищу в небе "раму". Ќикакого самолета не обнаруживаю. ругом тихо, ни звука. √де же та "рама"? “ут один из моих саперов попросил разрешени€ выйти из стро€. —мотрю, он направл€етс€ к тому артиллеристу и отвешивает ему оплеуху. Ќе успела € что-нибудь сообразить, как артиллерист закричал: "’лопцы, наших бьют!" »з траншеи повыскакивали другие артиллеристы и окружили нашего сапера. ћой взвод, не долго дума€, побросал щупы, миноискатели, вещмешки и бросилс€ к нему на выручку. «ав€залась драка. я не могла пон€ть, что случилось? ѕочему взвод вв€залс€ в драку? ажда€ минута на счету, а тут така€ заваруха. ƒаю команду: "¬звод, стать в строй!" Ќикто не обращает на мен€ внимани€. “огда € выхватила пистолет и выстрелила в воздух. »з блиндажа выскочили офицеры. ѕока всех утихомирили, прошло значительное врем€. ѕодошел к моему взводу капитан и спросил: " то здесь старший?" я доложила. ” него округлились глаза, он даже растер€лс€. «атем спросил: "„то тут произошло?" я не могла ответить, так как на самом деле не знала причины. “огда вышел мой помкомвзвода и рассказал, как все было. “ак € узнала, что такое "рама", какое это обидное было слово дл€ женщины. „то-то типа шлюхи. ‘ронтовое ругательство..."

"ѕро любовь спрашиваете? я не боюсь сказать правду... я была пэпэже, то, что расшифровываетс€ "походно-полева€ жена. ∆ена на войне. ¬тора€. Ќезаконна€. ѕервый командир батальона... я его не любила. ќн хороший был человек, но € его не любила. ј пошла к нему в земл€нку через несколько мес€цев. уда деватьс€? ќдни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех бо€тьс€. ¬ бою не так страшно было, как после бо€, особенно, когда отдых, на переформирование отойдем. ак стрел€ют, огонь, они зовут: "—естричка! —естренка!", а после бо€ каждый теб€ стережет... »з земл€нки ночью не вылезешь... √оворили вам это другие девчонки или не признались? ѕостыдились, думаю... ѕромолчали. √ордые! ј оно все было... Ќо об этом молчат... Ќе прин€то... Ќет... я, например, в батальоне была одна женщина, жила в общей земл€нке. ¬месте с мужчинами. ќтделили мне место, но какое оно отдельное, вс€ земл€нка шесть метров. я просыпалась ночью от того, что махала руками, то одному дам по щекам, по рукам, то другому. ћен€ ранило, попала в госпиталь и там махала руками. Ќ€нечка ночью разбудит: "“ы чего?" ому расскажешь?"
"ћы его хоронили... ќн лежал на плащ-палатке, его только-только убило. Ќемцы нас обстреливают. Ќадо хоронить быстро... ѕр€мо сейчас... Ќашли старые березы, выбрали ту, котора€ поодаль от старого дуба сто€ла. —ама€ больша€. ¬озле нее... я старалась запомнить, чтобы вернутьс€ и найти потом это место. “ут деревн€ кончаетс€, тут развилка... Ќо как запомнить? ак запомнить, если одна береза на наших глазах уже горит... ак? —тали прощатьс€... ћне говор€т: "“ы - перва€!" ” мен€ сердце подскочило, € пон€ла... „то... ¬сем, оказываетс€, известно о моей любви. ¬се знают... ћысль ударила: может, и он знал? ¬от... ќн лежит... —ейчас его опуст€т в землю... «ароют. Ќакроют песком... Ќо € страшно обрадовалась этой мысли, что, может, он тоже знал. ј вдруг и € ему нравилась? ак будто он живой и что-то мне сейчас ответит... ¬спомнила, как на Ќовый год он подарил мне немецкую шоколадку. я ее мес€ц не ела, в кармане носила. —ейчас до мен€ это не доходит, € всю жизнь вспоминаю... Ётот момент... Ѕомбы лет€т... ќн... Ћежит на плащ-палатке... Ётот момент... ј € радуюсь... —тою и про себ€ улыбаюсь. Ќенормальна€. я радуюсь, что он, может быть, знал о моей любви... ѕодошла и его поцеловала. Ќикогда до этого не целовала мужчину... Ёто был первый..."

" ак нас встретила –одина? Ѕез рыданий не могу... —орок лет прошло, а до сих пор щеки гор€т. ћужчины молчали, а женщины... ќни кричали нам: "«наем, чем вы там занимались! «авлекали молодыми п... наших мужиков. ‘ронтовые б... —учки военные..." ќскорбл€ли по-вс€кому... —ловарь русский богатый... ѕровожает мен€ парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце затарахтит. »ду-иду и с€ду в сугроб. "„то с тобой?" - "ƒа ничего. Ќатанцевалась". ј это - мои два ранени€... Ёто - война... ј надо учитьс€ быть нежной. Ѕыть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах разносились - сороковой размер. Ќепривычно, чтобы кто-то мен€ обн€л. ѕривыкла сама отвечать за себ€. Ћасковых слов ждала, но их не понимала. ќни мне, как детские. Ќа фронте среди мужчин - крепкий русский мат. нему привыкла. ѕодруга мен€ учила, она в библиотеке работала: "„итай стихи. ≈сенина читай".
"Ќоги пропали... Ќоги отрезали... —пасали мен€ там же, в лесу... ќпераци€ была в самых примитивных услови€х. ѕоложили на стол оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги... ѕоложили на стол, и нет йода. «а шесть километров в другой партизанский отр€д поехали за йодом, а € лежу на столе. Ѕез наркоза. Ѕез... ¬место наркоза - бутылка самогонки. Ќичего не было, кроме обычной пилы... —тол€рной... ” нас был хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи передали: "я преклон€юсь перед ней. я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Ќе вскрикнет". я держалась... я привыкла быть на люд€х сильной..."

ѕодбежав к машине, открыла дверку и стала докладывать:
- “оварищ генерал, по вашему приказанию...
”слышала:
- ќтставить...
¬ыт€нулась по стойке "смирно". √енерал даже не повернулс€ ко мне, а через стекло машины смотрит на дорогу. Ќервничает и часто посматривает на часы. я стою. ќн обращаетс€ к своему ординарцу:
- √де же тот командир саперов?
я снова попыталась доложить:
- “оварищ генерал...
ќн наконец повернулс€ ко мне и с досадой:
- Ќа черта ты мне нужна!
я все пон€ла и чуть не расхохоталась. “огда его ординарец первый догадалс€:
- “оварищ генерал, а может, она и есть командир саперов?
√енерал уставилс€ на мен€:
- “ы кто?
- омандир саперного взвода, товарищ генерал.
- “ы - командир взвода? - возмутилс€ он.
- “ак точно, товарищ генерал!
- Ёто твои саперы работают?
- “ак точно, товарищ генерал!
- «аладила: генерал, генерал...
¬ылез из машины, прошел несколько шагов вперед, затем вернулс€ ко мне. ѕосто€л, смерил глазами. » к своему ординарцу:
- ¬идал?

"ћуж был старшим машинистом, а € машинистом. „етыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. ќн у мен€ за всю войну даже кошку не видел. огда поймал под иевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело п€ть самолетов, а он обн€л ее: " исанька мила€, как € рад, что € теб€ увидел. я не вижу никого, ну, посиди со мной. ƒай € теб€ поцелую". –ебенок... ” ребенка все должно быть детское... ќн засыпал со словами: "ћамочка, у нас есть кошка. ” нас теперь насто€щий дом".
"Ћежит на траве јн€ абурова... Ќаша св€зистка. ќна умирает - пул€ попала в сердце. ¬ это врем€ над нами пролетает клин журавлей. ¬се подн€ли головы к небу, и она открыла глаза. ѕосмотрела: " ак жаль, девочки". ѕотом помолчала и улыбнулась нам: "ƒевочки, неужели € умру?" ¬ это врем€ бежит наш почтальон, наша лава, она кричит: "Ќе умирай! Ќе умирай! “ебе письмо из дома..." јн€ не закрывает глаза, она ждет... Ќаша лава села возле нее, распечатала конверт. ѕисьмо от мамы: "ƒорога€ мо€, любима€ доченька..." ¬озле мен€ стоит врач, он говорит: "Ёто - чудо. „удо!! ќна живет вопреки всем законам медицины..." ƒочитали письмо... » только тогда јн€ закрыла глаза..."

"ѕробыла € у него один день, второй и решаю: "»ди в штаб и докладывай. я с тобой здесь останусь". ќн пошел к начальству, а € не дышу: ну, как скажут, чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Ёто же фронт, это пон€тно. » вдруг вижу - идет в земл€нку начальство: майор, полковник. «дороваютс€ за руку все. ѕотом, конечно, сели мы в земл€нке, выпили, и каждый сказал свое слово, что жена нашла мужа в траншее, это же насто€ща€ жена, документы есть. Ёто же така€ женщина! ƒайте посмотреть на такую женщину! ќни такие слова говорили, они все плакали. я тот вечер всю жизнь вспоминаю... „то у мен€ еще осталось? «ачислили санитаркой. ’одила с ним в разведку. Ѕьет миномет, вижу - упал. ƒумаю: убитый или раненый? Ѕегу туда, а миномет бьет, и командир кричит: " уда ты прешь, чертова баба!!" ѕодползу - живой... ∆ивой!"
"ƒва года назад гостил у мен€ наш начальник штаба »ван ћихайлович √ринько. ќн уже давно на пенсии. «а этим же столом сидел. я тоже пирогов напекла. Ѕеседуют они с мужем, вспоминают... ќ девчонках наших заговорили... ј € как зареву: "ѕочет, говорите, уважение. ј девчонки-то почти все одинокие. Ќезамужние. ∆ивут в коммуналках. то их пожалел? «ащитил? уда вы подевались все после войны? ѕредатели!!" ќдним словом, праздничное настроение € им испортила... Ќачальник штаба вот на твоем месте сидел. "“ы мне покажи, - стучал кулаком по столу, - кто теб€ обижал. “ы мне его только покажи!" ѕрощени€ просил: "¬ал€, € ничего тебе не могу сказать, кроме слез".

"я до Ѕерлина с армией дошла... ¬ернулась в свою деревню с двум€ орденами —лавы и медал€ми. ѕожила три дн€, а на четвертый мама поднимает мен€ с постели и говорит: "ƒоченька, € тебе собрала узелок. ”ходи... ”ходи... ” теб€ еще две младших сестры растут. то их замуж возьмет? ¬се знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами... " Ќе трогайте мою душу. Ќапишите, как другие, о моих наградах..."
"ѕод —талинградом... “ащу € двух раненых. ќдного протащу - оставл€ю, потом - другого. » так т€ну их по очереди, потому что очень т€желые раненые, их нельз€ оставл€ть, у обоих, как это проще объ€снить, высоко отбиты ноги, они истекают кровью. “ут минута дорога, кажда€ минута. » вдруг, когда € подальше от бо€ отползла, меньше стало дыма, вдруг € обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца... я была в ужасе: там наши гибнут, а € немца спасаю. я была в панике... “ам, в дыму, не разобралась... ¬ижу: человек умирает, человек кричит... ј-а-а... ќни оба обгоревшие, черные. ќдинаковые. ј тут € разгл€дела: чужой медальон, чужие часы, все чужое. Ёта форма прокл€та€. » что теперь? “€ну нашего раненого и думаю: "¬озвращатьс€ за немцем или нет?" я понимала, что если € его оставлю, то он скоро умрет. ќт потери крови... » € поползла за ним. я продолжала тащить их обоих... Ёто же —талинград... —амые страшные бои. —амые-самые. ћо€ ты бриллиантова€... Ќе может быть одно сердце дл€ ненависти, а второе - дл€ любви. ” человека оно одно".

" ончилась война, они оказались страшно незащищенными. ¬от мо€ жена. ќна - умна€ женщина, и она к военным девушкам плохо относитс€. —читает, что они ехали на войну за женихами, что все крутили там романы. ’от€ на самом деле, у нас же искренний разговор, это чаще всего были честные девчонки. „истые. Ќо после войны... ѕосле гр€зи, после вшей, после смертей... ’отелось чего-то красивого. яркого. расивых женщин... ” мен€ был друг, его на фронте любила одна прекрасна€, как € сейчас понимаю, девушка. ћедсестра. Ќо он на ней не женилс€, демобилизовалс€ и нашел себе другую, посмазливее. » он несчастлив со своей женой. “еперь вспоминает ту, свою военную любовь, она ему была бы другом. ј после фронта он женитьс€ на ней не захотел, потому что четыре года видел ее только в стоптанных сапогах и мужском ватнике. ћы старались забыть войну. » девчонок своих тоже забыли..."
"ћо€ подруга... Ќе буду называть ее фамилии, вдруг обидитс€... ¬оенфельдшер... “рижды ранена. ончилась война, поступила в медицинский институт. Ќикого из родных она не нашла, все погибли. —трашно бедствовала, мыла по ночам подъезды, чтобы прокормитьс€. Ќо никому не признавалась, что инвалид войны и имеет льготы, все документы порвала. я спрашиваю: "«ачем ты порвала?" ќна плачет: "ј кто бы мен€ замуж вз€л?" - "Ќу, что же, - говорю, - правильно сделала". ≈ще громче плачет: "ћне бы эти бумажки теперь пригодились. Ѕолею т€жело". ѕредставл€ете? ѕлачет."
"ћы поехали в инешму, это »вановска€ область, к его родител€м. я ехала героиней, € никогда не думала, что так можно встретить фронтовую девушку. ћы же столько прошли, столько спасли матер€м детей, женам мужей. » вдруг... я узнала оскорбление, € услышала обидные слова. ƒо этого же кроме как: "сестричка родна€", "сестричка дорога€", ничего другого не слышала... —ели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет: "Ќа ком ты женилс€? Ќа фронтовой... ” теб€ же две младшие сестры. то их теперь замуж возьмет?" » сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочетс€. ѕредставл€ете: привезла € пластиночку, очень любила ее. “ам были такие слова: и тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить... Ёто о фронтовой девушке. я ее поставила, старша€ сестра подошла и на моих глазах разбила, мол, у вас нет никаких прав. ќни уничтожили все мои фронтовые фотографии... ’ватило нам, фронтовым девчонкам. » после войны досталось, после войны у нас была еще одна война. “оже страшна€. ак-то мужчины оставили нас. Ќе прикрыли. Ќа фронте по-другому было".
"Ёто потом чествовать нас стали, через тридцать лет... ѕриглашать на встречи... ј первое врем€ мы таились, даже награды не носили. ћужчины носили, а женщины нет. ћужчины - победители, герои, женихи, у них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами. —овсем другими... ” нас, скажу € вам, забрали победу... ѕобеду с нами не разделили. » было обидно... Ќепон€тно..."

"ѕерва€ медаль "«а отвагу"... Ќачалс€ бой. ќгонь шквальный. —олдаты залегли. оманда: "¬перед! «а –одину!", а они лежат. ќп€ть команда, оп€ть лежат. я сн€ла шапку, чтобы видели: девчонка подн€лась... » они все встали, и мы пошли в бой..."
»сточник: http://doseng.org/foto/81966-zhenschiny-uchastvuyu...boevyh-deystviyah-23-foto.html
http://fotolub.forblabla.com/blog/45649309098/ZHen...136643073&bpid=43136643073
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины, победившие фашизм. |
ƒневник |

ќ том, что русские женщины могут быть воинами, не уступающими мужчинам, в ≈вропе было известно еще в XVIII веке, за полстолети€ до выхода мемуаров легендарной кавалерист-девицы Ќадежды ƒуровой. »звестно было благодар€ героин€м, которые, переодевшись мужчинами, сражались во флотских экипажах, в славных морских сражени€х против турок и шведов при „есме (1770) и √огланде (1788).
¬новь об этом вспомнили в первые дни ¬еликой ќтечественной войны, когда около миллиона наших женщин всех профессий и возрастов вз€ли оружие дл€ защиты –одины и подали за€влени€ об отправке в действующую армию… 1942 году, только в системе ¬сеобуча, образованном 1 окт€бр€ 1941 года при Ќародном комиссариате обороны, в рамках молодежных подразделений было подготовлено свыше 222 тыс. девушек-воинов, включа€: 6097 минометчиц, 4522 станковых пулеметчиц, 7796 ручных пулеметчиц, 15290 стрелков-автоматчиц, 102333 стрелков-снайперов, 45509 св€зисток всех специальностей...

Ќаши женщины воевали во всех родах войск и ¬оенно-ћорском флоте. ќни составл€ли 25% всех бойцов противовоздушной обороны, защищавших наше небо. ќни были танкистами, морскими пехотинцами, разведчицами, артиллеристами, диверсантками, св€зистками, санинструкторами на передовой, партизанами от ƒона до Ћа-ћанша… »з женщин-летчиц было сформировано три авиационных полка. ƒвести тыс€ч женщин награждены боевыми орденами, 90 стали √еро€ми —оветского —оюза, свыше двухсот удостоены высшего знака солдатской доблести - ќрдена —лавы, который невозможно получить ни за какие заслуги, кроме подвига на поле бо€, четыре стали полными кавалерами этого ордена...
¬от лишь несколько портретов наших соотечественниц, сломавших хребет фашистскому зверю.
* *

≈вдоки€ Ќиколаевна «ј¬јЋ»…
«‘рау „Єрна€ смерть». –одилась 28 ма€ 1924 года в селе Ќовый Ѕуг Ќиколаевской области. √вардии полковник морской пехоты - единственна€ женщина, возглавл€вша€ действующий на передовой линии фронта разведвзвод морских пехотинцев. огда отбирали бойцов на передовую, «ƒусю» прин€ли за мужчину (была в гимнастЄрке и галифе) и направили в 6-ю десантную бригаду. «а вз€тие в плен немецкого офицера направлена в отделение разведки, командиром которого стала, после того как в одном из боЄв командир взвода был убит, а она подн€ла всех в атаку. ¬ этом же бою ранена, в госпитале открылось, что «≈вдоким», 8 мес€цев воевавший с десантниками, — девушка.
оманду€ взводом, освобождала —евастополь, штурмовала —апун-гору (за этот эпизод награждена орденом ќтечественной войны I степени), участвовала в бо€х за Ѕалаклаву, —ахарную √оловку и ерчь, переправл€лась через ƒнестровский лиман, освобождала Ѕессарабию, воевала за освобождение “амани, “уапсе, Ќовороссийска, высаживалась с десантом в румынскую онстанцу, болгарские ¬арну и Ѕургас, ёгославию. ¬ ходе Ѕудапештской наступательной операции захватила бункер немецкого командовани€. ¬ числе пленных оказалс€ генерал, за€вивший, что плен позорный, потому что командир десантников девушка. «а этот эпизод награждена орденом расного «намени. —о своим взводом перекрыла путь к отступлению немецким танкам. ƒесантники под еЄ командованием подбили 7 танков. авалер 4 боевых орденов и почти 40 медалей. ѕочЄтный гражданин 8 городов.
»з интервью ≈.Ќ.«авалий
…я ведь совсем девчонкой на войну попала, еще шестнадцати не стукнуло. “ри раза бегала к военкому, а он мне все: «ћолоко сначала подотри!» - « акое молоко?» «ћатерино, не обсохло еще!». Ќо фронт приближалс€, и вскоре война сама пришла за мной…
я после войны ещЄ долго по ночам ходила в атаку. ричала так, что соседи пугались. ј бабушка молилась и говорила маме: «Ёто нечистый дух из неЄ выходит!» Ќаверное, благодар€ этим еЄ молитвам живу до сих пор, хот€ трижды была похоронена…
—лова самые обычные: «¬звод! —лушай мою команду!» √олос-то у мен€ громкий всегда был, с детства песни пела под свой аккордеон. ѕоначалу, конечно, бывало, хмыкали хлопцы в мою сторону, но € внимани€ не обращала. Ќичего-ничего, думаю, € вам еще покажу кузькину мать! ¬олю в кулак, очи озверелые и - вперед! ’отелось нос мужикам утереть, показать, что могу воевать не хуже, если не лучше их. » они привыкли ко мне, зауважали. ≈сли бы не прин€ли как командира, сто раз была бы убита. ¬едь немцы охотились за мной, после того как узнали, что «черными комиссарами» командует женщина, но реб€та мои каждый раз выручали.
ѕоднимаю их в атаку: ««а мной!» ƒогон€ют и обход€т мен€, прикрыва€, бесстрашные, отча€нные - ∆ора ƒорофеев, ѕетро ћороз, —аша ожевников, три ƒимы - ¬аклерский, —обинов и —едых... аждый из п€тидес€ти п€ти моих автоматчиков до сих пор стоит перед глазами, хот€ никого из них уже нет в живых. ƒимка —едых бросилс€ под танк с последней гранатой, ћиша ѕаникахо заживо сгорел, облитый горючей смесью, но успел вскочить на вражеский танк и поджечь его, ¬ан€ ѕосевных... огда по€вилс€ во взводе, смерил презрительным взгл€дом: «Ѕабе подчин€тьс€ неохота!» ј в бо€х за Ѕудапешт он прикрыл мен€ от снайперского выстрела, подставив свою грудь... ƒо ѕобеды дошли только 16 моих реб€т, сегодн€ из нашего спецвзвода 83-й бригады морской пехоты осталась € одна.
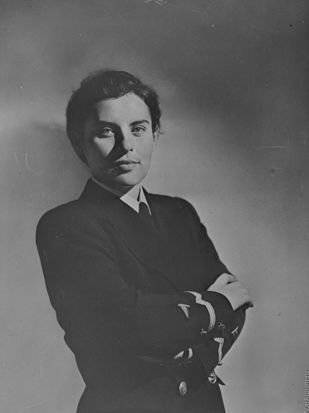
¬алентина ќ–Ћ» ќ¬ј
–одилась 19 феврал€ 1915 года. ≈динственна€ в мире женщина-капитан китобойного судна («Ўторм») и перва€ женщина-капитан траулера, ветеран ¬еликой ќтечественной войны, штурман на судах морского флота. √ерой —оциалистического труда.

ћари€ Ќикитична ÷” јЌќ¬ј
√ерой —оветского —оюза. –одилась 14 сент€бр€ 1924 года в деревне —мол€нки ќмской области в кресть€нской семье. Ќа флоте с июн€ 1942 года. ћатрос. ”частница высадки десанта (1945) в порт —ейсин („хончжин, оре€). —анинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты “ихоокеанского флота. ¬ынесла с пол€ бо€ более 50-ти т€желораненых десантников. –анена€ осколком, в бессознательном состо€нии, попала в плен к €понцам. 14 августа 1945 года замучена после долгих пыток о составе десанта, оставшись до последней минуты жизни верной воинскому долгу и прис€ге… ѕохоронена в братской могиле в г. ¬ладивостоке. Ќа месте гибели сооружЄн мемориал.
»з газеты « расна€ «везда» от 1 сент€бр€ 1945 года
…“ак же зверствовали они над санитаркой ћарией ÷укановой. ¬ то врем€ батальон пехоты вел т€желый бой с превосход€щими силами противника, ÷уканова перев€зывала раненных краснофлотцев, выносила их в укрытие. «атем она сама была ранена и от потери крови лишилась чувств. онтратакующие €понцы схватили ее и унесли. огда краснофлотцы завершили бой полным разгромом самураев, они обнаружили труп ÷укановой. японцы выкололи ей глаза, тело изрезали ножами.

≈катерина »лларионовна ƒ®ћ»Ќј
–одилась 22 декабр€ 1925 года в Ћенинграде. ”шла на фронт в 15 лет в июне 1941 года. —анинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты, старший санинструктор сводной роты Ѕерегового отр€да сопровождени€ ƒунайской военной флотилии. ¬месте с бойцами батальона отбивала контратаки врага, выносила с пол€ бо€ раненых. “рижды ранена. ≈динственна€ женщина, служивша€ в разведке морской пехоты. 22 августа 1944 года при форсировании ƒнестровского лимана в составе десанта одной из первых достигла берега, оказала первую помощь 17 т€желораненым матросам, подавила огонь крупнокалиберного пулемЄта, забросала гранатами дзот и уничтожила свыше 10 гитлеровцев. √ерой —оветского —оюза (к званию представл€лась трижды). ќ ней сн€ты несколько фильмов.

ћарионелла («√ул€») ¬ладимировна ќ–ќЋ®¬ј
–одилась 9 сент€бр€ 1922 года в ћоскве. Ќачала сниматьс€ в кино с 4 лет (фильмы « аштанка», «Ѕабы р€занские», «ƒочь партизана» и др.). ¬ августе 1941 года после рождени€ сына в ”фе зачислена в 214-ю стрелковую дивизию, формировавшуюс€ в Ѕашкирии. —анинструктор. 24 но€бр€ 1942 года во врем€ ожесточенной схватки под —талинградом вынесла с пол€ бо€ 50 т€желораненых бойцов и командиров с оружием. Ќа исходе дн€ пошла в атаку на высоту с группой бойцов. ѕод пул€ми перва€ ворвалась в окопы противника и гранатами уничтожила 15 человек. —мертельно ранена€, продолжала вести неравный бой, пока оружие не выпало из рук. 9 €нвар€ 1943 года награждена посмертно орденом расного «намени. »менем названа улица в ¬олгограде, им€ высечено золотом на знамени в «але воинской славы на ћамаевом кургане, в г. –овно установлен пам€тник. ≈й посв€щен фильм «„етверта€ высота», сн€тый по одноименной книге, и телефильм «√ул€ оролева».
»з за€влени€ ћ. оролЄвой об отправке добровольцем на фронт
я вижу смысл своей жизни в том, чтобы немедленно отправитьс€ на защиту —оветского ќтечества, на защиту своего сына.

«инаида ћихайловна “”—ЌќЋќЅќ¬ј-ћј–„≈Ќ ќ
√ерой —оветского —оюза. авалер ордена расной «везды. –одилась 23 но€бр€ 1920 года на хуторе Ўевцово ¬итебской области в кресть€нской семье. ‘ронтова€ санитарка. «а 8 мес€цев пребывани€ на фронте вынесла с пол€ бо€ 128 раненых. 2 феврал€ 1943 года в бою за станцию √оршечное урской области т€жело ранена, сутки пролежала среди трупов. ¬следствие обморожени€ лишилась рук и ног. Ќа бортах многих танков, самолЄтов и орудий по€вилс€ лозунг ««а «ину “уснолобову!». ќсенью 1965 года награждена ћеждународным омитетом расного реста медалью ‘лоренс Ќайтингейл.

ќткрытое письмо-обращение к воинам ѕервого ѕрибалтийского фронта гвардии старшины медицинской службы «.“уснолобовой
ќтомстите за мен€! ќтомстите за мой –одной ѕолоцк!
ѕусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Ёто пишет человек, которого фашисты лишили всего — счасть€, здоровь€, молодости. ћне 23 года. ”же 15 мес€цев € лежу, прикованна€ к госпитальной койке. ” мен€ теперь нет ни рук, ни ног. Ёто сделали фашисты.
я была лаборанткой-химиком. огда гр€нула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. «десь € участвовала в бо€х, выносила раненных. «а вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило мен€ орденом расной «везды. ¬сего € вынесла с пол€ бо€ 123 раненых бойца и командира.
¬ последнем бою, когда € бросилась на помощь раненому командиру взвода, ранило и мен€, перебило обе ноги. ‘ашисты шли в контратаку. ћен€ некому было подобрать. я притворилась мЄртвой. о мне подошЄл фашист. ќн ударил мен€ ногой в живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу…
» вот € инвалид. Ќедавно € научилась писать. Ёто письмо € пишу обрубком правой руки, котора€ отрезана выше локт€. ћне сделали протезы, и, может быть, € научусь ходить. ≈сли бы € хот€ бы ещЄ один раз могла вз€ть в руки автомат, чтобы расквитатьс€ с фашистами за кровь. «а муки, за мою исковерканную жизнь!
–усские люди! —олдаты! я была вашим товарищем, шла с вами в одном р€ду. “еперь € не могу больше сражатьс€. » € прошу вас: отомстите! ¬спомните и не щадите прокл€тых фашистов. »стребл€йте их, как бешеных псов. ќтомстите им за мен€, за сотни тыс€ч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. » пусть кажда€ девичь€ горюча€ слеза, как капл€ расплавленного свинца, испепелит ещЄ одного немца.
ƒрузь€ мои! огда € лежала в госпитале в —вердловске, комсомольцы одного уральского завода, прин€вшие шефство надо мной, построили в неурочное врем€ п€ть танков и назвали их моим именем. —ознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов, даЄт огромное облегчение моим мукам…
ћне очень т€жело. ¬ двадцать три года оказатьс€ в таком положении, в каком оказалась €… Ёх! Ќе сделано и дес€той доли того, о чЄм мечтала, к чему стремилась… Ќо € не падаю духом. я верю в себ€, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! я верю, в то, что –одина не оставит мен€. я живу надеждой, что горе мое не останетс€ неотомщЄнным, что немцы дорого заплат€т за мои муки, за страдани€ моих близких.
» € прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне!
¬спомните — и пусть каждый из вас убьЄт хот€ бы по одному фашисту!
«ина “уснолобова, гвардии старшина медицинской службы.
ћосква, 71, 2-й ƒонской проезд, д. 4-а, »нститут протезировани€, палата 52.
√азета «¬перЄд на врага», 13 ма€ 1944.

¬алентина ћ»ЋёЌј—
—анинструктор 125-го стрелкового полка 43-й гвардейской латышской дивизии. √вардии сержант. ¬ августе 1944 г. одной из первых форсировала реку јйвексте (бои по освобождению —оветской Ћатвии). Ѕойцы звали еЄ «Ћиесма» (латышск. ѕлам€, ќгонЄк).
јвиаци€

Ћиди€ ¬ладимировна Ћ»“¬я
—ама€ результативна€ женщина-истребитель ¬торой мировой. Ќа счету 14 подтвержденных сбитых самолЄтов противника. √ерой —оветского —оюза.

≈катерина «≈Ћ≈Ќ ќ
√ерой —оветского —оюза. Ћетчица 135-го ближне-бомбардировочного полка. 12 сент€бр€ 1941 года пошла на таран на бомбардировщике —у-2, сбила истребитель ће-109. ≈динственный в истории авиации случай воздушного тарана, успешно совершенного женщиной. —ама героин€ также была сбита, но уже когда пыталась посадить поврежденный самолет.

Ќаталь€ ‘едоровна ћ≈ Ћ»Ќ ( –ј¬÷ќ¬ј)
982 боевых вылета на бомбардировку живой силы и техники врага. Ќа фронтах с ма€ 1942 года. √ерой —оветского —оюза. 
ћари€ »вановна ƒќЋ»Ќј
«аместитель командира эскадрильи. –одилась 18 декабр€ 1922 года в деревне Ўаровка ќмской области. —била в группе 3 истребител€ противника. 72 успешных (зафиксированных фотосъЄмкой) боевых вылета. √ерой —оветского —оюза.

јлександра ‘едоровна ј »ћќ¬ј
–одилась 5 ма€ 1922 года в селе ѕетрушино –€занской области. √ерой —оветского —оюза, √ерой –оссийской ‘едерации, награждена орденами Ћенина, расного «намени, двум€ орденами ќтечественной войны I степени, орденами ќтечественной войны II степени, расной «везды, медал€ми ««а отвагу», ««а оборону авказа», ««а освобождение ¬аршавы» и другими медал€ми. ”частница парадов на расной площади (1995, 2000, 2005).
“анкисты

јлександра √ригорьевна —јћ”—≈Ќ ќ
омандир танкового батальона. –одилась в 1922 году. ”роженка ∆лобинщины (по другим данным – „иты). ¬ойну начала р€довым пехотного взвода, окончила училище танкистов. ”частница битвы на урской дуге. ѕогибла в марте 1945 года под Ѕерлином, выполн€€ ответственное задание как офицер разведки, успев выбратьс€ из гор€щей машины и бросить в огонь планшет с документами.

»з воспоминаний фотографа јнатоли€ ћорозова, сделавшего самый известный снимок ј.√.—амусенкоѕод ќрлом мне удалось познакомитьс€ с отважной девушкой, командиром танкового взвода гвардии старшим лейтенантом —ашей —амусенко. “анкова€ бригада, в которой она служила, как раз вышла из бо€. √л€д€ на ее жизнерадостное лицо, трудно себе представить, что в свои 23 года она успела столько пережить: много раз водила свой взвод в атаку, лично уничтожила несколько противотанковых орудий и много гитлеровцев, дважды горела, была ранена. «а боевые заслуги јлександру наградили орденом ќтечественной войны 1 степени, а вскоре орденом расной «везды.
(интервью газете "√удок" от 8 ма€ 2003 года)

ћари€ »вановна Ћј√”Ќќ¬ј
«‘рау ћересьев». „еловек огромной силы воли, жизнь которого похожа на легенду. –одилась в 1921 году в селе ќкольчиково под урганом, в многодетной семье, рано лишилась матери. Ќаписала письмо председателю ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– ћ.». алинину с просьбой помочь ей стать танкистом, чтобы отомстить за смерть на фронте любимого брата Ќикола€ и добилась отправки на фронт. ѕервый бой прин€ла на урской дуге. 28 сент€бр€ 1943 г. под иевом танк 22-летней механика-водител€ первым ворвалс€ на высоту, уничтожив гусеницами несколько огневых точек, противотанковую пушку с расчетом и до взвода солдат противника. ѕр€мым попаданием вражеского снар€да “-34 сержанта ћ.Ћогуновой был подбит, в результате ранени€ потер€ла обе ноги. Ќаучилась ходить на протезах, танцевать, водить мотоцикл и машину. ¬сего провела 13 боев. ¬ернулась в родной нижнетагильский полк, где служила телеграфисткой и настойчиво продолжала тренироватьс€ в ходьбе на протезах. ƒемобилизовалась в 1948 г. ¬оспитала двух сыновей. авалер ордена расной «везды.

≈катерина јлексеевна ѕ≈“Ћё (до и после войны)
ћеханик-водитель знаменитого легкого танка «“-60» «ћалютка», построенного на деньги дошкольников ќмска. —тарший сержант 56-й танковой бригады (рост 151 см). «а мес€ц переучилась в танкиста из пилота ќдесского аэроклуба ќсоавиахима, сдав все экзамены на «отлично». ¬ первый бой повела "ћалютку" под —талинградом в но€бре 1942 года. ”частница боев на урской дуге и ”краине. — окт€бр€ 1942 по февраль 1944 г.: 3 ранени€, 3 ордена, 12 медалей.

јда (јдель јлександровна) «јЌ≈√»Ќј
ѕисьмо в редакцию газеты "ќмска€ правда" (1942)
я - јда «анегина. ћне шесть лет. ѕишу по-печатному. √итлер выгнал мен€ из города —ычевка —моленской области. я хочу домой. ћаленька€ €, а знаю, что надо разбить √итлера и тогда поедем домой. ћама отдала деньги на танк. я собрала на куклу 122 рубл€ и 25 копеек. ј теперь отдаю их на танк. ƒорогой д€д€ редактор! Ќапишите в своей газете всем дет€м, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. » назовем его "ћалютка". огда наш танк разобьет √итлера, мы поедем домой.
јда.
ћо€ мама врач, а папа танкист.

Ќаталь€ ¬ладимировна ћјЋџЎ≈¬ј

ћонахин€ јдриана (Ќ.¬.ћјЋџЎ≈¬ј)
–одилась 12 декабр€ 1921 года в рыму в семье врача. Ќа фронте с 1941 года, воевала в дивизионной разведке. ≈е высоко ценили маршал . –окоссовский и авиаконструктор —. оролев. ѕосле войны 35 лет работала в ракетно-космической отрасли, в Ќ»»-88 в ѕодлипках (ныне оролЄв). ”частвовала в создании двигателей первых советских баллистических ракет и космических кораблей, в том числе «¬остока», на котором совершил полЄт ё.√агарин, и зенитно-ракетного комплекса —-75 ѕ.√рушина. Ћауреат международной премии ««а веру и верность». Ќа пенсии помогала обустраивать подворье —в€то-”спенского ѕюхтицкого женского монастыр€ в ћоскве. ¬ 2000 году прин€ла монашеский постриг под именем јдриана. ”шла из жизни 4 феврал€ 2012 года.

“амара ѕ–ќ’ќ–ќ¬ј
омандир минометной батареи 147-м —ѕ 49-й гвардейской стрелковой дивизии.
ѕодпольщицы и партизанки 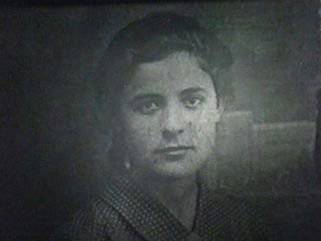
”ль€на ћатвеевна √–ќћќ¬ј
√ерой —оветского —оюза. –одилась 3 €нвар€ 1924 года в посЄлке ѕервомайка раснодонского района. ”хаживала за ранеными в госпитале. ¬ 1942 году окончила школу. ¬ период оккупации вместе с ј.ѕоповым организовала в посЄлке ѕервомайке патриотическую группу молодежи, вошедшую в состав «ћолодой гвардии». ¬ €нваре 1943 года была арестована гестапо. Ќа допросах отказалась давать какие-либо показани€. ѕосле пыток была брошена в шурф шахты є 5: «”ль€на √ромова, 19 лет, на спине у неЄ была вырезана п€тиконечна€ звезда, права€ рука переломана, поломаны ребра» (јрхив √Ѕ при —овмине ———–, д. 100−275, т. 8).
Ќадпись на стене фашистских застенков комсомолки подпольной раснодонской организации «ћолода€ гварди€» ”.ћ.√ромовой
ѕрощайте, папа, ѕрощайте, мама, ѕрощайте, вс€ мо€ родн€. ѕрощай, мой брат любимый ≈л€, Ѕольше не увидишь ты мен€. “вои моторы во сне мне сн€тс€, “вой стан в глазах всегда стоит. ћой брат любимый, € погибаю, репче стой за –одину свою. ƒо свидани€.
— приветом, √ромова ”л€. 15 €нвар€ 1943 г.

ѕрасковь€ »вановна —ј¬≈Ћ№≈¬ј
–одилась 5 окт€бр€ 1918 года в селе «арубино “верской губернии. –уководитель подпольной группы в Ћуцке. ќрганизовывала диверсии на железной дороге, выкрала у немцев образец секретного химического оружи€, переправленный затем в ћоскву. 22 декабр€ 1943 года по доносу предател€ арестована гестапо. 12 €нвар€ 1944 года после жестоких ист€заний и пыток сожжена заживо во дворе бывшего католического монастыр€ Ћуцка. ѕеред смертью на стене кельи є14, превращЄнной в камеру, нацарапала гвоздЄм записку.
Ќадпись подпольщицы ѕ.». —авельевой на стене тюремной камеры в Ћуцке
ѕриближаетс€ черна€, страшна€ минута! ¬се тело изувечено - ни рук, ни ног... Ќо умираю молча. —трашно умирать в 22 года. ак хотелось жить! ¬о им€ жизни будущих после нас людей, во им€ теб€, –одина, уходим мы... –асцветай, будь прекрасна, родима€, и прощай.
“во€ ѕаша, €нварь 1944 г.

ћари€ ‘илипповна ’ќ¬–≈Ќ ќ¬ј
–одилась в Ѕелоруссии в 1914 году. —ельска€ учительница. ¬ начале войны шесть сестер ’овренковых стали подпольщицами, затем партизанскими св€зными. ¬ыполн€ла особо важные задани€ командовани€: доставл€ла сведени€, помогавшие авиации громить военные объекты фашистов и оружие. ƒоставила в отр€д 15 винтовок, 4 пулемета, 200 кг тола, 24 тыс€чи патронов. ѕо доносу предател€ была арестована гестапо. ≈е пытали в присутствии 7-летнего сына. ƒикие издевательства над матерью так подействовали на ребенка, что впоследствии, не сумев оправитьс€ от психического потр€сени€, он умер. Ќе добившись от нее ни слова, гитлеровцы повесили партизанку. ѕосмертно награждена орденом ќтечественной войны.
ѕисьма партизанки ћ. ‘. ’овренковой из гестаповского застенка (1943)
ѕ»—№ћќ –ќƒЌџћ
«иночка, обо мне не ходатайствуй, ибо ты моего дела не знаешь, не трать средства и не убивай здоровь€, не расстраивайс€ и береги сама себ€, ибо ты у нас молода€, тебе жить нужно, обо мне не плачьте, € сама виновата, что заслужила, то получила.
«иночка, прошу много, много раз, не трать здоровь€. я жизни не жалею, ибо мо€ судьба така€, что € сколько живу... [ƒалее текст неразборчив] и сама тоже.
”важайте все сына за мен€, а мне простите, что вы за мен€ пережили, и берегите “олю, чтобы он не скучал. ќн, когда приносил передачу, очень плакал, когда увидел мен€, просто растер€лс€ и не знал, что ему делать, разрешили поцеловать. ѕосле, когда € его увидела, очень переживала, ну, ничего не сделаешь. ¬се заставит судьба пережить.
ќ, как жалею всех вас, что вам много переживать. ѕрошу, не плачьте, не одна € така€. —ейчас вижу — много людей переживают вс€кое горе. ”беждайте как можно маму, чтобы она не плакала.
ћила€ сестренка, не плачьте и передавайте Ќасте, пусть она не плачет. я на нее не обижаюсь. ѕусть смотрит деток. ѕривет –оману и тете “ать€не и ≈рмолаю, д€дине ћарии с ее детками и всей родне. «иночка, скажи јнне, чтобы она не плакала, и ‘руза и ћот€... [ƒалее текст неразборчив]
“ака€ €, вижу во сне часто Ўурку и ¬аню, и Ќадю, и “олика каждую ночь и вас всех, ‘рузу, ћотю и јню, «иночку и вижу всех родных. ÷елую Ќастю с ее детками и мужем, целую ћарусю с ее сыном, Ћену с ее детками и всех, которые живут.
я сейчас сижу в вашей камере, сидела 5 недель в камере смерти. “ам, где сидела вс€ семь€. ∆алейте моего сыночка. —иротку. Ѕуду при€ть [“ак в тексте] с того свету. ÷елую ћуру и “амару. Ќа мен€ не обижайтесь, не обижайте папу.
ѕ»—№ћќ —џЌ”
—лушайс€ родных. ’орошо учись, будь вежливым, не кури. Ќе ругайс€, учись играть на гармошке и на гитаре. ” теб€ есть способности. Ќа что есть способность, не выбрасывай из головы, не ленись. ¬се заучивай, дл€ теб€ будет не плохо. Ѕудешь помогать бабушке за мен€ и дедушке.
ѕомни маму, что у теб€ была она... [ƒалее текст неразборчив]
… €-таки утешалась тобой и ты мной, и вс€ наша радость. Ѕереги мои карточки. огда придет д€д€, зови его папой. ѕусть перешивают тебе папины костюмы. ѕапе ничего не блюди.
÷елую вас тыс€чи, тыс€чи раз. ∆елаю вам много раз счасть€, только не такого, как было у мен€, такого никому не желаю.

«ина ѕќ–“Ќќ¬ј
–одилась 20 феврал€ 1926 года в Ћенинграде в семье рабочего-белоруса. ќкончила 7 классов. ¬ начале июн€ 1941 года приехала на школьные каникулы в деревню «уи ¬итебской области. — 1942 года член ќбольской подпольной организации «ёные мстители», руководителем которой была будущий √ерой —оветского —оюза ≈.—.«енькова. — августа 1943 года разведчик партизанского отр€да им. .≈.¬орошилова. ¬ декабре 1943 года схвачена гестапо в деревне ћостище. Ќа одном из допросов в деревне √ор€ны ѕолоцкого района ¬итебской области, схватив со стола пистолет следовател€, застрелила его и ещЄ двух гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. ѕосле пыток расстрел€на в тюрьме ѕолоцка. ”казом ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– от 1 июл€ 1958 года «инаиде ћартыновне ѕортновой посмертно присвоено звание √еро€ —оветского —оюза с награждением орденом Ћенина.
–усские героини европейского —опротивлени€

√алина ‘едоровна –ќћјЌќ¬ј (второй снимок сделан в гестапо, хранитс€ в German Resistance Memorial Center)
–одилась 25 декабр€ 1918 года в селе –оманково ƒнепропетровской области. ѕодпольщица. ¬ июне 1942 года вместе с группой врачей вывезена на каторжные работы в √ерманию. –абота€ «русским доктором» в концлагер€х вокруг ќраниенбурга, где были расположены важные немецкие стратегические объекты, возглавила молодежную подпольную организацию сопротивлени€ «≈вропейский —оюз», включавшую французов, немцев и бельгийцев. ÷ель – диверсии на военных предпри€ти€х √ермании и организаци€ вооруженного восстани€. √руппа была раскрыта гестапо. —выше 100 дней провела в камере смертников тюрьмы ѕлетцензее в Ѕерлине. “екст обвинени€ содержит 29 страниц. 3 но€бр€ 1944 года была гильотинирована.
ѕоследнее слово участницы антифашистской подпольной группы «≈вропейский —оюз» √.‘.–омановой
я знаю, что мен€ ждет. Ќо такой мен€ воспитала –одина. я не унижусь перед вами и гордо приму смерть. ∆алею только об одном — мало пользы успела принести своей ќтчизне. ѕусть простит мен€ за это мой народ...
√. –оманова
18 феврал€ 1944 г.

јриадна јлександровна — –яЅ»Ќј
ƒочь русского композитора. ”частница движени€ —опротивлени€. ѕогибла в бою на юге ‘ранции с устроившими ей засаду полица€ми в июле 1944 г., за мес€ц до освобождени€ “улузы.
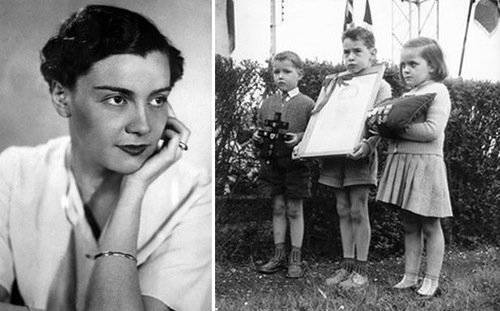
√енеральный секретарь подпольной Organisation Civile et Militaire («√ражданска€ и военна€ организаци€») ¬ера («¬ики») јполлоновна ќЅќЋ≈Ќ— јя и высшие награды ‘ранции, присужденные ей посмертно.
»з приказа фельдмаршала ћонтгомери
Ётим приказом € хочу запечатлеть мое восхищение перед услугами, оказанными ¬ерой ќболенской, котора€ в качестве добровольца ќбъединенных Ќаций отдала свою жизнь, дабы ≈вропа снова могла стать свободной.
6 ма€ 1946 года.
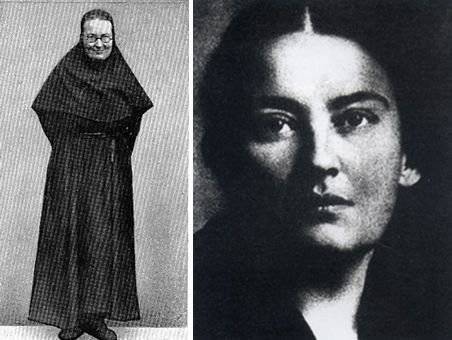
ћать ћари€ – в миру ≈лизавета ёрьевна — ќЅ÷ќ¬ј [ ”«№ћ»Ќј- ј–ј¬ј≈¬ј]
ћонахин€. √лава благотворительной организации «ѕравославное ƒело», известна€ де€тельница русской эмиграции и движени€ —опротивлени€ во ‘ранции, одна из самых необычных представительниц «—еребр€ного века». ѕогибла в газовой камере –авенсбрюка. 
“амара јлексеевна ¬ќЋ ќЌ— јя (на снимке « расна€ кн€гин€» с боевыми соратниками. ‘ранци€, 1945).
— 1941 года активна€ участница партизанского движени€. Ѕоролась с оружием в руках в р€дах партизанского отр€да капитана јлександра ’етаурова, участвовала в бо€х за освобождение многих городов юга-запада ‘ранции.
—найперы

Ћюдмила ѕј¬Ћ»„≈Ќ ќ
√ерой —оветского —оюза. 25-летним добровольцем на фронте с первых дней войны. Ћейтенант 25-й стрелковой дивизии им. ¬.».„апаева. ”частвовала в бо€х за ћолдавию, ќдессу и —евастополь, символом обороны которого стала. «а период оборонительных боев обучила множество снайперов. ѕо подтвержденным данным уничтожила 309 фашистов (в т. ч. 36 снайперов). јвтор книги "√ероическа€ быль". —читаетс€ самой успешной (результативной) женщиной-снайпером в истории. јмериканский певец ¬уди √атри написал про неЄ песню "Miss Pavlichenko" .
»з воспоминаний Ћ.ћ.ѕавличенко:
« огда € пошла воевать, сначала испытывала одну только злость за то, что немцы нарушили нашу мирную жизнь. Ќо все, что € увидела потом, породило во мне чувство такой неугасимой ненависти, что ее трудно выразить чем-нибудь иным, кроме как пулей в сердце гитлеровца. ¬ отбитой у врага деревне € видела труп 13-летней девочки. ≈е зарезали фашисты. ћерзавцы — так они демонстрировали свое умение владеть штыком! я видела мозги на стене дома, а р€дом труп 3-летнего ребенка. ‘ашисты жили в этом доме. –ебенок капризничал, плакал. ќн помешал отдыху этих зверей. ќни даже не позволили матери похоронить свое дит€. Ѕедна€ женщина сошла с ума… „то можно сказать о немце, в сумке которого € увидела отн€тую у нашего ребенка куклу и игрушечные часики? –азве можно назвать его человеком, воином?..
ƒень наш протекал так: не позднее как в 4 часа утра выходишь на место бо€, просиживаешь там до вечера. Ѕоем € называю свою огневую позицию. ≈сли не на место бо€, то уходили в тыл врага, но тогда отправл€лись не позже как в 3 часа ночи. Ѕывало и так, что целый день пролежишь, но ни одного фрица не убьЄшь. » вот если так 3 дн€ пролежишь и всЄ-таки ни одного не убьешь, то с тобой наверн€ка потом никто разговаривать не станет…»

–оза ≈горовна ЎјЌ»Ќј
авалер орденов —лавы 2 и 3 степени. огда началась война, пошла в военкомат проситьс€ на фронт. ќтказали: ей было всего 16 лет. ¬ действующих войсках со 2 апрел€ 1944 года. 59 подтверждЄнных уничтоженных солдат и офицеров противника, включа€ 12 снайперов. √азеты союзников называли Ўанину «невидимым ужасом ¬осточной ѕруссии». Ќаде€лась поступить после войны в университет; если не удастс€ — зан€тьс€ воспитанием детей-сирот. ѕогибла в бою 28 €нвар€ 1945 года во врем€ ¬осточно-ѕрусской операции, защища€ т€желораненого командира артиллерийского подразделени€.
»з письма –.Ўаниной
ѕередайте, пожалуйста, по назначению и посодействуйте мне. ≈сли бы ¬ы знали, как мне страстно хочетс€ быть вместе с бойцами на самом переднем крае и уничтожать гитлеровцев. » вот, представьте, вместо передовой - в тылу. ј недавно мы потер€ли еще четырех черными и одна красна€ очень (черные – убитые, красные – раненные). ’очу мстить за них.
ѕрошу ¬ас, поговорите, с кем следует, хот€ знаю, что ¬ы очень зан€ты.
29 июл€ 1944 года
»з дневника –.Ўаниной
¬чера вечером пошла погул€ть. ѕристал какой-то паренек. «ƒай, говорит, € теб€ поцелую. „етыре года девушек не целовал». » так посмотрел, что € расчувствовалась. «„ерт с тобой, говорю, целуй, только один раз». ј сама почти плачу от непон€тной жалости...
—одержание моего счасть€ — борьба за счастье других. —транно, почему в грамматике слово «счастье» — имеет единственное число? ¬едь это противопоказано его смыслу. … ≈сли нужно дл€ общего счасть€ погибнуть, то € готова к этому.
ѕоследнее письмо –озы Ўаниной
»звините за долгое молчание. ѕисать было совсем некогда. Ўла мо€ боева€ жизнь на насто€щем фронте. Ѕои были суровые, но € каким-то чудом осталась жива и невредима. Ўла в атаку в первых р€дах. ¬ы уж извините мен€ за то, что ¬ас не послушалась. —ама не знаю, но кака€-то сила влечет мен€ сюда, в огонь.
“олько что пришла в свою земл€нку и сразу села за письмо к ¬ам. ”стала, все-таки три атаки в день. Ќемцы сопротивл€лись ужасно. ќсобенно возле старинного имени€. ажетс€, от бомб и снар€дов все подн€то на воздух, у них еще хватает огн€, чтобы не подпускать нас близко. Ќу, ничего, к утру все равно одолеем их. —трел€ю по фашистам, которые высовываютс€ из-за домов, из люков танков и самоходок.
Ѕыть может, мен€ скоро убьют. ѕошлите, пожалуйста, моей маме письмо. ¬ы спросите, почему это € собралась умирать. ¬ батальоне, где € сейчас, из 78 человек осталась только 6. ј € тоже не св€та€.
Ќу, дорогой товарищ, будьте здоровы, извините за все.
–оза
17 €нвар€ 1945 года

≈лизавета ћ»–ќЌќ¬ј
ƒобровольцем на фронте с первых дней войны, сразу же после окончани€ средней школы в ћоскве. —ражалась в р€дах 255-й раснознамЄнной бригады морской пехоты „ерноморского флота. ”частница боЄв за ћалую землю, —евастополь и ќдессу. ”ничтожила пор€дка ста солдат и офицеров противника. ѕогибла в 1943 году в бою за Ќовороссийск.
»з воспоминаний солдата вермахта ’ассо √. —тахов
«…—амое крепкое €дро женщин в военной форме составл€ют снайперы. ќни воюют от райнего —евера до авказа. “ак, Ћюдмила ѕавличенко имеет на счету более 300 попаданий, 20-летн€€ Ћибо –уго - 242, “ари ¬утчинник - 155, ≈катерина ∆данова - 155, Ћиза ћиронова - около 100...»
“рагеди€ на Ќеве. Ѕои за Ћенинград 1941-1944. –ассказ очевидца. - ћюнхен: ’ербиг, 2001.

ћари€ —емЄновна ѕќЋ»¬јЌќ¬ј
√ерой —оветского —оюза. –одилась 24 окт€бр€ 1922 в деревне Ќарышкино “ульской области. Ќа фронте с окт€бр€ 1941 года. ”частница обороны ћосквы. — €нвар€ 1942 года снайпер 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии 1-й ”дарной армии —еверо-«ападного фронта. ”ничтожила около 140 врагов. 14 августа 1942 года около деревни —утоки Ќовгородской области вместе с подругой Ќатальей овшовой оборон€лась от наступавших гитлеровцев. огда кончились патроны и фашисты приблизились вплотную, подруги-снайперы подорвали последними гранатами себ€ вместе с окружившими их врагами.
«аметка ћ.ѕоливановой и Ќ. овшовой в газете ћосковского военного округа « расный воин» (написана в день прин€ти€ воинской прис€ги)
ћы, советские девушки-снайперы, вместе с бойцами нашего батальона принимаем прис€гу. аждый воин кл€лс€ в своей верности –одине и готовности защищать ее, не щад€ своей жизни... Ќаш девиз: лучше умереть сто€, чем жить на колен€х.
23 окт€бр€ 1941 года. 
Ќаталь€ ¬енедиктовна ќ¬Ўќ¬ј
√ерой —оветского —оюза. 21-летн€€ уроженка ”фы добровольцем ушла на фронт в окт€бре 1941 года. ”частвовала в обороне ћосквы. — €нвар€ 1942 года на —еверо-«ападном фронте. ”ничтожила 167 врагов. ¬месте с подругой-снайпером 19-летней ћарией ѕоливановой - организатор обучени€ снайперскому мастерству (подготовлено 26 снайперов полка, истребивших до 300 фашистов). 14 августа 1942 года вместе с ћ.ѕоливановой подорвали себ€ и окруживших их гитлеровцев.
ѕоследнее письмо Ќ.¬. овшовой матери Ќине ƒмитриевне јраловец (13 августа 1942 г., написано на почтовой открытке)
ћила€ мо€ мамусенька!
—егодн€ получила твое письмо с фотографией. “ы права — мне очень при€тно смотреть на нее. я то и дело ее достаю из кармана гимнастерки. ” мен€ уже нет ни одной своей фотографии — все куда-то исчезли. ƒа! ј ты получила мое фото, где мы с ћашенькой (подруга Ќ. овшовой — ћ. ѕоливанова. - Ќ.ћ.) сн€ты?
ћы совершили большой переход, примерно 115 км, и теперь наступаем в другом месте и с другой армией. ћесто здесь очень болотистое, гр€зь везде по колено. Ќу ничего, мы и здесь повоюем. ѕобьем прокл€тых гадов, чтобы им тошно стало. “ы ћашеньке напиши, чтобы она зр€ не надрывалась, а то с нею никакого сладу нет. я после ранени€ стала много осторожнее.
ј насчет денег ты мне не говори. –аз у вас есть чего покупать да еще такие вкусные вещи, то пусть лучше будут у теб€ деньги, а не у мен€. ћне они понадоб€тс€ только после войны. ѕлатьице хорошее купить. ј пока целую и обнимаю крепко.
“во€ Ќатус€. 
—оветска€ регулировщица ћари€ ЎјЋ№Ќ®¬ј (Ќ≈Ќј’ќ¬ј) в Ѕерлине. 2 ма€ 1945 года. 1,5 км до –ейхстага

¬ 1975 году в ∆одино (Ѕелорусси€) у дороги Ѕрест–ћосква открыт пам€тник ћатери-патриотке, прообразом которой стала јнастаси€ ‘оминична ”–—≈¬»„ ( ”ѕ–»яЌќ¬ј), потер€вша€ в годы ¬еликой ќтечественной войны п€терых сыновей.
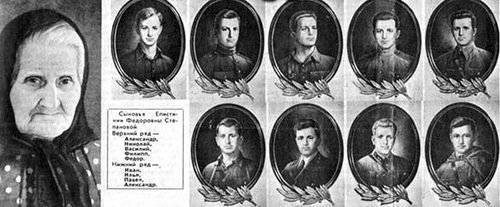
≈пистини€ ‘Єдоровна —“≈ѕјЌќ¬ј
ѕоложила на алтарь ѕобеды жизни дев€ти сыновей: јлександра, Ќикола€, ¬асили€, ‘илиппа, ‘едора, »вана, »льи, ѕавла и јлександра-младшего (√ерой —оветского —оюза). ”мерла в начале 1969 года, дожив до 94 лет. Ќаграждена ќрденами «ћать-героин€» и ќтечественной войны I степени. ѕохоронена в станице ƒнепровской, где в символическую братскую могилу легли и ее сыновь€.
јвтор Ќиколай ћалишевский
ѕервоисточник http://www.fondsk.ru http://topwar.ru/25170-zhenschiny-pobedivshie-fashizm.html
http://blogs.mail.ru/mail/bolivarsm/5CE6A64A1CDDD250.html
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины на войне. |
ƒневник |

“алантливый писатель ’айнлайн когда-то справедливо заметил, говор€ о геро€х своей книги - десантниках: " ак сохранить в этом человеке веру и мужество? ак сделать, чтобы он от выброса к выбросу училс€ преодолевать себ€? ≈динственный выход — чтобы он посто€нно видел перед собой живой идеал, олицетворение той трепетной, требующей защиты жизни, ради которой идет в бой". ¬озможно, женщине не место на войне, хот€ день сегодн€шний это смело опровергает. ќднако тогда, много лет назад, женщины зан€ли те места в строю, откуда смерть забрала их мужчин. ќни сделали это сознательно. » мы можем лишь с уважением и любовью смотреть в их лица, как наверн€ка смотрели тогда наши деды и прадеды.
ƒевчонки из 1-й ∆енской добровольческой стрелковой бригады получают оружие.
—андружинницы ё. »вашина и ћ. ћедведева, Ћенинградский фронт. —корее всего, ёл€ и ћаша.
√ражданска€ молодежь женского пола прибыла учитьс€ на снайперов в “верь. ƒобровольцы, естественно, дл€ женщин призыва не было. 1942 г.
ѕодольска€ школа снайперов. ¬ строю не до шуточек
"√рудь четвертого человека". ѕеред отправкой на фронт.
ƒевчонки-снайперы.
—найперы р€довой ≈катерина √оловаха, 19 лет, и ст. сержант Ќина оваленко, 18 лет. “оварищ старший сержант имеет на груди ордена ¬еликой ќтечественной войны, расной «везды и —лавы III степени. ¬се давались за личный подвиг.
—найпер 255 бригады морской пехоты „ерноморского флота, старший краснофлотец ≈лизавета ћиронова в районе Ќовороссийска. Ћичный счет — около сотни солдат и офицеров противника. 10 сент€бр€ 1943 года в бо€х за Ќовороссийск была т€жело ранена и 29 сент€бр€ умерла в госпитале. ≈й было 19 лет. ѕохоронена в городе √еленджик.
ѕолевой телеграф. »сключительно женский отдел.
ѕерва€ помощь на передовой, в гр€зи, в лужах. ј после раненого нужно утащить в тыл, не забыв про свое и его личное оружие. ѕримерьте на себ€ такую ношу.
расотка из 1 √вардейского кавкорпуса
«наменитое фото. оротка€ пауза между бо€ми...
ѕулеметчица «ина озлова из кавкорпуса генерала Ѕелова. ћоргнула от смущени€.
—трелок-оружейник лавди€ ≈фимова.
"Ќочные ведьмы". —лева - √ерои —оветского —оюза –уфина √ашаева, Ќадежда —еброва, Ќаталь€ ћеклин.
—трелок-радист помогает надеть парашют своему пилоту, ≈вдокие Ѕезменовой (ћамаевой). ¬ двадцать лет она стала командиром боевого экипажа бомбардировщика ј-1 "Ѕостон". ¬ экипаж кроме нее, командира, входили ещЄ трое мужчин. ѕосле войны жила в «апорожье.
∆енщины-летчицы, "планерка".
√вардии капитан ћари€ ƒолина, замкомандира эскадрильи 125-го √вардейского бомбардировочного авиаполка. ¬ыполнила 72 боевых вылета на самолЄте ѕе-2, сбросила 45000 килограммов бомб. Ёкипаж ƒолиной в шести воздушных бо€х сбил три истребител€ противника. √ерой —оветского —оюза. ѕосле войны жила в иеве, умерла в 2010 году.
‘ронтовой корреспондент.
ƒевушки-зенитчицы, дальномерный пост
ћари€ ¬асильевна ќкт€брьска€, √ерой —оветского —оюза. ¬оевала на танке, построенном на ее деньги от продажи собственного дома после гибели мужа.
√ерой —оветского —оюза, главстаршина морской пехоты ≈катерина ћихайлова (ƒемина) и ее безнадежно влюбленные сослуживцы. ∆ивет в ћоскве.
≈динственна€ женщина-командир взвода автоматчиков морской пехоты ≈вдоки€ «авалий, матрос ѕр€моруков и старшина 2 статьи —едых. ѕосле войны жила в иеве. ”мерла в 2010 году, накануне ƒн€ ѕобеды.
–егулировщица “ан€ јлександрова показывает где Ѕерлин...
...а регулировщица ћари€ Ўальнова там уже ждет.
—пасибо ¬ам за ѕобеду!..
ћетки: у войны женское лицо |
‘ронтовые корреспонденты-женщины |
ƒневник |


Ќаталь€ Ѕоде

ћетки: у войны женское лицо |
–усские женщины в ¬еликой ќтечественной войне |
ƒневник |

ƒанный текст составлен на основе дневниковых записей ¬ладимира »вановича “рунина, о котором мы не раз уже рассказывали нашим читател€м. Ёто информаци€ уникальна тем, что передаЄтс€ из первых рук, от танкиста, прошедшего на танке всю войну.
ƒо ¬еликой ќтечественной войны женщины в част€х расной јрмии не служили. Ќо нередко «несли службу» на пограничных заставах вместе со своими мужь€ми-пограничниками.
—удьбы этих женщин с приходом войны сложились трагически: больша€ их часть погибла, лишь единицы сумели выжить в те страшные дни. Ќо об этом € потом расскажу отдельно…
августу 1941-го года стало очевидно, что без женщин никак не обойтись.
ѕервыми на службу в расную јрмию заступили женщины- медработники: развЄртывались медсанбаты (медикосанитарные батальоны), ѕѕ√ (полевые подвижные госпитали), Ё√ (эвакогоспитали) и санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие медсЄстры, врачи и санитарки. ѕотом в расную јрмию военкомы стали призывать св€зисток, телефонисток, радисток. ƒошло до того, что почти все зенитные части были укомплектованы девушками и молодыми незамужними женщинами в возрасте от 18 до 25 лет. —тали формироватьс€ женские авиационные полки. 1943-му году в расной јрмии служили в разное врем€ от 2 до 2.5 миллионов девушек и женщин.
¬оенкомы призывали в армию самых здоровых, самых образованных, самых красивых девушек и молодых женщин. ¬се они показали себ€ очень хорошо: это были храбрые, очень стойкие, выносливые, надЄжные бойцы и командиры, были награждены боевыми орденами и медал€ми за храбрость и отвагу, про€вленную в бою.
Ќапример, полковник ¬алентина —тепановна √ризодубова, √ерой —оветского —оюза, командовала авиационной бомбардировочной дивизией дальнего действи€ (јƒƒ). Ёто еЄ 250 бомбардировщиков »Ћ4 вынудили в июле-августе 1944 года капитулировать ‘инл€ндию.
ќ девушках-зенитчицах
ѕод любой бомбЄжкой, под любым обстрелом они оставались у своих орудий. огда войска ƒонского, —талинградского и ёго-«ападного фронтов замкнули кольцо окружени€ вокруг вражеских группировок в —талинграде, немцы попытались организовать воздушный мост с зан€той ими территории ”краины в —талинград. ƒл€ этого весь военно-транспортный воздушный флот √ермании был переброшен под —талинград. Ќаши русские девушки-зенитчицы организовали зенитный заслон. ќни за два мес€ца сбили 500 трЄхмоторных германских самолЄтов ёнкерс 52.
роме того, они сбили ещЄ 500 самолЄтов других типов. “акого разгрома немецкие захватчики не знали ещЄ никогда и нигде в ≈вропе.
Ќочные ведьмы
∆енский полк ночных бомбардировщиков подполковника гвардии ≈вдокии Ѕершанской, лета€ на одномоторных самолЄтах ”-2, бомбил немецкие войска на ерченском полуострове в 1943-м и в 1944-м годах. ј позже в 1944-45 гг. воевал на первом Ѕелорусском фронте, поддержива€ войска маршала ∆укова и войска 1-й армии ¬ойска ѕольского.
—амолЄты ”-2 (с 1944 г. - ѕо-2, в честь конструктора Ќ.ѕоликарпова) летали ночью. Ѕазировались они в 8-10 км от линии фронта. ¬злЄтно-посадочна€ полоса им нужна была небольша€, всего метров 200. «а ночь в бо€х за ерченский полуостров они делали по 10-12 вылетов. ЌЄс ”2 до 200 кг бомб на рассто€ние до 100 км в немецкий тыл. . «а ночь они сбрасывали на немецкие позиции и укреплени€ каждый до 2-х тонн бомб и зажигательных ампул. цели они подходили с выключенным двигателем, бесшумно: у самолЄта были хорошие аэродинамические свойства: ”-2 мог спланировать с высоты 1 километр на рассто€ние от 10 до 20 километров. —бить немцам их было трудно. я сам видел много раз, как немецкие зенитчики водили крупнокалиберными пулемЄтами по небу, пыта€сь найти бесшумный ”2.
—ейчас паны-пол€ки не помн€т, как русские красавицы-лЄтчицы зимой 1944 года сбрасывали гражданам ѕольши, восставшим в ¬аршаве против германских фашистов, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты….
Ѕела€ лили€
Ќа ёжном фронте под ћелитополем и в мужском истребительном полку воевала русска€ девушка-лЄтчица, которую звали Ѕела€ Ћили€. —бить еЄ в воздушном бою было невозможно. Ќа борту еЄ истребител€ был нарисован цветок – бела€ лили€.
ќднажды полк возвращалс€ с боевого задани€, Ѕела€ Ћили€ летела замыкающей – такой чести удостаиваютс€ только самые опытные лЄтчики.
Ќемецкий истребитель ће-109 караулил еЄ, спр€тавшись в облаке. ƒал по Ѕелой Ћилии очередь и снова скрылс€ в облаке. –аненна€, она развернула самолЄт и бросилась за немцем. ќбратно она так и не вернулась… ”же после войны еЄ останки были случайно обнаружены местными мальчишками, когда те ловили ужей в братской могиле в селе ƒмитриевка, Ўахтерского района ƒонецкой области.
Miss Pavlichenko
¬ ѕриморской јрмии воевала одна среди мужчин – мор€ков девушка – снайпер. Ћюдмила ѕавличенко. июлю 1942 года на счету Ћюдмилы было уже 309 уничтоженных германских солдат и офицеров (в том числе 36 снайперов противника).
¬ том же 1942 году ее направили с делегацией в анаду и —оединЄнные  Ўтаты. ¬ ходе поездки она была на приЄме у ѕрезидента —оединЄнных Ўтатов ‘ранклина –узвельта. ѕозже Ёлеонора –узвельт пригласила Ћюдмилу ѕавличенко в поездку по стране. јмериканский певец в стиле кантри ¬уди √атри написал про неЄ песню «Miss Pavlichenko».
Ўтаты. ¬ ходе поездки она была на приЄме у ѕрезидента —оединЄнных Ўтатов ‘ранклина –узвельта. ѕозже Ёлеонора –узвельт пригласила Ћюдмилу ѕавличенко в поездку по стране. јмериканский певец в стиле кантри ¬уди √атри написал про неЄ песню «Miss Pavlichenko».
¬ 1943 году ѕавличенко было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза.
««а «ину “уснолобову!»
—анинструктор полка (медицинска€ сестра) «ина “уснолобова воевала в стрелковом полку на алининском фронте под ¬еликими Ћуками.
Ўла в первой цепи вместе с бойцами, перев€зывала раненых. ¬ феврале 1943 году в бою за станцию √оршечное урской области, пыта€сь оказать помощь раненому командиру взвода, сама была т€жело ранена: ей перебило ноги. ¬ это врем€ немцы перешли в контратаку. “уснолобова попыталась притворитьс€ мЄртвой, но один из немцев заметил еЄ, и ударами сапог и приклада попыталс€ добить санитарку.
Ќочью, подающа€ признаки жизни санитарка была обнаружена разведгруппой, перенесена в расположение советских войск и на третий день доставлена в полевой госпиталь. ” неЄ были отморожены кисти рук и нижние части ног, пришлось ампутировать. ¬ышла из госпитал€ на протезах и с протезами рук. Ќо не пала духом.
ѕоправилась. ¬ышла замуж. –одила троих детей и вырастила их. ѕравда, растить детей ей помогала еЄ мама. —кончалась в 1980 году в возрасте 59 лет.
«ина “уснолобова - автор письма-призыва к воинам 1-го ѕрибалтийского, она получила более 3000 откликов, и вскоре лозунг ««а «ину “уснолобову!» по€вилс€ на бортах многих танков, самолЄтов и орудий.
ѕисьмо «инаиды зачитывали солдатам в част€х перед штурмом ѕолоцка:
ќтомстите за мен€! ќтомстите за мой –одной ѕолоцк!
ѕусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Ёто пишет человек, которого фашисты лишили всего — счасть€, здоровь€, молодости. ћне 23 года. ”же 15 мес€цев € лежу, прикованна€ к госпитальной койке. ” мен€ теперь нет ни рук, ни ног. Ёто сделали фашисты.
 я была лаборанткой-химиком. огда гр€нула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. «десь € участвовала в бо€х, выносила раненных. «а вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило мен€ орденом расной «везды. ¬сего € вынесла с пол€ бо€ 123 раненых бойца и командира.
я была лаборанткой-химиком. огда гр€нула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. «десь € участвовала в бо€х, выносила раненных. «а вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило мен€ орденом расной «везды. ¬сего € вынесла с пол€ бо€ 123 раненых бойца и командира.
¬ последнем бою, когда € бросилась на помощь раненому командиру взвода, ранило и мен€, перебило обе ноги. ‘ашисты шли в контратаку. ћен€ некому было подобрать. я притворилась мЄртвой. о мне подошЄл фашист. ќн ударил мен€ ногой в живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу…
» вот € инвалид. Ќедавно € научилась писать. Ёто письмо € пишу обрубком правой руки, котора€ отрезана выше локт€. ћне сделали протезы, и, может быть, € научусь ходить. ≈сли бы € хот€ бы ещЄ один раз могла вз€ть в руки автомат, чтобы расквитатьс€ с фашистами за кровь. «а муки, за мою исковерканную жизнь!
–усские люди! —олдаты! я была вашим товарищем, шла с вами в одном р€ду. “еперь € не могу больше сражатьс€. » € прошу вас: отомстите! ¬спомните и не щадите прокл€тых фашистов. »стребл€йте их как бешеных псов. ќтомстите им за мен€, за сотни тыс€ч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. » пусть кажда€ девичь€ горюча€ слеза, как капл€ расплавленного свинца, испепелит ещЄ одного немца.
ƒрузь€ мои! огда € лежала в госпитале в —вердловске, комсомольцы одного уральского завода, прин€вшие шефство надо мной, построили в неурочное врем€ п€ть танков и назвали их моим именем. —ознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов, даЄт огромное облегчение моим мукам…
ћне очень т€жело. ¬ двадцать три года оказатьс€ в таком положении, в каком оказалась €… Ёх! Ќе сделано и дес€той доли того, о чЄм мечтала, к чему стремилась… Ќо € не падаю духом. я верю в себ€, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! я верю, в то, что –одина не оставит мен€. я живу надеждой, что горе мое не останетс€ неотомщЄнным, что немцы дорого заплат€т за мои муки, за страдани€ моих близких.
» € прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне!
¬спомните — и пусть каждый из вас убьЄт хот€ бы по одному фашисту!
— «ина “уснолобова, гвардии старшина медицинской службы.
ћосква, 71, 2-й ƒонской проезд, д. 4-а, »нститут протезировани€, палата 52.
√азета «¬перЄд на врага», 13 ма€ 1944.
“анкистки
” танкиста очень т€жЄла€ работа: грузить снар€ды, собирать и ремонтировать разбитые гусеницы,работать лопатой, ломом, кувалдой, таскать брЄвна. » чаще всего под вражеским огнЄм.
¬ 220-й танковой бригаде “-34 была у нас на Ћенинградском фронте механиком-водителем техник-лейтенант ¬ал€ рикалЄва. ¬ бою немецка€ противотанкова€ пушка разбила гусеницу еЄ танка. ¬ал€ выскочила из танка и стала чинить гусеницу. Ќемецкий пулемЄтчик прострочил еЄ наискосок по груди. “оварищи не успели прикрыть еЄ. “ак ушла в вечность замечательна€ девушка-танкистка. ћы, танкисты с Ћенинградского фронта, до сих пор помним еЄ.
Ќа «ападном фронте в 1941 году сражалс€ на “-34 командир роты танкист капитан ќкт€брьский. ѕогиб смертью храбрых в августе 1941. ќставша€с€ в тылу молода€ жена ћари€ ќкт€брьска€ решила отомстить немцам за гибель своего мужа.
 ќна продала свой дом, всЄ имущество и обратилась с письмом к ¬ерховному √лавнокомандующему —талину »осифу ¬иссарионовичу с просьбой позволить ей на вырученные средства купить танк “-34 и отомстить немцам за убитого ими мужа-танкиста:
ќна продала свой дом, всЄ имущество и обратилась с письмом к ¬ерховному √лавнокомандующему —талину »осифу ¬иссарионовичу с просьбой позволить ей на вырученные средства купить танк “-34 и отомстить немцам за убитого ими мужа-танкиста:
ћосква, ремль ѕредседателю √осударственного омитета обороны. ¬ерховному √лавнокомандующему.
ƒорогой »осиф ¬иссарионович!
¬ бо€х за –одину погиб мой муж — полковой комиссар ќкт€брьский »ль€ ‘едотович. «а его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, дл€ чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережени€ — 50 000 рублей. “анк прошу назвать «Ѕоева€ подруга» и направить мен€ на фронт в качестве водител€ этого танка. »мею специальность шофЄра, отлично владею пулемЄтом, €вл€юсь ворошиловским стрелком.
Ўлю ¬ам гор€чий привет и желаю здравствовать долгие, долгие годы на страх врагам и на славу нашей –одины.
ќ “яЅ–№— јя ћари€ ¬асильевна.
г. “омск, Ѕелинского, 31
—талин приказал прин€ть ћарию ќкт€брьскую в ”ль€новское танковое училище, обучить еЄ, дать ей танк “-34. ѕосле окончани€ училища ћарии было присвоено воинское звание техник-лейтенант механик-водитель.
≈Є послали на тот участок алининского фронта, где воевал еЄ муж.
17 €нвар€ 1944 года в районе станции рынки ¬итебской области снар€дом у танка «Ѕоева€ подруга» был разбит левый ленивец. ћеханик ќкт€брьска€ пыталась под огнЄм противника устранить повреждени€, но осколок разорвавшейс€ поблизости мины т€жело ранил еЄ в глаз.
¬ полевом госпитале ей сделали операцию, а потом на самолЄте доставили в фронтовой госпиталь, но ранение оказалось слишком т€желым, и она скончалась в марте 1944.
ат€ ѕетлюк – одна из дев€тнадцати женщин, чьи нежные руки водили танки на врага. ат€ была командиром лЄгкого танка “-60 на ёго-«ападном фронте западнее —талинграда.
ате ѕетлюк досталс€ легкий танк «“-60». ƒл€ удобства в бою кажда€ машина имела свое им€. »мена танков все были внушительные: «ќрел», «—окол», «√розный», «—лава», а на башне танка, который получила ат€ ѕетлюк, было выведено необычное – «ћалютка».
“анкисты посмеивались: «¬от уже в точку попали – малютка в «ћалютке».
“анк еЄ был св€зным. ќна шла позади “-34, и, если какой-то из них был подбит, то она подходила на своЄм “-60 к подбитому танку и помогала танкистам, доставл€ла запчасти, была св€зной. ƒело в том, что не на всех “-34 были радиостанции.
Ћишь спуст€ много лет после войны старший сержант из 56-й танковой бригады ат€ ѕетлюк узнала историю рождени€ своего танка: оказываетс€, он был построен на деньги омских детей-дошкольников, которые, жела€ помочь расной јрмии, отдали на строительство боевой машины свои накопленные на игрушки и куклы. ¬ письме к верховному √лавнокомандующему они просили назвать танк «ћалютка». ƒошкольники ќмска собрали 160 886 рублей…
„ерез пару лет ат€ уже вела в бой танк «“-70» (с «ћалюткой» все же пришлось расстатьс€). ”частвовала в битве за —талинград, а затем в составе ƒонского фронта в окружении и разгроме гитлеровских войск. ”частвовала в сражении на урской дуге, освобождала левобережную ”краину. Ѕыла т€жело ранена – в 25 лет стала инвалидом 2-й группы.
ѕосле войны - жила в ќдессе. —н€в офицерские погоны, выучилась на юриста и работала заведующей бюро загса.
Ќаграждена орденом расной «везды, орденом ќтечественной войны II степени, медал€ми.
—пуст€ много лет ћаршал —оветского —оюза ». ». якубовский, бывший командир 91-й отдельной танковой бригады, напишет в книге ««емл€ в огне»: «...а вообще-то трудно измерить, во сколько крат возвышает героизм человека. ќ нем говор€т, что это — мужество особого пор€дка. »м, безусловно, обладала участница —талинградской битвы ≈катерина ѕетлюк».
ѕо материалам дневниковых записей ¬ладимира »вановича “рунина и сети »нтернет.
http://www.kramola.info/vesti/rusy/russkie-zhenwiny-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
ћетки: у войны женское лицо |
“анкист ћари€ Ћагунова - женщина стальной воли |
ƒневник |
ѕредлагаем вашему вниманию главу "–ассказ о насто€щем человеке" из книги —ерге€ —мирнова "–ассказы о неизвестных геро€х", посв€щЄнный женщине-танкисту ћарии Ћагуновой, котора€ в одном из боЄв лишилась ног, но тем не менее продолжила службу.
ѕредлагаем вашему вниманию главу "–ассказ о насто€щем человеке" из книги —ерге€ —мирнова "–ассказы о неизвестных геро€х", посв€щЄнный женщине-танкисту ћарии Ћагуновой, котора€ в одном из боЄв лишилась ног, но тем не менее продолжила службу.
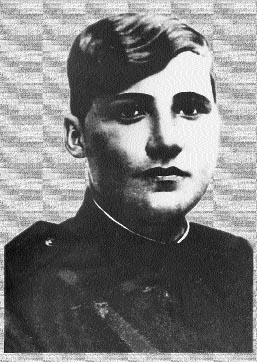
—начала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрител€ и ветерана войны из далекого уральского городка. “о был рассказ о девушке-танкисте ћарусе Ћагуновой, потер€вшей в бою обе ноги, но сумевшей снова встать в строй —оветской јрмии, о девушке, котора€ по своей судьбе была как бы родной сестрой "насто€щего человека" јлексе€ ћаресьева. ѕотом начались многомес€чные поиски через телевидение, пока следы не привели сперва в столицу ”рала —вердловск, а потом на ”краину, в город ’мельницкий, где находитс€ сейчас жива€ героин€ этой истории ћари€ »вановна Ћагунова. » когда в моих руках собрались и свидетельства друзей и очевидцев и воспоминани€ самой ћ. ». Ћагуновой, вы€снилось, как это нередко случаетс€, что быль оказалась еще более необыкновенной, чем возникша€ из нее легенда. ¬прочем, есть биографии, которые не нуждаютс€ в комментари€х, — они говор€т сами за себ€. »менно такова биографи€ ћарии Ћагуновой.
∆изнь почти сразу обошлась неласково с девочкой, родившейс€ в 1921 году в далеком степном селе ќкольничково урганской области. ≈й было четыре года, когда умерла мать и в большую кресть€нскую семью из 12 человек пришла мачеха, зла€, как в народных сказках, и особенно невзлюбивша€ младшую падчерицу — ћарусю. ƒети, едва став подростками, разъезжались из дому, рано начинали самосто€тельную жизнь. ¬ 10 лет ћарусю, к счастью, вз€ла к себе старша€ сестра, работавша€ на железной дороге в —вердловске.
¬ школу девочка ходила всего п€ть лет. ѕотом пришлось бросить учебу и идти в н€ньки, в домработницы, — заработка сестры не хватало. Ўестнадцати лет ћарус€ пришла на свердловскую фабрику "”ралобувь". —начала была чернорабочей, а в 1941 году, когда началась война, она уже работала дежурным электриком цеха.
”шел на фронт старший и любимый ее брат Ќиколай. „ерез несколько дней ћарус€ тоже €вилась в военкомат и просили послать ее в армию. ≈й ответили, что на фабрике тоже нужны люди. Ќо она была настойчива и пришла во второй, в третий раз... ¬ конце концов военком сдалс€ и послал ее учитьс€ в школу военных трактористов в „ел€бинскую область. «имой 1942 года она уже служила в батальоне аэродромного обслуживани€ на ¬олховском фронте, в нескольких километрах от передовых позиций.
—лужба была т€желой: порой она круглые сутки сидела за рычагами трактора, очища€ аэродром от снега или доставл€€ бомбардировщикам горючее, боеприпасы. ¬ батальоне были и другие девушки-трактористки, но ћарус€ Ћагунова показала себ€ самой крепкой, выносливой, и ей приходилось выполн€ть наиболее трудные и ответственные задани€. ѕерегрузка и посто€нное недосыпание сказались на ее здоровье, и осенью 1942 года сильнейшее воспаление легких на два мес€ца уложило ее в госпиталь. ќттуда она попала в запасной полк, где ее сделали киномехаником, не обраща€ внимани€ на настойчивые просьбы отправить на фронт.
¬ феврале 1943 года в полк приехал военный представитель с ”рала — отбирать несколько сот человек на курсы танкистов — механиков-водителей, башнеров, радистов. огда ћарус€ Ћагунова пришла к нему, прос€ вз€ть и ее, военпред только усмехнулс€ такой наивности.
— „то вы, девушка! — укоризненно сказал он. — “анкист — это чисто мужска€ професси€. ∆енщин в танки не берут, как и на военные корабли. Ёто уж закон.
ќна ушла удрученна€, но не примиривша€с€ с отказом. ј на другой день почта принесла письмо от сестры с т€жкой вестью: смертью храбрых погиб на войне брат Ќиколай. Ќа это горе ћарус€ реагировала не только слезами — она села и написала письмо в ћоскву ћихаилу »вановичу алинину. „ерез несколько дней военпред получил приказ прин€ть ћарию Ћагунову в число курсантов. ≈му оставалось только подчинитьс€.
“ак среди 700 мужчин, будущих танкистов, приехавших в марте в город Ќижний “агил, оказалась одна девушка. омандование учебной танковой части сначала прин€ло это как чью-то неуместную шутку. Ќо когда вы€снилось, что есть распор€жение из ћосквы, а сама девушка всерьез желает стать механиком-водителем танка, командиры решили прибегнуть к уговорам.
— ѕоймите, это не девичь€ служба, — убеждали Ћагунову в штабе части. — «аймитесь лучше женским делом — идите работать в столовую или писарем в штаб. ’отите, устроим вас швеей в армейскую мастерскую? Ѕудете жить среди девушек. ј ведь тут вы одна, трудно станет.
Ќо она по-прежнему твердила, что хочет быть танкистом и идти на фронт, мстить врагу за смерть любимого брата. “огда ей предложили поехать в другой город: там, мол, сейчас формируетс€ добровольческий танковый корпус из уральцев. ћарус€ пон€ла, что это подвох — от нее просто хот€т отделатьс€, и отказалась наотрез. ќна знала — за ней стоит приказ из ћосквы и, как ни крут€т командиры, они должны будут его выполнить.
“ак и вышло. ƒва дн€ спуст€ Ћагунову вызвал командир батальона майор ’онин.
— я с тобой, ћарус€, буду говорить откровенно, — сказал он. — “ы у нас перва€ из женского пола, и мы просто в затруднении, как к тебе подходить, — служба трудна€, требовани€ к курсантам большие. —мотри уж, не подводи в учебе. ј окончишь курсы, там будет видно, что с тобой делать. ѕока что разрешаю тебе не ходить в нар€ды.
ƒевушка даже покраснела от досады. ќна ответила, что и в нар€ды будет ходить и всю службу нести наравне с мужчинами.
— Ќикаких исключений € не принимаю, — решительно за€вила она. — ј окончу курсы — отправл€йте на фронт, в тылу € не останусь.
≈динственным исключением дл€ нее стала маленька€ каморка, которую ей отвели в расположении части. ¬о всем остальном, она была таким же курсантом, как и мужчины, и зорко следила, чтобы ей не делали ни малейших поблажек.
ѕрограмма курсов была рассчитана на четыре мес€ца, но танкистов требовал фронт: надвигались событи€ на урской дуге. ”же в июне лучшим курсантам предложили сдавать экзамены досрочно. Ћагунова насто€ла, чтобы ее включили в число выпускников.
“ехнику она сдала на "хорошо", вождение танка — на "отлично". ак ни уговаривали ее остатьс€ в полку инструктором, она не согласилась.
“анкисты прин€ли на заводе машины и погрузили их на платформы. ѕеред отправкой на фронт в заводском дворе состо€лс€ совместный митинг рабочих и танкистов. » ћарус€ Ћагунова, сто€ в толпе, то и дело краснела: с трибуны говорили о ее настойчивости, упорстве, требовательности к себе и называли ее под аплодисменты собравшихс€ гордостью полка.
Ќо впереди еще было немало испытаний. огда танкисты прибыли на фронт и вошли в состав 56-й гвардейской танковой бригады, командование, узнав, что на одной из машин механик-водитель девушка, отнеслось к этому как к досадной нелепости.
¬прочем, об этом хорошо рассказывает в своем письме сам бывший командир бригады гвардии полковник в отставке “. ‘. ћельник, живущий сейчас в иеве:
"...Ўел 1943 год. Ѕригада готовилась к бо€м на урской дуге. ƒл€ пополнени€ к нам прибыли с ”рала маршевые роты. я, как комбриг, делал смотр вновь прибывшим экипажам боевых машин.
ѕодхожу к одному из экипажей. ƒокладывают: — омандир танка лейтенант „умаков, механик-водитель сержант Ћагунова.
я поправил:
— Ќе Ћагунова, а Ћагунов. омандир танка говорит:
— “оварищ комбриг, это девушка, Ћагунова ћари€ »вановна.
— ак девушка? ћеханик-водитель и девушка?!
ѕередо мной стоит по стойке "смирно" танкист среднего роста, хорошей выправки, с серьезным волевым и загорелым лицом. я был крайне удивлен, что механиком-водителем боевого танка оказалась девушка. ћне приходилось видеть на фронте женщин, которые хорошо справл€лись с т€желой фронтовой службой медсестер, врачей, св€зистов, снайперов, летчиков и с другими военными професси€ми. Ќо механика-водител€, да еще прославленной "тридцатьчетверки", никогда не видел. »стори€ еще не знала примера, чтобы девушка вела танк в бой. ¬ первый момент € был сильно озадачен и не знал, как поступить с Ћагуновой.
¬ то врем€ € был глубоко убежден, что быть танкистом — не женское дело. ћеханик-водитель должен обладать большой физической силой — ведь дл€ того, чтобы управл€ть рычагами танка, требуетс€ большое мускульное напр€жение. Ќадо уметь в любых услови€х и при любой погоде на марше и в бою вести танк. Ћетом в жаркую погоду температура в танке достигает 40-50 градусов, а в бою при интенсивном ведении огн€ скапливаютс€ пороховые газы — все это затрудн€ет действи€ экипажа. роме того, экипаж танка, особенно механик-водитель, испытывает в бою большое психическое напр€жение, когда противник ведет по танку артиллерийский огонь. “ребуетс€ железна€ вол€, выдержка, хладнокровие.
¬се это и заставило мен€ подумать о том, чтобы перевести Ћагунову в менее опасное место. Ќасколько возможно ласково € предложил ей побыть в резерве, посмотреть, обвыкнуть в боевых услови€х, а потом, мол, получите танк и поведете его в бой с врагом. Ћагунова наотрез отказалась. ќна говорит:
— я приехала на фронт не дл€ того, чтобы отсиживатьс€ в тылу.
≈е поддержали экипаж и офицеры подразделени€".
ак вспоминает ћ. ». Ћагунова, за нее горой встал лейтенант „умаков, командир ее машины, который впоследствии пал в бою и посмертно был удостоен звани€ √еро€ —оветского —оюза.
— ћари€ Ћагунова отличный механик, — твердо за€вил он комбригу. — я ручаюсь, что она будет управл€ть машиной в любых услови€х.
≈е оставили в покое, но ненадолго. огда танкистов нового пополнени€ стали распредел€ть по батальонам и ротам, возник тот же вопрос — командиры не могли себе подставить, как это женщина поведет в бой танк. —нова начались уговоры, предложени€ перейти в штаб, подальше от переднего кра€.
» оп€ть нашелс€ хороший и смелый человек, выручивший девушку. Ёто был заместитель командира батальона по политической части капитан ѕетр ћит€йкин.
— ¬идимо, ее трудно переубедить, — сказал он другим командирам. — Ќе будем настаивать, товарищи. ѕовоюем, сержант Ћагунова. “олько, чур, воевать хорошо! Ѕуду за тобой следить в бою.
ќна узнала, что замполит всегда идет в бой на одной из головных машин и от его зоркого взгл€да не укроетс€ никакой промах танкиста. Ќо она была уверена в себе.
Ќаконец пришел боевой приказ. ћашины вышли на исходные позиции и сто€ли замаскированные в укрыти€х: поблизости уже рвались снар€ды. —ражение на урской дуге было в разгаре.
ѕеред боем снова по€вилс€ капитан ћит€йкин, побеседовал с танкистами и напомнил ћарии Ћагуновой, что будет наблюдать за ней. ј потом машины подвели к переднему краю, загремела артиллерийска€ подготовка, на броню танка вскочили человек дес€ть автоматчиков, и лейтенант „умаков подал команду: "¬перед!"
ќна запомнила этот первый бой во всех его мельчайших подробност€х. —квозь смотровую щель она видела условленные ориентиры и вела танк по ним. ƒо предела напр€гай слух, она ловила в шлемофоне команды лейтенанта „умакова. —лышать что-нибудь становилось все труднее: к реву мотора прибавились гулкие выстрелы их танковой пушки и беспрерывна€ трескотн€ башенного пулемета. ѕотом немецкие пули забарабанили по броне, и она перестала различать в наушниках голос командира. Ќо „умаков уже оказалс€ около нее и стал командовать знаками.
¬ щель было видно, как наши танки, верт€сь, утюжат траншеи противника. ћарус€ впервые увидела бегущие фигуры гитлеровцев в серо-зеленых френчах. ¬ это врем€ пули застучали о броню особенно часто и звонко, и лейтенант хлопнул ее по правому плечу. ќна резко развернула танк вправо и совсем близко увидела блиндаж, из которого в упор бил пулемет. “отчас же последовал толчок в спину, и она нажала на акселератор. Ѕревна блиндажа затрещали под гусеницами — она не слышала, а как бы почувствовала это.
—трельба постепенно стала стихать. Ћейтенант приказал остановитьс€. ѕрежде чем ћарус€ успела открыть люк, кто-то откинул его снаружи и за руку выт€нул ее из машины. Ёто был капитан ћит€йкин. ќна еще плохо слышала, и он закричал, нагнувшись к ее уху:
— Ќа первый раз хорошо получилось. ћолодец, Ћагунова!
ќна огл€делась. ѕыль и дым, заволокшие все вокруг, постепенно оседали. ѕовсюду вал€лись трупы гитлеровцев, окровавленные, раздавленные, в самых причудливых позах. ѕеревернутые пушки, повозки, лошади с распоротыми животами... ћарус€ не испытывала страха во врем€ бо€, поглощенна€ своей работой, но сейчас, при виде этой страшной картины войны, ей стало жутко, она почувствовала, как к горлу подступает тошнота, и поспешно влезла в танк, чтобы никто не заметил ее слабости.
ј после этого были многие другие бои, и т€желые и легкие. ќна уверенно вела свой танк, утюжила гитлеровские окопы, давила пулеметы, пушки врага, видела, как гор€т машины товарищей, плакала над могилами боевых друзей. Ѕригада шла все дальше на запад, через —умскую, „ерниговскую и, наконец, иевскую область. » никто уже не сомневалс€ в девушке-танкисте: ћарус€ показала себ€ опытным и смелым водителем.
"...я спрашивал командира батальона, как ведет себ€ в бою Ћагунова, — вспоминает бывший комбриг “. ‘. ћельник. — ћне докладывали: "Ћагунова воюет хорошо. —мела€, умело примен€етс€ к местности".
ћы достигли реки ƒнепр в районе города ѕере€слав-’мельницкогр. ћари€ Ћагунова все больше накапливала боевой опыт. ¬ бригаде о ней уже говорили: "Ёто наш танковый ас". ќна пользовалась насто€щим боевым авторитетом у танкистов. Ќа ее счету было много раздавленных гусеницами огневых точек, пушек и фашистов. ¬скоре бригада получила приказ зан€ть ƒарницу, район города иева на левом берегу ƒнепра. ¬ыполн€€ приказ, бригада зав€зала т€желый бой у населенного пункта Ѕровары".
¬ это врем€ за плечами ћаруси Ћагуновой было двенадцать атак. Ѕой за Ѕровары стал тринадцатой.
“анкисты, как и летчики, немного суеверны. ак-то на привале еще перед Ѕроварами они завели веселый разговор, и кто-то полушут€ сказал ћарусе:
— —мотри! “ринадцать — число несчастливое.
¬ ответ она, сме€сь, возразила, что на броне ее машины стоит номер 13, но это не мешало ей до сих пор воевать. ј оказавшийс€ тут же капитан ћит€йкин сердито возразил суеверному:
— √лупости! я уже побывал в двадцати атаках, и ничего со мной не случилось в тринадцатой. ƒавай, Ћагунова, поедем вместе в эту атаку.
ќн никогда не забывал своих обещаний и 28 сент€бр€ 1943 года, в день этого бо€, оказалс€ в машине лейтенанта „умакова. ≈го веселый, спокойный голос раздалс€ в шлемофоне ћаруси:
— ћарус€, мы должны быть первыми! ƒавай вперед!
—начала все шло хорошо. омандовал танком капитан ћит€йкин, а лейтенант „умаков встал к пулемету. ќни первыми ворвались на позиции фашистов, и ћарус€ видела, как разбегаютс€ и падают под пулеметным огнем гитлеровцы.
— ƒай-ка чуть правей, — скомандовал ћит€йкин. — “ам немецка€ пушечка нашим мешает, прихлопнем ее.
ќна развернула машину и понеслась вперед. Ќемецкие пушкари кинулись врассыпную, и танк, корпусом откинув орудие, промчалс€ через артиллерийский окоп. Ќо, видимо, где-то р€дом притаилась втора€ пушка. “анк вдруг дернуло, мотор захлебнулс€, и в нос ударила едка€ гарь. Ѕольше ничего ћарус€ не помнила.
ќна очнулась в полевом госпитале. ” нее были ампутированы обе ноги, перебита ключица и лева€ рука казалась омертвевшей. ¬се внутри словно было сжато в тисках, и голова раскалывалась на части. Ѕоль отнимала все силы души и тела, и она даже не могла задуматьс€ над тем, что с ней произошло.
Ќа самолете ее доставили в —умы, оттуда в ”ль€новск, а затем в ќмск. «десь молодой смелый хирург ¬алентина Ѕорисова делала ей одну операцию за другой, стрем€сь спасти ее ноги, насколько это было возможно, чтобы потом она смогла ходить на протезах. »менно смелости и настойчивости Ѕорисовой, шедшей иногда на риск вопреки советам старших и более осторожных хирургов, Ћагунова об€зана тем, что наступил день, когда она пошла по земле без костылей.
Ќо до этого дн€ еще надо было дожить, пройд€ через множество физических мучений, через нескончаемые мес€цы нравственных страданий. —ознание безнадежности и безысходности будущего все чаще и сильнее охватывало девушку. ќна плакала, мрачнела, и никакие утешени€ врачей не помогали. » вдруг снова хорошие, отзывчивые люди, ее старые друзь€, пришли к ней на выручку в самый т€жкий момент ее жизни.
»з танкового полка, где получила она специальность механика-водител€, в ќмск приехала цела€ делегаци€ — навестить героиню. “анкисты привезли ћарии 60 писем. ≈й писали старые друзь€, писали незнакомые курсанты из нового пополнени€. ѕрислали полные гор€чего участи€ письма командир бригады полковник ћаксим —куба и ее прежний комбат майор ’онин. ќна узнала, что в комнате славы полка висит ее портрет, что ее военна€ биографи€ известна всем курсантам и помогает командирам воспитывать дл€ фронта новых стойких бойцов. ≈й писали, что она не имеет права унывать, что ее ждут в родной части, что танкисты новых выпусков, отправл€€сь на фронт, кл€нутс€ мстить врагам за раны ћарии Ћагуновой. » она воспр€нула духом от этих писем и от рассказов приехавших товарищей. ќна почувствовала себ€ не только нужной люд€м, но и как бы наход€щейс€ по-прежнему в боевом строю.
¬есной 1944 года ее привезли в ћоскву, в »нститут протезировани€. » здесь друзь€ из части навещали ее, слали ей письма. ќна встретилась тут с «иной “уснолобовой-ћарченко, котора€ потер€ла в бою и ноги и руки, и вскоре обеим героин€м вручили ордена расной «везды.
— огда € в первый раз надела протезы и перет€нулась ремн€ми, — вспоминает ћари€ »вановна Ћагунова, — € вдруг пон€ла, что это т€жкое несчастье будет на всю жизнь, до самой смерти. » € подумала: смогу ли € это выдержать? ѕерва€ попытка пойти оказалась безуспешной — € насадила себе син€ков и шишек. Ќо профессор „аклин, который так много труда вложил, чтобы поставить мен€ на протезы, категорически запретил персоналу давать мне палку. Ќачались ежедневные тренировки, и через несколько дней € постепенно стала передвигатьс€.
ќна училась ходить с тем же упорством, с каким когда-то училась водить танк. ¬ день выхода из больницы за ћарией Ћагуновой приехал нарочный из полка с приказанием €витьс€ ей в часть дл€ дальнейшего прохождени€ службы. омандование зачислило ее, как сверхсрочника, на должность телеграфистки.
огда-то, прид€ в этот полк, ћарус€ Ћагунова наотрез отказалась от каких-нибудь поблажек, которые хотели сделать ей, как единственной девушке из числа курсантов.
“еперь она так же категорически отказывалась от вс€ких предпочтений себе как инвалиду. “оварищи, поражались ее решимости. Ѕывший однополчанин Ћагуновой уралец јлександр „ервов хорошо написал мне об этом в своем письме:
"¬о всем был виден ее железный характер, упорство, настойчивость. ќна часто отказывалась от предложений подвезти ее на машине, старалась больше ходить пешком на протезах. Ќетрудно представить, каких мучений стоила ей эта ходьба. Ќо она, как и ее собрат по судьбе јлексей ћаресьев, упорно тренировала себ€ в ходьбе, ибо она знала, что жизнь ее долга€ и ходить ей по нашей свободной земле придетс€ много".
Ќо все это врем€ ћари€ Ћагунова незримо опиралась на большую моральную поддержку своих товарищей-однополчан, окруживших ее сердечной заботой, теплым человеческим вниманием. "я буду благодарна всю свою жизнь командованию бригады и полка за заботу и ласку, за решимость вернуть мне жизнь", — пишет ћари€ »вановна Ћагунова.
ќна прослужила в родной части почти четыре года. ј когда в 1948 году ћари€ Ћагунова, демобилизовавшись, приехала в —вердловск, нашлись другие такие же отзывчивые люди, тоже старые товарищи, позаботившиес€ о ней. Ёто был коллектив фабрики "”ралобувь" во главе с директором —. “. отовьш. ≈е устроили работать контролером ќ“ , дали ей комнату.
–абота была не т€желой, но, скованна€ протезами, она за восемь часов доходила до изнеможени€. ќднажды, поздно возвраща€сь домой после второй смены, она упала — подвернулс€ протез. —лишком измученна€, она никак не могла встать сама. “оварищи по фабрике ушли вперед, улица была безлюдной. ѕотом вдали показалась компани€ случайных прохожих. Ћагунова только собралась окликнуть их, как один насмешливо сказал: "Ќу и нализалась!" — и все засме€лись. ≈е словно хлестнули по щекам, и она расплакалась, а потом решила, что никого не станет просить о помощи. Ѕуквально по сантиметрам, опира€сь на одни руки, она доползла до сто€вшего впереди столба и после долгих усилий подн€лась с земли и дошла домой.
ѕрошло немного времени, и жизнь, котора€ обошлась с ней так жестоко, вдруг снова улыбнулась ей. ќна встретила молодого человека узьму ‘ирсова, знакомого ей еще по фронту и тоже инвалида войны — он был ранен в голову и потер€л левую руку. ќни подружились, и однажды узьма предложил:
— «наешь, ћари€, давай поженимс€. ¬двоем будет легче прожить.
— ¬едь мы два инвалида, — возразила она. — Ќам обоим н€ньки нужны.
— »з двух инвалидов получитс€ один полноценный человек, — засме€лс€ в ответ узьма.
ќни поженились. ¬ 1949 году родилс€ сын, которого назвали Ќиколаем в честь погибшего брата ћарии. „етыре года спуст€ родилс€ второй сын, ¬асилий, — так звали убитого на войне брата узьмы ‘ирсова.
ƒети, домашние хлопоты заставили ћ. ». Ћагунову бросить работу на фабрике. Ќо коллектив рабочих, завком и партком по-прежнему оставались шефами героини войны. —емье предоставили двухкомнатную квартиру, порой оказывали необходимую помощь. ј в 1955 году пришлось покинуть родной ”рал: ћ. ». Ћагунова заболела, и врачи предписали ей перемену климата. ќни переехали на ”краину, в город ’мельницкий.
Ѕывший механик-водитель "тридцатьчетверки", боевой танкист, прошедший с бо€ми путь от урской дуги до ƒнепра, ћ. ». Ћагунова теперь просто домашн€€ хоз€йка. ≈е муж . ћ. ‘ирсов — мастер завода трансформаторных подстанций. —тарший сын Ќиколай — студент аменец-ѕодольского индустриального техникума, младший, ¬асилий, — третьеклассник. ∆изнь славной героини ¬еликой ќтечественной войны вошла в свою прочную, хоть и нелегкую колею как благодар€ упорству, настойчивости, твердости характера этой замечательной женщины — насто€щего человека нашей героической эпохи, так и благодар€ дружеской помощи и поддержке дес€тков хороших, отзывчивых советских людей.
"¬от так мы и живем, — заканчивает одно из своих писем ко мне ћ. ». Ћагунова. — ƒа еще кое-кто нам завидует, хот€ это и глупо, но факт остаетс€ фактом".
Ќет, пожалуй, это вовсе не глупо, тут ћари€ »вановна ошибаетс€. ак можно не завидовать человеку, который с таким великолепным достоинством прошел такой трагический и славный путь! ќна героин€ войны, героический борец в послевоенной жизни, эта скромна€ и горда€ женщина с рабочего ”рала. ≈е характер и вол€ были крепки, как уральска€ сталь, ее судьба €рка и необычайна, как уральские самоцветы, и вс€ ее биографи€ — подвиг. “аким люд€м хорошо, по-человечески завидуют, ими восхищаютс€, на их примерах учат и воспитывают молодежь.
» здесь не имеет значени€ тот факт, что на груди у ћ. ». Ћагуновой только один орден расной «везды. ¬ойна оставила нам многих неизвестных героев, чьи награды — € уверен в этом — еще впереди. ƒа и не в наградах дело. ƒл€ геро€ лучшей наградой становитс€ пам€ть народа, любовь и уважение людей.
Ќакануне ћеждународного женского дн€ 8 марта 1964 года € подробно рассказал в одной из передач по телевидению о ћарии »вановне Ћагуновой. ¬ конце передачи € сообщил телезрител€м нынешний адрес героини: город ’мельницкий, улица ‘рунзе, дом 58, квартира 4. ». как следовало ожидать, реакци€ была мгновенной.
«а какие-то 10-15 дней в этот адрес пришло более 6 тыс€ч писем из разных уголков страны, от самых различных людей. Ёто был поток чувств, глубоко сердечных, гор€чих, полных восхищени€ и гордости жизненным подвигом женщины. » хот€ ћари€ »вановна Ћагунова по скромности, присущей истинным геро€м, упорно протестует против того, чтобы ее считали героиней, € уверен, что писавшие ей люди заставили ее снова и по-новому огл€нутьс€ на годы, оставшиес€ позади, и почувствовать, что ее биографи€ перестала быть ее личным досто€нием и сделалась €влением всеобщим, воплоща€ дл€ миллионов наших граждан прекрасный, чистый и высокий образ советской женщины пам€тных лет ¬еликой ќтечественной войны.

http://statehistory.ru/725/Tankist-Mariya-Lagunova---zhenshchina-stalnoy-voli/
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины-танкисты в ¬еликой ќтечественной войне |
ƒневник |
"ћама!
ћама!
я дошла до цели…
Ќо в степи, на волжском берегу,
ƒевочка в заштопанной шинели
–азбросала руки на снегу."
ё. ƒрунина

¬ годы ¬еликой ќтечественной войны почти 800 тыс. женщин служили в р€дах расной јрмии, вместе с мужчинами сражались с фашистскими захватчиками. ќни служили в различных родах войск. ћного защитниц ќтечества находилось в военно-медицинскими учреждени€ми, работа€ н€нечками, санитарками, санинструкторами, медсЄстрами, врачами. ¬ подразделени€х св€зи около 80% составл€ли женщины, в дорожных войсках их было почти половина состава. Ўирокую известность получил женский авиационный полк («Ќочные ведьмы»). Ќа фронтах воевали женщины-снайперы, женщины-разведчицы, женщины-зенитчицы... ј вот в танковых войсках представительниц прекрасной половины было не так уж и много. ¬ыпускницы ÷ентральной женской школы снайперов за годы войны уничтожили двенадцать тыс€ч немцев. Ћюдмила ѕавличенко, на личном боевом счету которой было 309 убитых немцев, во врем€ войны совершила поездку в —еверную јмерику, где ей был оказан триумфальный прием.
ќсобенно выдающуюс€ репутацию имели женщины, служившие в ¬оенно-воздушных силах, совершавшие боевые вылеты на самых разных машинах, на истребител€х, на бомбардировщиках, на смертоносных штурмовиках. ќднако командование боевых подразделений, воевавших на фронте, неохотно принимало на службу женщин, еще не про€вивших себ€ в бою. јрми€ была совершенно не готова и часто не хотела создавать дл€ женщин-бойцов хот€ бы элементарные бытовые и санитарные услови€. »сключением были лишь части противовоздушной обороны ћосквы. “ам была налажена медицинска€ служба, «команды гигиены», которыми заведовали женщины, были дежурные, выдавалось дополнительное количество мыла и перев€зочных средств.
–ащупкина ј.ћ.

јлександру ћитрофановну –ащупкину на войну не отпускали. ¬ далеком от боевых действий ”збекистане, где она родилась, 1 ма€ 1914 г., и выросла, тщетно јлександра обивала пороги военкоматов с просьбой отравить ее на фронт. Ќе помогали девушке никакие аргументы. ƒаже то, что она одной из первых женщин в республике освоила трактор и вполне может освоить машину. ≈й каждый раз отказывали, но девушка не сдавалась. ¬ 1942-м, коротко остригшись, в мужской одежде она снова пришла в военкомат и, воспользовавшись царившей тогда неразберихой с документами, все же записалась добровольцем на фронт под именем јлександра –ащупкина.
¬ годы ¬еликой ќтечественной войны јлександра –ащупкина повторила отважный поступок легендарной «кавалерист-девицы» Ќадежды јндреевны ƒуровой, котора€ в 1806 году под мужским именем поступила на военную службу, а затем сражалась в кампании 1812 г. против наполеоновской армии. ¬ ѕодмосковье јлександра – јлександр окончила курсы шоферов, а затем, уже под —талинградом, двухмес€чные курсы механиков-водителей танка. онечно, вначале было страшно, но јлександра преодолела свой страх и стала воевать наравне с мужчинами. ¬оевала девушка в составе 62-й армии генерала „уйкова ¬.». ”дивительно, но почти три года ни экипаж танка “-34, на котором сражалась –ащупкина, ни остальные однополчане не подозревали, что под обликом «—ашки-сорванца» скрываетс€ женщина.
–аздеватьс€ на фронте приходилось нечасто, ведь на войне вопрос гигиены сто€л не очень остро, и каждый решал его так, как мог... Ќе то врем€ было, чтобы пригл€дыватьс€ к механику-водителю и думать о том, женщина это или мужчина. ќ тайне јлександры –ащупкиной еЄ боевые товарищи узнали только в конце войны…
¬сЄ открылось в феврале 1945 года, когда танкисты вели бои уже на территории ѕольши. ¬о врем€ одного из них танк “-34 –ащупкиной наткнулс€ на засаду, был подбит, загорелс€. јлександра получила т€желое ранение. Ќа выручку бросилс€ механик из соседнего танка, стал перев€зывать. ќн-то и распознал в —ашке девушку. –ащупкина A.M. за боевые заслуги была награждена орденами расной «везды, ќтечественной войны 2-й степени, многими медал€ми.
алинина Ћ.».
алинина Ћюдмила »вановна – одна из первых женщин, окончивших ещЄ до войны военную јкадемию механизации и моторизации им. ».—талина. ¬ июне 1941 г. военный инженер 3-го ранга алинина Ћ.». была направлена на ёжный фронт. ≈й поручили возглавить отдел ремонта и эвакуации танков. ¬ойска фронта вели т€желые оборонительные бои. »нженер алинина в короткие часы затишь€ успевала подогнать к переднему краю т€гачи, краны, организовать эвакуацию подбитых танков в ближайший тыл. Ќезначительные повреждени€ и неисправности устран€ли тут же у танка.
огда в расной јрмии ввели погоны и новые звани€, Ћюдмила алинина стала инженер-майором. ¬ еЄ распор€жении было большое и сложное ремонтно-восстановительное хоз€йство: подвижный танковый ремонтный завод, три армейских ремонтно-восстановительных батальона, эвакуационна€ рота, в подчинении – более тыс€чи человек.
Ћюдмила »вановна находилась на фронте до осени 1944 г. ¬озглавл€ема€ ей танкоремонтна€ служба, дала вторую жизнь трем тыс€чам танков. «а ратный и трудовой подвиг полковник алинина Ћ.». удостоена ордена расного «намени, двух орденов ќтечественной войны 2-й степени, двух орденов расной «везды, ордена ««нак ѕочета». 23 медалей, в том числе ««а боевые заслуги».
Ѕойко ј.Ћ.


огда началась война, јлександра Ћеонтьевна Ѕойко со своим супругом »ваном ‘едоровичем жили и работали на олыме, в ћагадане – вдали от линии фронта. Ќо глубокие чувства беспокойства за судьбу –одины не позволили молодым супругам оставатьс€ в глубоком тылу. јлександра и »ван Ѕойко написали письмо —талину ».¬. о своем желании приобрести на личные сбережени€ танк, чтобы сражатьс€ с врагом на этой машине ѕросьба патриотов в начале 1944 года была исполнена. »х зачислили в „ел€бинское танковое училище, откуда супруги Ѕойко вышли механиками-водител€ми т€желых танков »—-2. »м было присвоено звание младших техников-лейтенантов.
¬ начале июн€ 1944 года муж и жена Ѕойко прибыли в “ульский военный лагерь. “уда же с ировского завода поступил и построенный на их средства танк »—-2 майского выпуска. јлександра Ѕойко была назначена командиром т€желого танка, а ее муж – механиком-водителем этого танка. ¬ составе 48-го гвардейского т€желого танкового полка јлександра Ћеонтьевна и »ван ‘едорович Ѕойко воевали сначала на 2-м ѕрибалтийском фронте, а с €нвар€ 1945 года – на 1-м Ѕелорусском фронте.
ѕетлюк ≈.ј.

≈катерина јлексеевна ѕетлюк мечтала стать летчицей. ¬ообще-то в 1938 году, наверное, все девушки мечтали летать, как √ризодубова, –аскова, ќсипенко. ¬от и ат€ ѕетлюк, закончив рыжопольскую среднюю школу, направилась в ќдессу. “ам был объ€влен набор в школу пилотов имени ѕолины ќсипенко. «доровье у неЄ было завидное, а вот рост – всего сто п€тьдес€т один сантиметр. Ќа медкомиссии дали заключение, что в школу пилотов она не подходит.
¬ойна! ¬ военкомате не могли усто€ть перед упр€мой девчонкой. ”же 24 июн€ 1941 г. ≈катерина ѕетлюк получила направление в действующую армию на должность техника-укладчика парашютов. ¬оевала под —талинградом…
ѕетлюк перва€ прибежала в комиссию по отбору добровольцев в школу танкистов, но командир батальона вначале даже не хотел принимать ее рапорт.
– ћы посылаем в танковую школу только мужчин, к тому же бывших шоферов и трактористов.
– я управл€ла самолетом. ¬от справка аэроклуба. — танком справлюсь!
...2 июл€ 1942 года маршева€ рота прибыла на станцию —арепта на завод «—удоверфь» дл€ получени€ танков. ате ѕетлюк досталс€ легкий танк «“-60». ƒл€ удобства в бою кажда€ машина имела свое им€. »мена танков все были внушительные: «ќрел», «—окол», «√розный», «—лава», а на башне танка, который получила ат€ ѕетлюк, было выведено необычное – «ћалютка». “анкисты посмеивались: «¬от уже в точку попали – малютка в «ћалютке». Ќикто из танкистов и сама ат€ ѕетлюк не знали тогда, почему именно этому танку дано такое им€.
¬ернемс€ в сорок второй год, в далекую от —талинграда ќмскую область на станцию ћарь€новка. ¬ тот грозный военный год «ќмска€ правда» напечатала письмо јды «анегиной. ¬ нем говорилось: «я – јда «анегина. ћне шесть лет. ѕишу по-печатному. √итлер выгнал мен€ из города —ычевка —моленской области. я хочу домой. ћаленька€ €, а знаю, что надо разбить √итлера, и тогда поедем домой. ћама отдала деньги на танк. я собрала на куклу 122 рубл€ 25 копеек. ј теперь отдаю их на танк. ƒорогой д€д€ редактор! Ќапишите в своей газете всем дет€м, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. » назовЄм его «ћалютка». огда наш танк разобьЄт √итлера, мы поедем домой. јда. ћо€ мама врач, а папа танкист».
ѕотом на страницах газеты по€вилось письмо шестилетнего јлика —олодова: «я хочу вернутьс€ в иев, – писал јлик, – и вношу собранные на сапоги деньги – 135 рублей 56 копеек – на строительство танка «ћалютка». “ак началось движение дошкольников по сбору средств дл€ фронта. ћальчики и девочки, эвакуированные в —ибирь из оккупированных областей Ѕелоруссии, ”краины, из осажденного Ћенинграда, отдавали свои «кукольные» деньги дл€ фронта. »сторию рождени€ своего танка старший сержант из 56-й танковой бригады ≈катерина ѕетлюк узнала через много лет.
—вой первый бой в районе алача-на-ƒону ат€ никогда не забудет. Ѕудто всЄ происходило не на€ву, а в долгом и кошмарном сне. «емл€ дыбилась от разрыва снар€дов, всплескивались черные фонтаны. » между ними юрко проскакивала крохотна€ «ћалютка». ƒл€ «“-60» не то, что снар€да, казалось, спички хватит, чтобы вспыхнуть факелом. Ќо св€зна€ «ћалютка» подкатывала к командирским машинам, брала приказы, мчалась в подразделени€, передавала эти приказы, подвозила ремонтников к подбитым танкам, доставл€ла боеприпасы, вывозила раненых...
ѕосле разгрома немцев под —талинградом «ћалютку» пришлось сдать в ремонт. “еперь ѕетлюк вела в бой легкий танк «“-70». ¬ составе 91-й отдельной танковой бригады она участвовала в разгроме немцев под ќрлом. «а мужество, про€вленное под —обакино и ‘илософово, ≈катерину ѕетлюк наградили орденом ќтечественной войны II степени…
ѕеред выходом к ƒнепру ат€ ѕетлюк вместе с командиром танка ћихаилом одовым была переведена в 39-й гвардейский отдельный разведывательный армейский автобронебатальон. ¬есной 1944 г. ее направл€ют в ”ль€новск в 1-е гвардейское танковое училище. ≈катерина ѕетлюк училась отлично. ≈е сокурсники занимались уже семнадцать мес€цев, но ѕетлюк догнала их и в окт€бре сдала все выпускные экзамены с оценкой «отлично». ≈й присвоили звание младшего лейтенанта и оставили в училище командиром учебного взвода. «десь нужен был еЄ боевой опыт. ƒа и последнее ранение не осталось бесследным…
—амусенко ј.√.

√еройски сражалась на урской дуге командир танка “-34 лейтенант јлександра —амусенко. ќднажды подразделение, где служила јлександра, получило задание контратаковать колонну танков противника. ћеханик-водитель “-34, командиром которого была —амусенко, стретив на своем пути три «тигра», растер€лс€. Ћейтенант —амусенко спокойно, но решительно за€вила: «Ќазад нам дороги нет». » механик-водитель танка овладел собой. ѕервым же выстрелом вражеский танк был подбит. ќстальные продолжали идти на сближение. ќжесточенный бой продолжалс€ несколько часов, но победу одержал экипаж танка јлександры —амусенко. «а отвагу, про€вленную в этом сражении, она была награждена орденом расной «везды.

јлександра √ригорьевна €вл€лась одним из лучших офицеров танковой бригады. ќна была трижды ранена, два раза горела в танке. ѕосле госпитал€ оп€ть возвращалась в родную часть. «а образцовое выполнение заданий командовани€ командир танкового взвода лейтенант —амусенко была награждена орденами ќтечественной войны I степени и расной «везды, ¬сю войну провоевала отважна€ девушка и уже под самым Ѕерлином в одном из боев капитан —амусенко ј.√. была т€жело ранена и скончалась от ран.
ќкт€брьска€ ћ.¬.

ћарии ¬асильевне ќкт€брьской пришлось воевать за рычагами среднего танка “-34. –одилась она (8 марта 1905 г.) и выросла в сельской местности в рыму. ќкончила школу, приехала в —имферополь. “ам вышла замуж за офицера »лью ќкт€брьского. — началом войны муж ушЄл на фронт, а она бала эвакуирована в один из сибирских городов, где стала работать на заводе. „ерез некоторое врем€ получила скорбную весть о гибели родителей. ј в начале 1943-го года узнала о геройской смерти мужа. азалось, что горе затмило всЄ на свете, но она нашла в себе силы. ћари€ сама решила пойти на фронт – мстить врагу.
¬се сбережени€, все вещи свои и мужа пожертвовала на постройку танка – внесла в √осбанк 50 тыс€ч рублей. Ќаписала письмо в ћоскву, приложила квитанцию о взносе денег и попросила назвать танк «Ѕоева€ подруга», а ее назначить в экипаж механиком-водителем. ¬скоре из ћосквы был получен утвердительный ответ, и ћари€ ¬асильевна ќкт€брьска€ была направлена в танковую школу.
¬ сент€бре 1943 года ћари€ ¬асильевна в составе маршевой танковой роты со своим танком «Ѕоева€ подруга» прибыла в 26-ю гвардейскую танковую бригаду 2-го гвардейского “ацинского танкового корпуса, действовавшего в то врем€ на —моленском направлении.
“анковой бригаде предсто€ло совершить многокилометровый марш по труднопроходимой местности, с большим количеством мостов и переправ. ѕоэтому командир роты ћ. Ѕелюсев предложил командиру экипажа танка «Ѕоева€ подруга» иметь в резерве еще одного механика-водител€ дл€ возможной подмены ћарии ќкт€брьской, но она отказалась от такого варианта и заверила, что сама доведет танк до района сосредоточени€ бригады. ќбещание своЄ она выполнила. “акже уверено ћари€ водила свою грозную «тридцатьчетверку» и в дальнейшем.
Ёкипаж ћарии ќкт€брьской участвовал в бою при вз€тии Ќового —ела ¬итебской области и уничтожил ƒ«ќ“ с пулеметом. ¬ этот момент по «Ѕоевой подруге» открыло огонь из засады штурмовое орудие немцев. ¬се видели, как механик-водитель умело сманеврировала в овраг, и танк устремилс€ на врага. Ќо в район сбора машина не пришла.
¬сю ночь боевые товарищи ничего не знали об экипаже, искали танкистов. ≈ще день прошел – танк словно сквозь землю провалилс€. ¬друг рано утром послышалс€ грохот. ¬ысыпали все на опушку – «Ѕоева€ подруга», цела€ и невредима€. ¬се в экипаже живы, лишь ћари€ прихрамывает – осколком задело ногу. ќказалось, в бою снар€дом повредило гусеницу. “анкисты заменили траки, и, нат€нув гусеницу, затаились – ждали благопри€тного момента. Ќочью и выбрались оттуда – ведь танк был на нейтральной полосе.
...¬ одном из боев за деревню Ўведы у станции рынки, уже ставша€ старшим сержантом ћари€ ќкт€брьска€ уверенно вывела грозный “-34 за железнодорожную насыпь, где были основные позиции вражеской пехоты и артиллерии. Ќа полной скорости ее танк раздавил пушку, пулеметное гнездо, проутюжил траншею с непри€телем и двинулс€ на выручку экипажу соседнего танка. ¬от что рассказывал его командир:
– ѕризнаюсь, когда € увидел «Ѕоевую подругу», двигающуюс€ навстречу снар€дам врага, страшно стало за ћарию ¬асильевну. Ќо вот тридцатьчетверка, зайд€ с фланга, подм€ла вражеское орудие с расчетом и повернула к другому. Ќо не дошла, из-под катков вырвались искры и плам€, танк вздрогнул и встал. азалось, конец «Ѕоевой подруге». Ќо нет, смотрю, экипаж огрызаетс€ метким огнЄм. Ёто младший лейтенант „еботько вступил в огневой бой с артиллеристами врага, а √еннади€ ясько и ћихаила √алкина он послал ремонтировать повреждЄнную гусеницу.
омандир приказал ћарии сидеть на месте. ƒа где там! «я - механик и об€зана не только водить, но и ремонтировать свою машину», – с этими словами выскочила она из танка и стала помогать товарищам. √усеница была уже нат€нута, оставалось забить последний палец трака, но в этот момент вблизи разорвалс€ снар€д, и осколками ранило ћарию в голову, а ясько – в руку. „еботько и √алкин втащили их в танк.
Ќа выручку поспешили два наших танка. «Ѕоевую подругу» отбуксировали в укрытие. ќкт€брьскую сразу перев€зали и повезли в медсанбат. ѕока она была в сознании, просила врачей не отправл€ть ее в госпиталь. Ќо ранение оказалось опасным, пришлось принимать срочные меры. ’ирург армейского полевого госпитал€ майор медицинской службы ј. Ќикольский сделал все, что мог. ќднако состо€ние ћарии ¬асильевны стало ухудшатьс€, и 17 марта 1944 года она, не приход€ в сознание, скончалась. ѕохоронили ее танкисты с воинскими почест€ми в —моленске, на ѕокровском кладбище.
¬ конце нюн€ 1944 года началась Ѕелорусска€ операци€. » в составе 28-й гвардейской бригады вновь пошел в атаку экипаж «Ѕоевой подруги», однако уже без своего славного механика. Ёкипаж танка “-34 был на границе Ћитвы и ¬осточной ѕруссии, когда утром 2 окт€бр€ звучный голос диктора ћосковского радио на весь мир возвестил, что гвардии старшему сержанту ќкт€брьской ћарии ¬асильевне присвоено звание √еро€ —оветского —оюза посмертно.
Ћевченко ».Ќ.

¬осемнадцатую весну своей жизни старшина медицинской службы »рина Ћевченко встретила в танковом батальоне в рыму в марте 1942 года. «десь ее настигло первое т€желое ранение. “олько чудом она избежала ампутации правой руки. ¬рачебно-контрольна€ комисси€ безжалостно постановила: «—н€ть с военного учета». ƒумали ли врачи, что всего несколько мес€цев спуст€ после их постановлени€ она станет танкистом.
»рина Ћевченко решила поступить в —талинградское танковое училище. Ёто была шальна€ мысль. »рина требовала, умол€ла, настаивала; она обошла дес€тки людей и доказала, что нет ничего невозможного. ќна попала к командующему бронетанковыми и механизированными войсками расной јрмии генерал-лейтенанту ‘едоренко я.Ќ. ≈го поразила уверенность девушки...
»рина добилась своего – окончила училище. » снова фронт. Ўтурм —моленска, где она когда-то спасла 168 т€жело раненых солдат и офицеров. “анк лейтенанта Ћевченко шЄл тем же путЄм, где когда-то прошла Ћевченко-санинструктор. ќна узнавала эти места, вспоминала первые свои письма, в которых было столько боли за людей, доверивших еЄ свою жизнь. ќна мстила за тех, кто умер на еЄ руках, не дождавшись победы.
¬с€ страна ждала этой победы, а по вечерам матери читали письма с фронта: «… ћамочка, мила€ мо€. “ы должна быть ко всему готова, но € уверена, что мы с тобой скоро увидимс€ и будем мирно-мирно жить. ѕравда? ¬едь после войны нужен покой, мир!» ћного лет спуст€ »рина Ћевченко вспомнит, как еЄ танк шЄл через спасЄнные города. Ѕолгарские женщины усыпали машину цветами. —пуст€ годы на еЄ адрес в ћоскву пришло наградное оружие. ≈го прислал министр обороны Ѕолгарии.
ќчевидцы, те, кто сражались вместе с Ћевченко в одном танковом батальоне, расскажут о ее боевой отваге. » мы, как бы воочию, увидим один из последних танковых боев войны, когда 41-€ гвардейска€ танкова€ бригада, в которой служила Ћевченко, отрезала врагу путь к отступлению. “огда машина лейтенанта св€зи Ћевченко совершила глубокий рейд в тыл немцев. Ќадо было прорватьс€ по территории, удерживаемой противником, предупредить своих о гроз€щей опасности, указать цели. ¬ машине лейтенант »рина Ћевченко и двое автоматчиков. ѕолива€ огнЄм кукурузу, где засели гитлеровцы, машина мчитс€ вперЄд. —вист€т пули, рвутс€ мины. «ѕрорватьс€... ѕрорватьс€ любой ценой… ¬перЄд».
—охранилось письмо, которое вскоре после этого мать »рины Ћевченко Ћиди€ —ергеевна —араева получила из части, где служила ее дочь: « омандование и политический отдел части є 32456 поздравл€ет вас с получением вашей дочерью »риной Ќиколаевной Ћевченко ордена расна€ «везда за мужество, отвагу и героизм... ¬аша дочь мастерски деретс€ с врагом, и вы можете гордитьс€ такой дочерью...» ончитс€ война, а »рина Ћевченко останетс€ все такой же неугомонной, стрем€щейс€ только вперед.
≈е биографию можно было бы уложить в несколько строк. ¬ 17 лет после окончани€ школы – санинструктор, в 21 год – старший лейтенант-танкист, в 28 майор танковых войск, писатель. —пуст€ четыре года после окончани€ јкадемии имени ‘рунзе (в 1955 г.) она подполковник, военный историк. о всему этому: »рина Ќиколаевна Ћевченко – √ерой —оветского —оюза, член —оюза писателей ———–. ѕохоронена в 1973 году на Ќоводевичьем кладбище в ћоскве.
ѕри написании статьи были использованы материалы
музе€ "»стори€ танка “-34" на ƒмитровском шоссе
ћетки: у войны женское лицо |
∆енщины ¬еликой ќтечественной войны |
ƒневник |
|
ќна училась в нашей школе,
» вместе с братом в комсомоле, ”роки мужества познав, » жизнь за –одину отдав, ”шла в бессмертие она, огда в беде была страна! ќтличный стрелок - ¬. ћинкина. 17 ма€ 1942 г. √руппа девушек - бойцов ћѕ¬ќ на бульваре ѕрофсоюзов ( онногвардейском бульваре). 1944 г. ƒевушки-пулеметчицы из истребительного батальона. январь 1943 г. ” левой девушки медицинска€ петлица. ¬озможно, просто позируют с пулемЄтом. ћари€ ƒолина, √ерой —оветского —оюза, гвардии капитан, заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии. ћари€ »вановна ƒолина (18.12.1922-03.03.2010) выполнила 72 боевых вылета на пикирующем бомбардировщике ѕе-2, сбросила на противника 45 тонн бомб. ¬ шести воздушных бо€х сбила 3 истребител€ противника (в группе). 18 јвгуста 1945 года за мужество и воинскую доблесть, про€вленные в бо€х с врагом, ей было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. –азведчица Ќатали€ ¬ладимировна ћалышева. ƒевушка-младший сержант советской гвардии. ƒевушки “аманской дивизии |
|
|
|
|
Re: ∆енщины ¬еликой ќтечественной войны
—анинструктор гвардии старший сержант ќ. Ўул€ева. Ћенинградский фронт. ¬ынесла с пол€ бо€ 55 раненых бойцов. —найпер 21-й гвардейской дивизии гвардии сержант ≈.√. ћотина. ≈вдоки€ ћотина была награждена орденом расного «намени осенью 1943 года за участие в Ќевельской наступательной операции. Ќеизвестные советские девушки-р€довые из истребительно-противотанковой артиллерийской части (»ѕ“ј). ‘ото 1943 года. —очетание двух образцов формы - довоенной петличной гимнастЄрки и погон. ќ принадлежности к артиллерии указывает шеврон на рукаве. —лужащие 487-го истребительного авиаполка ќ. ƒоброва и “. —аматова. ¬ечер, редкие минуты тишины. јэродром урск-¬осточный ( урска€ область). —оветские девушки-военнослужащие на огневом рубеже. ƒевушки вооружены 7,62-мм винтовками ћосина с примкнутыми четырехгранными игольчатыми штыками и 7,62-мм пистолетом-пулеметом ѕѕЎ-41. —оветские летчицы из женского 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, √ерои —оветского —оюза –уфина √ашева (слева) и Ќаталь€ ћеклин у самолетов ѕо-2. ќдни из самых результативных летчиков советской военной авиации по боевым вылетам. –уфина —ергеевна √ашева (р. 1921) — штурман, за годы войны совершила 848 боевых вылетов. Ќаталь€ ‘едоровна ћеклин ( равцова) (1922—2005) — летчик, 980 боевых вылетов. «вание √еро€ —оветского —оюза обеим девушкам присвоено 23 феврал€ 1945 года. ѕосле войны обе закончили ¬оенный институт иностранных €зыков. ¬ отставку кажда€ вышла в звании майора. ¬алентина »вановна —афронова (1918–1943) — разведчица партизанского отр€да под командованием ƒ.≈. равцова. ¬ооружена 7,62-мм винтовкой —¬“-40 (самозар€дна€ винтовка “окарева образца 1940 года). ѕогибла в гестапо в Ѕр€нске в 1943 году. ¬ 1965 году ей было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. —оветские девушки-добровольцы направл€ютс€ на фронт. Ћето 1941 года. |
|
|
|
|
| 0 | #3 |
|
Re: ∆енщины ¬еликой ќтечественной войны
Ќеизвестна€ советска€ девушка, лейтенант медицинской службы, награжденна€ четырьм€ медал€ми. ”частница обороны авказа. ‘ото в период лето 1944 - июнь 1945. расавица. —найпер 3-й ударной армии 2-го ѕрибалтийского фронта гвардии сержант Ћюбовь ћихайловна ћакарова. Ќаграждена орденами —лавы 2-й и 3-й степеней. » медалью "«а боевые заслуги". Ќа личном счету сержанта ћакаровой 84 уничтоженных гитлеровца. ≈е фронтовой жизни посв€щена книга . Ћапина «ƒевушка с винтовкой». авалер ордена «—лавы» 3 степени, снайпер ћари€ увшинова, уничтоживша€ несколько дес€тков немецких солдат и офицеров. —ержант Ќ ¬ƒ ћари€ —еменовна –ухлина (1921—1981) с пистолет-пулеметом ѕѕЎ-41. —лужила с 1941 по 1945. ƒва капитана — советские женщины-медики. —права на фото јлександра ‘едоровна Ўаталина 1911-го года рождени€. —лужила в 2513-ом эвакогоспитале. √рупповое фото служащих 101-й истребительной авиадивизии. Ќа фото слева направо: сто€т Ѕ. Ѕерковска€, ќ. ƒоброва, адъютант лейтенант ƒубровин, Ћ. √ерасимова, старшина Ўироков, “. —аматова, неизвестный, —мирнова, неизвестный, ярова€, сид€т: ƒюдина, Ћифшиц, старшина ѕисьменный, “арасова. ƒевушки 487-го истребительного авиаполка. Ќа фото сидит слева сержант ќ.ƒоброва. Ќадписи на обороте фотографии: «ћаша, ¬ал€, Ќад€, ќл€, “ан€ — девушки нашей части п/п 23234-а» «29 июл€ 1943 года» |
|
|
|
|
| #4 | |
|
Re: ∆енщины ¬еликой ќтечественной войны
ƒевушка-санинструктор из состава 1-го гвардейского конного корпуса. ƒевушки-офицеры 46-го гвардейского “аманского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Ѕелорусского фронта: ≈вдоки€ Ѕершанска€ (слева), ћари€ —мирнова (стоит) и ѕолина √ельман. ≈вдоки€ ƒавыдовна Ѕершанска€ (1913—1982) — командир женского 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка (ЌЋЅјѕ, с 1943 года — 46-й гвардейский “аманский ночной бомбардировочный полк). Ќаграждена орденом јлександра Ќевского. ћари€ ¬асильевна —мирнова (1920—2002) — командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. августу 1944 года совершила 805 ночных боевых вылетов. 26.10.1944 удостоена звани€ √еро€ —оветского —оюза. Ќаграждена орденом јлександра Ќевского. ѕолина ¬ладимировна √ельман (1919—2005) — начальник св€зи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. маю 1945 года, как штурман самолета ѕо-2, совершила 860 боевых вылетов. 15.05.1946 удостоена звани€ √еро€ —оветского —оюза. Cержант ќ.ƒ. ƒоброва, √ерой —оветского —оюза капитан ј.√. Ћукь€нов, старший лейтенант ƒороченский на аэродроме 487-го истребительного авиационного полка. јэродром ўигры ( урска€ область). —найпер –оза Ўанина (1924—1945) и ее командир ј. Ѕалаев. –оза Ўанина в действующих войсках со 2 апрел€ 1944 года. Ќа счету 54 подтверждЄнных уничтоженных солдат и офицеров, среди которых 12 снайперов. авалер орденов —лавы 2 и 3 степени. ѕогибла в бою 28 €нвар€ 1945 года в 3 км юго-восточнее деревни »льмсдорф, округ –ихау, ¬осточна€ ѕрусси€. —найпер 54-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии ѕриморской армии —еверо- авказского фронта младший лейтенант Ћ.ћ. ѕавличенко. ‘ото сделано в ходе ее поездки по јнглии, —Ўј и анаде с делегацией советской молодЄжи осенью 1942 года. ѕавличенко Ћюдмила ћихайловна родилась в 1916 году, участница ¬еликой ќтечественной войны с июн€ 1941 — доброволец. ”частник оборонительных боев в ћолдавии и на юге ”краины. «а хорошую стрелковую подготовку направлена в снайперский взвод. — августа 1941 года участник героической обороны города ќдессы, уничтожила 187 гитлеровцев. — окт€бр€ 1941 года участник героической обороны города —евастопол€. ¬ июне 1942 года Ћюдмила ѕавличенко была ранена и еЄ отозвали с передовой. этому моменту из снайперской винтовки Ћюдмила ѕавличенко уничтожила 309 гитлеровцев, в том числе 36 вражеских снайперов. ¬ окт€бре 1943 года присвоено звание √еро€ —оветского —оюза с вручением ордена Ћенина и медали ««олота€ «везда». |
|
|
|
|
| #5 | |
|
Re: ∆енщины ¬еликой ќтечественной войны
—п€ща€ санинструктор. ѕрис€га. ¬ расной јрмии во врем€ войны женщины служили не только на вспомогательных должност€х, таких, как св€зистки, санитарки. —уществовали даже стрелковые части: 1-й отдельный женский запасной стрелковый полк, 1-€ отдельна€ женска€ добровольческа€ стрелкова€ бригада (ќ∆ƒ—Ѕр) из 7-ми батальонов общей численностью 7 тыс€ч человек. ¬ основном это были 19-20-летние девушки. Ќа фото - девушки из ѕ¬ќ. —трелок-оружейник гвардии ефрейтор лавди€ ≈фимовна (3-€ эскадриль€ 6-го гвардейского штурмового авиационного полка) загружает 20-мм боеприпасы к пушке Ў¬ј штурмовика »л-2. «ина озлова — пулеметчица из кавалерийского корпуса генерала Ѕелова. «а короткий период боев уничтожила наблюдательный пункт противника, несколько огневых точек. ѕри освобождении “аманского полуострова стрелков-гвардейцев 2-й дивизии с воздуха прикрывал авиационный женский полк — 46-й гвардейский “аманский ночных бомбардировщиков авиационный полк (46-й гв. ЌЅјѕ). омандир 46-й ЌЅјѕ ≈вдоки€ ƒавыдовна Ѕершанска€ (1918—1982), руковод€ полком, сумела доказать скептикам, что женска€ авиачасть имеет право на существование и может воевать наравне с мужскими част€ми, а порой — и успешнее их. 8.02.1943 г. 588 ЌЅјѕ, которым командовала ≈.ƒ. Ѕершанска€, первым в дивизии стал гвардейским и получил наименование 46 гв.ЌЅјѕ. «а годы войны полк совершил 24 тыс€чи боевых вылетов, сбросил на противника более 3 тыс€ч тонн бомб. 23 летчицы полка стали √еро€ми —оветского —оюза. —ама ≈.ƒ. Ѕершанска€ единственной из женщин была награждена ќрденом —уворова. —оветские медсестры ќльга Ѕолбас и ћари€ √улевич, награжденные медал€ми ««а боевые заслуги», читают благодарственное письмо, пришедшее с передовой позиции от лечившегос€ в их госпитале военнослужащего – ј. –егулировщица в Ѕерлине, 1 ма€ 1945 года. ћари€ “имофеевна Ўальнева (Ќенахова), ефрейтор 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулирует движение военной техники недалеко от рейхстага в Ѕерлине. ѕобеда! 1945 год. ƒевушки-снайперы. |
|
|
|
| #6 | |
|
Re: ∆енщины ¬еликой ќтечественной войны
ѕочему-то только сейчас ваш пост увидел.
Ѕольшое спасибо за дополнени€. |
|
|
|
|
Re: ∆енщины ¬еликой ќтечественной войны
÷итата:
 ћедалью "«а отвагу"  Ёто выгл€дит вот так 
÷итата:
¬идно, что награды она носит посто€нно - под знаки сделаны подложки дл€ уменьшени€ длины винта, а лента ордена загр€знена.
÷итата:
ƒевушки-офицеры 46-го гвардейского “аманского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Ѕелорусского фронта: ≈вдоки€ Ѕершанска€ (слева), ћари€ —мирнова (стоит) и ѕолина √ельман. ≈вдоки€ ƒавыдовна Ѕершанска€ (1913—1982) — командир женского 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка (ЌЋЅјѕ, с 1943 года — 46-й гвардейский “аманский ночной бомбардировочный полк). Ќаграждена орденом јлександра Ќевского, ќтечественной войны 1 степени, расного «намени и «нак ѕочЄта. ћари€ ¬асильевна —мирнова (1920—2002) — командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. августу 1944 года совершила 805 ночных боевых вылетов. 26.10.1944 удостоена звани€ √еро€ —оветского —оюза. Ќаграждена орденом јлександра Ќевского, расной «везды, двум€ орденами расного «намени. ѕолина ¬ладимировна √ельман (1919—2005) — начальник св€зи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. маю 1945 года, как штурман самолета ѕо-2, совершила 860 боевых вылетов. 15.05.1946 удостоена звани€ √еро€ —оветского —оюза. Ќа фото с орденами расной «везды, ќтечественной войны и расного «намени.
÷итата:
‘ото скорее всего лета 1944 года.
__________________
¬ размышлени€х о большой серебр€ной медали "«а храбрость" которую получил стол€р с ¬авровой улицы на раловских ¬иноградах по фамилии ћличко. |
|||||
|
|
http://forumishka.net/sssr-i-vov/17417-jenshiny-velikoi-otechestvennoi-voiny.html
ћетки: у войны женское лицо |

































 ћен€ подбили, самолет начал крутитьс€, а € ремни отстегнуть не могу, чтобы открыть кабину… ¬с€ жизнь промелькнула мигом, ничего еще не сделала, сейчас погибну, как ’ом€кова. Ќо, все-таки, расстегнула, только кабину открыла и мен€ выкинуло… —разу дернула кольцо, парашют открылс€, думаю, все, жива. ѕриземлилась, а там какой-то капитан ел. ƒал мне стакан самогона и котелок картошки. я говорю: «ќй, € пить не буду. ѕойду сейчас к начальству, скажут, пь€на€». ѕоехали на машине в асторную, а у него шофер был венгр. ќн все на мен€ огл€дывалс€. апитан ему говорит: «я тебе сказал – жен-щи-на!» я все думаю, а где же –айка? ¬ылезли из машины, пошли в центр. —мотрю, –айка идет. ” нее радиатор пробили, и она за асторной на вынужденную села. Ќас привели, сообщили в полк и за нами в этот же день приехали.
ћен€ подбили, самолет начал крутитьс€, а € ремни отстегнуть не могу, чтобы открыть кабину… ¬с€ жизнь промелькнула мигом, ничего еще не сделала, сейчас погибну, как ’ом€кова. Ќо, все-таки, расстегнула, только кабину открыла и мен€ выкинуло… —разу дернула кольцо, парашют открылс€, думаю, все, жива. ѕриземлилась, а там какой-то капитан ел. ƒал мне стакан самогона и котелок картошки. я говорю: «ќй, € пить не буду. ѕойду сейчас к начальству, скажут, пь€на€». ѕоехали на машине в асторную, а у него шофер был венгр. ќн все на мен€ огл€дывалс€. апитан ему говорит: «я тебе сказал – жен-щи-на!» я все думаю, а где же –айка? ¬ылезли из машины, пошли в центр. —мотрю, –айка идет. ” нее радиатор пробили, и она за асторной на вынужденную села. Ќас привели, сообщили в полк и за нами в этот же день приехали.

 - ¬опрос про бытовые услови€. ¬ы летали в обычной мужской одежде?
- ¬опрос про бытовые услови€. ¬ы летали в обычной мужской одежде?





























































