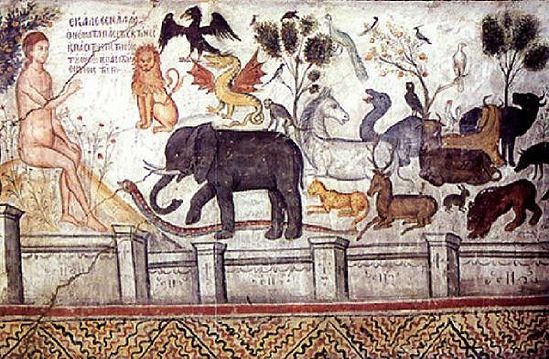-÷итатник
¬—≈ ‘ќ–ћ”Ћџ ѕќƒ –” ќ… - (0)
¬—≈ ‘ќ–ћ”Ћџ ѕќƒ –” ќ… ѕјћя“ ј Ќј„»Ќјёў»ћ ЅЋќ√√≈–јћ¬—≈ ¬ ќƒЌќћ ћ≈—“≈ ћне дл€ работы нужно иметь в...
–абочие программы и краткое описание к ним - (0)–абочие программы и краткое описание к ним ...
¬от так летим мы вместе с —олнцем Е - (0)¬от так летим мы вместе с —олнцем Е —олнечна€ система движетс€ вс€ целиком вместе с —олн...
»зучайте интернет нескучно и увлекательно - (0)»зучайте интернет нескучно и увлекательно ©Surge Blavat&re...
Ёффектные надписи, заголовки, тексты и два... - (0)Ёффектные надписи, заголовки, тексты и два... &nb...
-—сылки
-ћузыка
- јлександр √радский-ѕесн€ о ћонте- ристо
- —лушали: 1323 омментарии: 0
- Abyssphere - јд без теб€
- —лушали: 43 омментарии: 0
- Nightwish - Nemo
- —лушали: 14 омментарии: 0
- Nightwish - Sleepwalker
- —лушали: 18 омментарии: 0
- јркона - ѕод ћечами
- —лушали: 20 омментарии: 0
-ћетки
рещение √осподне а.и. осипов алексей ильич осипов андрей десницкий антоний сурожский апологетика атеизм беседы о главном библеистика библи€ блогги богословие богослужение великий пост видео гилберт кийт честертон главна€ тема диакон владимир василик диакон иль€ маслов диакон павел сержантов доктрина 77 дорога к храму елена зелинска€ жизнь в церкви жизнь церкви иван охлобыстин игумен нектарий (морозов) икона интересное информер исторические факты истори€ церкви клипы компьютер культура люди церкви молитвы наука и религи€ нео€зычество новомученики общество оккультизм и мифы основы социальной концепции рпц патриарх кирилл патриархи первые шаги в храме полезное пост православные праздники православные рассказы православные св€тые протестантизм протодиакон андрей кураев протоиерей андрей ткачев протоиерей владислав цыпин протоиерей игорь прекуп протопресвитер александр шмеман психологи€ размышление рамочки с кодом религи€ и конфессии рождественский пост рождество христово российска€ импери€ : все факты и истори€. св€тые и св€тыни св€щенник павел гумеров св€щенник сергий круглов св€щенство секты семь€ сергей худиев суеверие таинства церкви толкование ужасы флешки человек юмор юрий в€земский €зычество
-–убрики
- ќбщество (163)
- ∆изнь ÷еркви (135)
- Ѕеседы о главном (70)
- »нтернет (60)
- ѕолезные советы (53)
- ∆итие св€тых (45)
- Ћюди ÷еркви (45)
- ѕравославные праздники (36)
- —емь€ (31)
- ѕост (29)
- »Ќ“≈–≈—Ќџ≈ ‘ј “џ (28)
- ультура (26)
- ∆изнь в ÷еркви (17)
- »—“ќ–»я (13)
- —ћ» (11)
- —ѕќ–“/«ƒќ–ќ¬№≈ (9)
- »х традиции (8)
- ёмор (6)
- ¬идеоклипы (5)
- ¬идеолекции (5)
- ¬идео (3)
- “аинства ÷еркви (2)
- јудиолекции (1)
- (0)
- јпологетика (156)
- Ѕогословие (29)
- Ќаука и религи€ (8)
- ѕроповеди (67)
-
–адио в блоге
[Ётот ролик находитс€ на заблокированном домене]
ƒобавить плеер в свой журнал
© Ќакукрыскин
ƒобавить плеер в свой журнал
© Ќакукрыскин
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-ƒрузь€
ƒрузь€ оффлайн ого давно нет? ого добавить?
-ѕравославие-
_Lyubasha_K_
Akylovskaya
angel_devid
Bogdan_Rosa
Joker-6
KROMIADI
La-Perla_Margarita
LebWohl
Litizija
MANGIANA
nice_user
nomad1962
ria_svit
Rost
Surge_Blavat
Tala22
Tatjana_Weiman
јлексей_–ымов
јлена_ѕремудра€
андрэ_“ќЋ—“я
Ѕлог_туриста
≈лена_ќриас
»нтернет_сливк»
Ћена_—олнышко
ћаркиза2
ћартын_Ћютый
ќптина__ѕустынь
примор
режиссер
–ќ——»…— јя_—≈ћ№я
св€щенник_»горь_«ыр€нов
танул€
‘итнес_красота_здоровье
ёжанка_јнка
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
-“рансл€ции
-—татистика
«аписи с меткой культура
(и еще 193515 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
алексей ильич осипов апологетика атеизм беседы о главном библи€ блогги богословие богослужение великий пост главна€ тема диакон павел сержантов доктрина 77 елена зелинска€ жизнь в церкви жизнь церкви игумен нектарий (морозов) интересное исторические факты истори€ церкви клипы культура люди церкви наука и религи€ нео€зычество новомученики общество оккультизм и мифы основы социальной концепции рпц патриарх кирилл полезное пост православные праздники православные рассказы православные св€тые протодиакон андрей кураев протоиерей андрей ткачев протоиерей игорь прекуп психологи€ размышление рамочки с кодом рождественский пост российска€ импери€ : все факты и истори€. св€щенник павел гумеров св€щенник сергий круглов семь€ сергей худиев таинства церкви толкование человек юмор
÷ерковный раскол. ¬ера объедин€ет или раскалывает? |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
Ђ–осси€ должна сохранить дл€ всего человечества ’ристову истинуї |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
рещение –уси |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
“ворчество как восхождение к Ѕогу |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
¬ смутное ли врем€ мы живем? |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
¬ыговарива€ тишину |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
¬≈–ј ”„≈Ќџ’ Ѕеседа с профессором мехмата ћ√” ¬.». Ѕогачевым |
ƒневник |
|
ћетки: культура |
»нвалиды постмодернизма, измученные рок-н-роллом |
ƒневник |
„то делать с современной культурой: анафематствовать или воцерковл€ть? —пособны ли на этот шаг современные православные христиане? –азмышл€ет художник, преподаватель ћј–’» јндрей яхнин.
»тогом бурного вторжени€ в нашу жизнь €влени€, маркирующего себ€ как современное, или актуальное, искусство стала очевидность нашей полной беспомощности перед ним. ÷ерковь не готова к встрече с современной культурой, и это серьезна€ проблема. » еще большей проблемой мне представл€етс€ то, что огромна€ часть ее членов эту проблему таковой не считают.
÷ерковь, преодолевша€ за два тыс€челети€ ереси и расколы, переживша€ гонени€ и безбожные власти оказалась почти беспомощной перед примитивной, плоской и, в то же врем€ чрезвычайно опасной агрессией современной культуры. » дл€ того, чтобы найти адекватные ответы на этот вызов необходимы большие интеллектуальные и духовные усили€, по насто€щему возможные лишь в соборном единстве.
Ќо его, увы, нет.
Ѕолее того, преобладают крайние точки зрени€ на эту проблему.
ќдни считают необходимым предать всю современную культуру анафеме, объ€вить ей войну на полное уничтожение.
ƒругие, наоборот, выступают за ее полную реабилитацию и воцерковление.
ќбе эти позиции, на мой взгл€д, €вл€ютс€ не только поверхностными, но и просто вредными дл€ ÷еркви. —овременна€ культура и современное искусство Ч это не закрыта€ эзотерическа€ область, это острие сегодн€шней цивилизации, ее мотор и одновременно топливо. » если мы не хотим остатьс€ в цивилизационной резервации, превратившись в Ђэтно-культурный компонентї Ч нам необходимо как можно скорее начать эту необходимую работу по анализу феномена современной культуры. –езультатом же должна стать вн€тна€, богословски и духовно выверенна€ активна€ позици€ ÷еркви по отношению к современной культуре.
ќднако этому преп€тствует р€д обсто€тельств. » одно и них хотелось бы рассмотреть подробнее.
Ќаиболее €рко оно про€вилось после издани€ моей книги Ђјнтиискусство. «аписки очевидцаї и стало дл€ мен€ полной неожиданностью.
— одной стороны наблюдалс€ и наблюдаетс€ большой интерес к ней со стороны обычных людей не имеющих никакого отношени€ к современному искусству. ќни читают, задают вопросы и искренне хот€т разобратьс€ Ч что же это за €вление, столь агрессивно вторгающеес€ в их повседневную жизнь.
— другой стороны € вижу глухое и молчаливое непри€тие моей позиции некоторыми церковными людьми, в том числе и клириками. Ёто люди образованные, современные и широко мысл€щие. ƒл€ них современна€ культура Ч это не что-то далекое и непон€тное, они прекрасно ориентируютс€ в современном искусстве, музыке и литературе. Ѕолее того, многие из них пришли в ÷ерковь из этого мира, безусловно совершив огромное духовное усилие, что мне близко и пон€тно. ќднако именно они почему-то оказались не готовы к этому разговору, актуальность которого не просто назрела Ч она уже почти что перезрела.
¬ чем же дело?
ƒл€ того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо, в том числе, пон€ть суть той метаморфозы, котора€ произошла с культурой за последние сто лет.
»сток вектора современной культуры лежит в начале ’’ века, когда традиционна€ европейска€ культура, сложивша€с€ в эпоху –енессанса подверглась полной и одномоментной трансформации. Ёпоха от раннего –енессанса до начала прошлого века была характерна антропоцентричностью, в центре ее сто€л человек. ќна сменила собой предыдущую, сотериологическую эпоху христианского искусства, но при этом оставалась христианской не только по своей формально-художественной сути, но и по содержанию.
ќднако в начале ’’ века в ≈вропе произошла культурна€ катастрофа, котора€ сопровождалась катастрофой социальной и политической и во многом ее катализировало. ≈сли в ≈вропе эта метаморфоза происходила в большой степени Ђэволюционної, то в –оссии она привела к окончательному коллапсу. “еперь вместо грешного человека в центре культуры оказалс€ Ђчеловек бунтующийї, человек одержимый демонами, внушившими ему идею его исключительности и праве на абсолютную свободу, в первую очередь от Ѕога и ≈го «аповедей.
— воодушевлением, близким к одержимости говорил о ней гуру Ђнового искусстваї . ћалевич: ЂЕмы вынесли себ€ за пределы горизонта вещей к новой ультуре »скусства не как ремесла, а творчества. » объ€вл€ем себ€ свободными творцамиЕї .
√ораздо более откровенно и €сно говорил о такой Ђсвободеї другой революционный де€тель, немало времени посв€тивший нар€ду с формированием расной јрмии и ¬„ Ч революционной культуре Ч Ћ. ƒ. “роцкий. ¬ своей статье о революционной культуре он писал: ЂЕсоциалистическое искусство возродит трагедию. » конечно без бога. Ќовое искусство будет безбожным искусством. <Е> „еловек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, подн€ть инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, прот€нуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым подн€ть себ€ на новую ступень Ч создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно Ч сверхчеловекаї.
» эта иде€ абсолютной свободы стала не просто онтологической составл€ющей новой культуры, она превратилась в ее Ђсв€щенное преданиеї. ¬ результате изменени€ коснулись не только всей ее внутренней сути и принципов существовани€, но и привели к глубоким антропологическим сдвигам, трансформации архетипа художника Ч творца.
¬есь пафос модернизма и авангарда направлен на ниспровержение Ђустоевї, всего того, на чем была основана культура всех предшествующих эпох. », конечно, главным активным содержанием этого пафоса €вл€лось богоборчество, причем агресси€ была направлена не просто на христианство, как основу прежней европейской культуры. ќна простиралась до самых метафизических глубин, дабы лишить человека не только веры в Ѕога, но и стереть из его пам€ти все первичные признаки естественной религиозности.
ќднако этот вектор новой культуры, не изменившись по сути, серьезно трансформировалс€ в последние пол-столети€. –азрушив все основные принципы традиционной культуры и отбросив ее на обочину современной цивилизации, модернизм уступил место постмодернизму, в котором этот вектор приобрел более сложное и многомерное содержание.
≈сли модернизм и авангард постулировали приоритет абсолютной свободы и независимости Ч зла от добра, подлости от чести, демона от Ѕога, то постмодернизм вообще вышел из парадигмы Ч Ђплохо Ч хорошої. ќн превратил свободу бунта в свободу распада и гниени€, где нет места дл€ зла и добра, все уравнено в правах, все лишено смысла и превращено в калейдоскоп обрывочных цитат и ушедших €зыков.
“ака€ метаморфоза в культуре также имела свои антропологические последстви€. “еперь художник Ч это уже не гордый демон авангарда, сокрушающий авторитеты и устои, а звено в гигантской индустрии современной культуры со своими институци€ми, истеблишментом, прессой, стипенди€ми, форумами, музе€ми и фестивал€ми. Ёто Ђбунтовщикї, наход€щийс€ в комфортных услови€х сложившейс€ инфраструктуры, котора€ придает ему легитимность в современном мире.
Ќо если на «ападе эта среда давно €вл€етс€ неотъемлемой частью глобальной цивилизации, то постсоветска€ –осси€ оказалась включенной в нее сравнительно недавно. ≈е фетиши и артефакты начали прорыватьс€ к нам в с 70-х годов, а после крушени€ железного занавеса хлынули полноводной рекой. Ёто и современна€ музыка, и современное искусство, и так называема€ молодежна€ культура с культом легких наркотиков, расширенного сознани€ и клубной эстетикой. ¬се это после дес€тилетий советской казенщины представл€лось глотком свежего воздуха, €рким волшебным лоскутком насто€щей жизни, которой мы были лишены. ѕоколени€ 70-х, 80-х и 90-х помн€т эту эпоху с ее воодушевл€ющими Ђдуховнымиї открыти€ми, св€занными с уже пережеванными и выплюнутыми на «ападе иде€ми 1968 года.
» вот больша€ часть этого поколени€, выросшего на этом €рком и неоднозначном культурном замесе, пришла в ÷ерковь, найд€, наконец, ту духовную полноту и радость, которой не было прежде. ќни стали прекрасными св€щенниками и мир€нами, цветом церковной творческой интеллигенции. ќднако та часть их искреннего и напр€женного духовного поиска, св€занного с современной культурой, удивительным образом оказалась включенной в их церковную жизнь. ”дивительным, поскольку этот опыт совершенно не сопр€гаем с христианской жизнью, дл€ которой невозможны духовные компромиссы и метафизические практики.
¬ообще, попытки скрестить православие с самыми разными идеологи€ми, культурологическими и политологическими концепци€ми и иде€ми весьма нередки. “ак, например, сделать ему прививку коммунизма в той или иной форме пытаютс€ сегодн€ очень многие. ќднако попытки воцерковлени€ актуального искусства, рок-музыки и даже эзотерических практик и культурных экспериментов, сделанные без серьезного осмыслени€, выгл€д€т не менее экзотично.
ћы все чаще становимс€ свидетел€ми возникновени€ арт-клубов при церковных учреждени€х и даже храмах, где гуру русского рока и одновременно ученик —аи Ѕабы Ѕорис √ребенщиков в художественно-песенной форме читает лекции по своей версии Ђправославной догматикиї будущим св€щенникам, где устраиваютс€ выставки Ђсовременного православного искусстваї, о существование которого знают лишь устроители этих выставок.
— другой стороны, когда вполне насто€щее актуальное искусство, в том числе в лице радикального акционизма, агрессивно вторгаетс€ на территорию ÷еркви, как реально, так и виртуально, то реакци€, как правило, выгл€дит неловкой. ѕравославные активисты и казаки в этом случае сами станов€тс€ участниками провокативных акций и играют не самую лучшую роль в не нами написанном сценарии.
ѕри этом € далек от того, чтобы их в этом упрекать, поскольку это все равно, что осуждать некрасиво корчащегос€ в муках человека, которого сильно и при том неожиданно ударили в пах. »менно поэтому насмешки некоторых людей, считающих себ€ православными, в адрес так называемых Ђправославных активистовї Ч представл€ютс€ мне гадкими.
онечно, если бы эти безогл€дные попытки вт€нуть современную культуру в ÷ерковь были бы свидетельством глубокого осмыслени€ такого феномена или просто героической миссией в опасной и пока неизведанной области Ч они были бы пон€тны и оправданы.
Ќо, увы, чаще всего речь здесь идет о застарелых духовных недугах.
— одной стороны, они корен€тс€ в иде€х о спасении через творчество как альтернативу пути аскетики, столь распространенных в начале прошлого века среди церковной интеллигенции. Ёти идеи, кстати, в числе других были использованы стратегами обновленчества, в том числе и вышеупом€нутым Ћьвом “роцким.
— другой стороны, речь здесь идет о некоем Ђсв€щенном преданииї современной культуры, €вл€ющегос€ об€зательным дл€ вс€кого Ђинтеллигентногої,Ђпрогрессивногої и Ђсовременногої человека. ¬ этой Ђсокровищницеї мировой культуры найдетс€ место и дл€ русского авангарда, и дл€ Ѕитлз, и дл€ рок-музыки, и дл€ позднесоветского андеграунда.
Ќи в коем случае не возьму на себ€ смелость ворошить эти крайне запущенные фантомы сознани€ и тем более спорить с носител€ми этого непосильного дл€ христианина Ђкультурного багажаї, однако рискну еще раз напомнить, что речь уже не идет о чисто академической проблеме, касающейс€ нас лишь косвенно. » не только потому, что современна€ культура давно пришла в наши дома, храмы, к нашим дет€м. Ќо еще и потому, что мир остро нуждаетс€ в христианском культурном ренессансе.
Ёпоха распада культуры €вно подходит к своему логическому завершению, окончательно вырожда€сь в постхристианский по самоопределению и антихристианский по сути дискурс.
Ќо наша мисси€ в мире не позвол€ет полностью отдатьс€ во власть эсхатологических настроений. ћы просто об€заны Ч каждый в меру своих возможностей Ч творчески участвовать в духовной и интеллектуальной работе по осмыслению современной культуры с точки зрени€ ѕредани€.
ћы должны, вспомнив слова апостола: Ђ¬се испытывайте, хорошего держитесьї (1‘ес. 5:21) трезво и пр€мо сказать себе и миру об истинном содержании современной культуры, одновременно вед€ спокойный и продуктивный диалог с той ее частью, котора€ €вл€етс€ духовно вмен€емой.
ѕотому что именно мы отвечаем за будущее русской культуры, от нас зависит ее христианский ренессанс.
»наче какие же мы христиане?
»тогом бурного вторжени€ в нашу жизнь €влени€, маркирующего себ€ как современное, или актуальное, искусство стала очевидность нашей полной беспомощности перед ним. ÷ерковь не готова к встрече с современной культурой, и это серьезна€ проблема. » еще большей проблемой мне представл€етс€ то, что огромна€ часть ее членов эту проблему таковой не считают.
÷ерковь, преодолевша€ за два тыс€челети€ ереси и расколы, переживша€ гонени€ и безбожные власти оказалась почти беспомощной перед примитивной, плоской и, в то же врем€ чрезвычайно опасной агрессией современной культуры. » дл€ того, чтобы найти адекватные ответы на этот вызов необходимы большие интеллектуальные и духовные усили€, по насто€щему возможные лишь в соборном единстве.
Ќо его, увы, нет.
Ѕолее того, преобладают крайние точки зрени€ на эту проблему.
ќдни считают необходимым предать всю современную культуру анафеме, объ€вить ей войну на полное уничтожение.
ƒругие, наоборот, выступают за ее полную реабилитацию и воцерковление.
ќбе эти позиции, на мой взгл€д, €вл€ютс€ не только поверхностными, но и просто вредными дл€ ÷еркви. —овременна€ культура и современное искусство Ч это не закрыта€ эзотерическа€ область, это острие сегодн€шней цивилизации, ее мотор и одновременно топливо. » если мы не хотим остатьс€ в цивилизационной резервации, превратившись в Ђэтно-культурный компонентї Ч нам необходимо как можно скорее начать эту необходимую работу по анализу феномена современной культуры. –езультатом же должна стать вн€тна€, богословски и духовно выверенна€ активна€ позици€ ÷еркви по отношению к современной культуре.
ќднако этому преп€тствует р€д обсто€тельств. » одно и них хотелось бы рассмотреть подробнее.
Ќаиболее €рко оно про€вилось после издани€ моей книги Ђјнтиискусство. «аписки очевидцаї и стало дл€ мен€ полной неожиданностью.
— одной стороны наблюдалс€ и наблюдаетс€ большой интерес к ней со стороны обычных людей не имеющих никакого отношени€ к современному искусству. ќни читают, задают вопросы и искренне хот€т разобратьс€ Ч что же это за €вление, столь агрессивно вторгающеес€ в их повседневную жизнь.
— другой стороны € вижу глухое и молчаливое непри€тие моей позиции некоторыми церковными людьми, в том числе и клириками. Ёто люди образованные, современные и широко мысл€щие. ƒл€ них современна€ культура Ч это не что-то далекое и непон€тное, они прекрасно ориентируютс€ в современном искусстве, музыке и литературе. Ѕолее того, многие из них пришли в ÷ерковь из этого мира, безусловно совершив огромное духовное усилие, что мне близко и пон€тно. ќднако именно они почему-то оказались не готовы к этому разговору, актуальность которого не просто назрела Ч она уже почти что перезрела.
¬ чем же дело?
ƒл€ того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо, в том числе, пон€ть суть той метаморфозы, котора€ произошла с культурой за последние сто лет.
»сток вектора современной культуры лежит в начале ’’ века, когда традиционна€ европейска€ культура, сложивша€с€ в эпоху –енессанса подверглась полной и одномоментной трансформации. Ёпоха от раннего –енессанса до начала прошлого века была характерна антропоцентричностью, в центре ее сто€л человек. ќна сменила собой предыдущую, сотериологическую эпоху христианского искусства, но при этом оставалась христианской не только по своей формально-художественной сути, но и по содержанию.
ќднако в начале ’’ века в ≈вропе произошла культурна€ катастрофа, котора€ сопровождалась катастрофой социальной и политической и во многом ее катализировало. ≈сли в ≈вропе эта метаморфоза происходила в большой степени Ђэволюционної, то в –оссии она привела к окончательному коллапсу. “еперь вместо грешного человека в центре культуры оказалс€ Ђчеловек бунтующийї, человек одержимый демонами, внушившими ему идею его исключительности и праве на абсолютную свободу, в первую очередь от Ѕога и ≈го «аповедей.
— воодушевлением, близким к одержимости говорил о ней гуру Ђнового искусстваї . ћалевич: ЂЕмы вынесли себ€ за пределы горизонта вещей к новой ультуре »скусства не как ремесла, а творчества. » объ€вл€ем себ€ свободными творцамиЕї .
√ораздо более откровенно и €сно говорил о такой Ђсвободеї другой революционный де€тель, немало времени посв€тивший нар€ду с формированием расной јрмии и ¬„ Ч революционной культуре Ч Ћ. ƒ. “роцкий. ¬ своей статье о революционной культуре он писал: ЂЕсоциалистическое искусство возродит трагедию. » конечно без бога. Ќовое искусство будет безбожным искусством. <Е> „еловек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, подн€ть инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, прот€нуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым подн€ть себ€ на новую ступень Ч создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно Ч сверхчеловекаї.
» эта иде€ абсолютной свободы стала не просто онтологической составл€ющей новой культуры, она превратилась в ее Ђсв€щенное преданиеї. ¬ результате изменени€ коснулись не только всей ее внутренней сути и принципов существовани€, но и привели к глубоким антропологическим сдвигам, трансформации архетипа художника Ч творца.
¬есь пафос модернизма и авангарда направлен на ниспровержение Ђустоевї, всего того, на чем была основана культура всех предшествующих эпох. », конечно, главным активным содержанием этого пафоса €вл€лось богоборчество, причем агресси€ была направлена не просто на христианство, как основу прежней европейской культуры. ќна простиралась до самых метафизических глубин, дабы лишить человека не только веры в Ѕога, но и стереть из его пам€ти все первичные признаки естественной религиозности.
ќднако этот вектор новой культуры, не изменившись по сути, серьезно трансформировалс€ в последние пол-столети€. –азрушив все основные принципы традиционной культуры и отбросив ее на обочину современной цивилизации, модернизм уступил место постмодернизму, в котором этот вектор приобрел более сложное и многомерное содержание.
≈сли модернизм и авангард постулировали приоритет абсолютной свободы и независимости Ч зла от добра, подлости от чести, демона от Ѕога, то постмодернизм вообще вышел из парадигмы Ч Ђплохо Ч хорошої. ќн превратил свободу бунта в свободу распада и гниени€, где нет места дл€ зла и добра, все уравнено в правах, все лишено смысла и превращено в калейдоскоп обрывочных цитат и ушедших €зыков.
“ака€ метаморфоза в культуре также имела свои антропологические последстви€. “еперь художник Ч это уже не гордый демон авангарда, сокрушающий авторитеты и устои, а звено в гигантской индустрии современной культуры со своими институци€ми, истеблишментом, прессой, стипенди€ми, форумами, музе€ми и фестивал€ми. Ёто Ђбунтовщикї, наход€щийс€ в комфортных услови€х сложившейс€ инфраструктуры, котора€ придает ему легитимность в современном мире.
Ќо если на «ападе эта среда давно €вл€етс€ неотъемлемой частью глобальной цивилизации, то постсоветска€ –осси€ оказалась включенной в нее сравнительно недавно. ≈е фетиши и артефакты начали прорыватьс€ к нам в с 70-х годов, а после крушени€ железного занавеса хлынули полноводной рекой. Ёто и современна€ музыка, и современное искусство, и так называема€ молодежна€ культура с культом легких наркотиков, расширенного сознани€ и клубной эстетикой. ¬се это после дес€тилетий советской казенщины представл€лось глотком свежего воздуха, €рким волшебным лоскутком насто€щей жизни, которой мы были лишены. ѕоколени€ 70-х, 80-х и 90-х помн€т эту эпоху с ее воодушевл€ющими Ђдуховнымиї открыти€ми, св€занными с уже пережеванными и выплюнутыми на «ападе иде€ми 1968 года.
» вот больша€ часть этого поколени€, выросшего на этом €рком и неоднозначном культурном замесе, пришла в ÷ерковь, найд€, наконец, ту духовную полноту и радость, которой не было прежде. ќни стали прекрасными св€щенниками и мир€нами, цветом церковной творческой интеллигенции. ќднако та часть их искреннего и напр€женного духовного поиска, св€занного с современной культурой, удивительным образом оказалась включенной в их церковную жизнь. ”дивительным, поскольку этот опыт совершенно не сопр€гаем с христианской жизнью, дл€ которой невозможны духовные компромиссы и метафизические практики.
¬ообще, попытки скрестить православие с самыми разными идеологи€ми, культурологическими и политологическими концепци€ми и иде€ми весьма нередки. “ак, например, сделать ему прививку коммунизма в той или иной форме пытаютс€ сегодн€ очень многие. ќднако попытки воцерковлени€ актуального искусства, рок-музыки и даже эзотерических практик и культурных экспериментов, сделанные без серьезного осмыслени€, выгл€д€т не менее экзотично.
ћы все чаще становимс€ свидетел€ми возникновени€ арт-клубов при церковных учреждени€х и даже храмах, где гуру русского рока и одновременно ученик —аи Ѕабы Ѕорис √ребенщиков в художественно-песенной форме читает лекции по своей версии Ђправославной догматикиї будущим св€щенникам, где устраиваютс€ выставки Ђсовременного православного искусстваї, о существование которого знают лишь устроители этих выставок.
— другой стороны, когда вполне насто€щее актуальное искусство, в том числе в лице радикального акционизма, агрессивно вторгаетс€ на территорию ÷еркви, как реально, так и виртуально, то реакци€, как правило, выгл€дит неловкой. ѕравославные активисты и казаки в этом случае сами станов€тс€ участниками провокативных акций и играют не самую лучшую роль в не нами написанном сценарии.
ѕри этом € далек от того, чтобы их в этом упрекать, поскольку это все равно, что осуждать некрасиво корчащегос€ в муках человека, которого сильно и при том неожиданно ударили в пах. »менно поэтому насмешки некоторых людей, считающих себ€ православными, в адрес так называемых Ђправославных активистовї Ч представл€ютс€ мне гадкими.
онечно, если бы эти безогл€дные попытки вт€нуть современную культуру в ÷ерковь были бы свидетельством глубокого осмыслени€ такого феномена или просто героической миссией в опасной и пока неизведанной области Ч они были бы пон€тны и оправданы.
Ќо, увы, чаще всего речь здесь идет о застарелых духовных недугах.
— одной стороны, они корен€тс€ в иде€х о спасении через творчество как альтернативу пути аскетики, столь распространенных в начале прошлого века среди церковной интеллигенции. Ёти идеи, кстати, в числе других были использованы стратегами обновленчества, в том числе и вышеупом€нутым Ћьвом “роцким.
— другой стороны, речь здесь идет о некоем Ђсв€щенном преданииї современной культуры, €вл€ющегос€ об€зательным дл€ вс€кого Ђинтеллигентногої,Ђпрогрессивногої и Ђсовременногої человека. ¬ этой Ђсокровищницеї мировой культуры найдетс€ место и дл€ русского авангарда, и дл€ Ѕитлз, и дл€ рок-музыки, и дл€ позднесоветского андеграунда.
Ќи в коем случае не возьму на себ€ смелость ворошить эти крайне запущенные фантомы сознани€ и тем более спорить с носител€ми этого непосильного дл€ христианина Ђкультурного багажаї, однако рискну еще раз напомнить, что речь уже не идет о чисто академической проблеме, касающейс€ нас лишь косвенно. » не только потому, что современна€ культура давно пришла в наши дома, храмы, к нашим дет€м. Ќо еще и потому, что мир остро нуждаетс€ в христианском культурном ренессансе.
Ёпоха распада культуры €вно подходит к своему логическому завершению, окончательно вырожда€сь в постхристианский по самоопределению и антихристианский по сути дискурс.
Ќо наша мисси€ в мире не позвол€ет полностью отдатьс€ во власть эсхатологических настроений. ћы просто об€заны Ч каждый в меру своих возможностей Ч творчески участвовать в духовной и интеллектуальной работе по осмыслению современной культуры с точки зрени€ ѕредани€.
ћы должны, вспомнив слова апостола: Ђ¬се испытывайте, хорошего держитесьї (1‘ес. 5:21) трезво и пр€мо сказать себе и миру об истинном содержании современной культуры, одновременно вед€ спокойный и продуктивный диалог с той ее частью, котора€ €вл€етс€ духовно вмен€емой.
ѕотому что именно мы отвечаем за будущее русской культуры, от нас зависит ее христианский ренессанс.
»наче какие же мы христиане?
|
ћетки: культура |
огда били колокола. »з дневников ћ.ћ. ѕришвина 1926-1932 |
ƒневник |
Ќазвание Ђ огда били колокола Еї написано рукой ѕришвина на коробке с сотн€ми сохранившихс€ негативов. ¬ это врем€ ѕришвин жил в —ергиевом ѕосаде (переименованном в дни уничтожени€ колоколов в город «агорск). аждый день писатель фиксировал в дневнике всЄ, что происходило в те дни в Ћавре. ѕредлагаемые выдержки вз€ты в основном из дневника 1930 года, который в насто€щее врем€ готовитс€ к печати в полном объЄме.
1926
23 но€бр€. ”читель, посетивший “роицкую лавру с экскурсией, сказал при виде Ђ“роицыї –ублева ученикам: Ђ¬се говор€т, что на этой иконе удивительно сохранились краски, но краски на папиросных коробочках по маслу гораздо €рчеї.
“олпа каких-то уродливых людей окружила мощи преп. —ерги€, молча разгл€дыва€ кости под стеклом, наконец один сказал:
Ц Ќетленные!
» все загоготали.
— каким бы наслаждением в это врем€ € провЄл тоненькую черную машинную ниточку и потихонечку дернул, чтобы череп хоть чуть-чуть шевельнулс€. ¬от бы посмотреть, как мчатс€ в безумии обезь€ны. я бы не стал их обманывать, чтобы собирать с них медные копейки, как делал монах, и увозить на каждую службу из церкви на украшение обители. я бы только их попугал, чтобы они, подход€ к недоступному им и непостижимому, имели страх Е
1929
22 но€бр€ . ¬ Ћавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдет в переливку. „истое злодейство, и заступитьс€ нельз€ никому и как-то неприлично: слишком много жизней губ€т ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол Е
12 декабр€. —ейчас резко обозначаютс€ два понимани€ жизни. ќдним Ц всЄ в индустриализации страны, в п€тилетке и тракторных колоннах, они глубоко уверены, что если удастс€ организовать кресть€н в коллективы, добыть хлеб, а потом всЄ остальное, необходимое дл€ жизни, то вот и всЄ. » так они этим живут, иногда же, когда вообраз€т себе, что нигде в свете не было такого великого коллектива, приход€т пр€мо в восторг.
ƒругие всему этому хлебно-тракторному коллективу не придают никакого значени€, не дают себе труда даже вдуматьс€ в суть дела. »х в содрогание приводит вид разбитой паперти у “роицы, сброшенного на землю колокола, кинотеатр в церкви и место отдыха, об€зательное дл€ всех граждан безбожие и, вообще, это высшее достижение, индустриальное извлечение хлеба из земли Е ѕусть бы! Ц думают они, Ц по существу в (Ц неразборчиво), но раз оно противопоставл€етс€ вызывающе любви (хлеб вместо любви), тем становитс€ и враждебным: что-то вроде искушени€ —атаны Е
25 декабр€. ѕусть отмен€т –ождество, сколько хот€т, моЄ –ождество вечное, потому что не € мишурой убираю дерево, а мороз стараетс€. Ќа восходе березовые опушки, словно мороз щекой к солнцу стал, и они стали ему разукрашивать: никакими словами не передать, как разукрасились березовые опушки, сколько блесток Е след триумфатора.
1930
4 €нвар€. ѕоказывал ѕавловне [1] упавший вчера колокол, при близком разгл€дывании сегодн€ заметил, что и у ≈катерины ¬еликой, и у ѕетра ѕервого маленькие носы на барельефных изображени€х т€пнуты молотком: это, наверно, издевались рабочие, когда еще колокол висел. —амое же т€жкое из этого раздумь€ €вл€етс€ о наших богатствах в искусстве: раз Ђбыть или не бытьї индустрии, то почему не спустить и –ембрандта на подшипники. » спуст€т, как пить дать, все спуст€т непременно. ѕавловна сказала: ЂЌарод навозный, всю красоту продадутї.
5 €нвар€. («апись на пол€х): ѕогон€т в коллектив.
1) ак у нас церковь закрыли.
2) Е Ц ѕойдем, мы тоже, когда умрем, погл€д€т и пойдут.
3) Ц огда его сбросили? Ц Ќочью, в 12 часов.
4) Ц ак поднимали! —бросить Ц техника, вс€кие специалисты, а ведь как, дураки, подымали.
ѕоп: Ц ѕустой! €зыка нет. Ц Ќу, так чего же Е Ц „его? Ц ƒа вы говорили, что просто упал и ничего не было: откуда же возьметс€, если €зыка нет: лишенец Е
6 €нвар€. —очельник. ¬ерующим к –ождеству вышел сюрприз. —озвали их. Ќабралось множество мальчишек. ¬ышел дефективный человек и сказал речь против ’риста. ”личные мальчишки радовались, сме€лись, верующие молчали: им было страшно сказать за ’риста, потому что вс€ жизнь их зависит от кооператива, перестанут хлеб выдавать и крышка! ѕосле речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. ¬ерующие и (кое)-какие старинные: “арасиха и другие молчали. » так вышло, что верующие люди оставили себ€ сами без –ождества и церковь закрыли. —ердца больные, животы голодные и посто€нна€ мысль в голове: рано или поздно погон€т в коллектив.
8 €нвар€. ¬чера сброшены €зыки с √одунова и арнаухого [2]. арнаухий на домкратах. ¬ п€тницу он будет брошен на ÷ар€ с целью разбить его. √овор€т, старый звонарь пришел сюда, приложилс€ к колоколу, простилс€ с ним: Ђѕрощай, мой друг!ї и ушел, как пь€ный.
Ѕыл какой-то еще старик, как увидел, ни на кого не посмотрел, сказал: Ђ—укины дети!ї ¬езде шныр€ет уполномоченный √ѕ”. ≈го бесстрастие. », вообще, намечаетс€ тип такого чисто государственного человека: ему до теб€, как человека, нет никакого дела. ’олодное, неумолимое существо.
–азговор об отливке колоколов, о способах подн€ти€, о времени отливки и устройства колокольни, и все врут, хот€ тут же над головой стоит дата начала закладки здани€ при јнне »оановне в 1741 году и окончани€ при ≈катерине в 1769-м. Ђ¬се врут, никто ничего не помнит теперь верної, Ц закончила одна женщина.
9 €нвар€. Ќа колокольне идет работа по сн€тию арнаухого, очень плохо он поддаетс€, качаетс€, рвет канаты, два домкрата см€л, работа опасна€, и снимать было чуть-чуть рискованно. Ѕольшим колоколом, тросами, лебедками завладели дети. ¬нутри колокола полно реб€т, с утра до ночи колокол звенит Е ¬рем€ от времени в пролете, откуда упал колокол, по€вл€етс€ т. Ћитвинов и русской руганью, но как-то по-латышски бесстыдно и жестоко ругаетс€ на реб€т. ќстр€ки говор€т: бьет в большие колокола и с перезвоном.
15 €нвар€. 11-го сбросили арнаухого. ак по-разному умирали колокола. Ѕольшой, ÷арь, как большой доверилс€ люд€м в том, что они ему ничего худого не сделают, далс€ опуститьс€ на рельсы и с огромной скоростью покатилс€. ѕотом он зарылс€ головой глубоко в землю. “олпы детей приходили к нему, и все эти дни звонили в кра€ его, а внутри устроили себе насто€щую детскую комнату.
арнаухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давалс€, то качнетс€, то разломает домкрат, то дерево под ним трескаетс€, то канат оборветс€. » на рельсы шел неохотно, его потащили тросами Е
ѕри своей громадной форме, подход€щей большому ÷арю, он был очень тонкий: его 1200 пудов были отлиты почти по форме ÷ар€ в 4000. «ато вот когда он упал, то разбилс€ вдребезги. ”жасно л€згнуло и вдруг все исчезло: по-прежнему лежал на своем месте ÷арь-колокол, и в разные стороны от него по белому снегу бежали быстро осколки арнаухого. ћне, бывшему сзади ÷ар€, не было видно, что спереди и от него отлетел огромный кусок.
—торож подошел ко мне и спросил, почему € в окне, а не с молодежью на дворе.
Ц ѕотому, ответил €, что там опасно: они молодые, им не страшно и не жалко своей жизни.
Ц ¬ерно, ответил сторож, молодежи много, а нам, старикам, жизнь свою надо продлить Е
Ц «ачем, удивилс€ € нелепому обороту мысли.
Ц ѕосмотреть, сказал он, чем у них все кончитс€, они ведь не знали, что было, им и неинтересно, а нам сравнить хочетс€, нам надо продлить.
¬друг совершенно стихли дурацкие крики операторов, и слышалось только визжание лебедок при пот€гивании тросов. ѕотом глубина пролета вс€ заполнилась и от неба на той стороне осталось только, чтобы дать очертание форм огромного колокола. ѕошел, пошел! » он медленно двинулс€ по рельсам.
16 €нвар€. ќсматривали музей. ƒве женщины делали вид, что рассматривают мощи преп. —ерги€, как вдруг одна перекрестилась и только бы вот губам ее коснутьс€ стекла, вдруг стерегущий мощи коммунист резко крикнул: ЂЌельз€!ї.
–ассказывали, будто одна женщина из ћосквы не посмотрела на запрещение, прикладывалась и молилась на колен€х. ” нее вз€ли документы и в ћоскве лишили комнаты.
—колько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических пам€тников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране теперь идет уничтожение культурных ценностей и живых организованных личностей.
¬сегда ли революцию сопровождает погром (Ђграбь награбленноеї)?
—ильнейша€ центральна€ власть и несомненна€ мощь расной јрмии Ц вот все Ђergo sumї [3] коллектива —оветской –оссии. „еловеку, поглощенному этим, конечно, могут показатьс€ смешными наши слезы о гибели пам€тников культуры. ћало ли пам€тников на свете! ’ватит! » правда, завтра миллионы людей, быть может, останутс€ без куска хлеба, стоит ли серьезно горевать о гибели пам€тников?
¬от жуть с колхозами!
17 €нвар€. Ќе то замечательно, что €вилс€ негод€й, ими хоть пруд пруди! Ц а что довольно было ему €витьс€ и назвать ƒом ученых контрреволюционным учреждением, чтобы вс€ ћосква начала говорить о закрытии ƒома ученых. ѕо всей веро€тности, такое же происхождение имеют и нынешние зверства в отношении пам€тников искусства.
19 €нвар€. ¬есь день отделывал снимки колокола. Ђ–азрушите храм сейї Е [4]. Ќа какие-нибудь 30 верст, а мой колокол будет звонить по всей земле, на всех €зыках. Ќо Е ¬от это Ђної и завлекает в тему: какое должно быть мое слово, что бы звучало как бронза!
¬се это врем€ лебедкой поднимали высоко €зык большого колокола и бросали его на кусок арнаухого и Ѕольшого, дробили так и грузили. » непрерывно с утра до ночи приходили люди и повтор€ли: трудно опускать, а как же было поднимать?
¬нутренность нашего большого колокола, под которым мы живем, была наполнена туманом: чуть виднелась колокольн€, но резко слышались металлические раскаты лебедок, управл€ющих движением большого колокола на пути по крыше, с которой сегодн€ он должен свалитьс€ Е
¬от на дворе сложена поленница березовых дров, сделанна€ дл€ нашего тепла из когда-то живых берез. ћы теперь ими топимс€, и этим теплом, размножа€сь, движемс€ куда-то вперед (Ђмыї Ц род человеческий). “очно так же, как дрова, и электричество, и вс€ техника усложн€етс€, потому что мы размножаемс€. » так мы живем, создава€ из всего живого средства дл€ своего размножени€. », конечно, если дать полную волю государству, оно вернет нас непременно к состо€нию пчел или муравьев, то есть мы все будем работать в государственном конвейере, каждый в отдельности, ничего не понима€ в целом. ѕока еще все миросозерцани€, кроме казенного, запрещены, настанет врем€, когда над этим будут просто сме€тьс€. аждый будет вполне удовлетворен своим делом и отдыхом.
¬от почему и был разбит большой колокол: он ведь представл€л собой своими кра€ми круг горизонта и звон его купно Е (не дописано).
язык арнаухого был вырван и сброшен еще дн€ три тому назад, губы колокола изорваны домкратами.
Ђјргусї 1913 г. є 8. ќчерк «арина Ђ олоколаї.
≈ще египт€не и ассирийцы Ђзвоном созывали мол€щихс€ в храмыї. ј за 200 л. до –.X. историки дают точное описание колоколов в современном значении. ¬ итае, японии, »ндии Ц за 4000 лет до –.X.
¬ «ап. ≈вропе начало колоколов в VII в.
¬ Ћондоне 850 пуд. Ц самый большой, если не считать ельнского Ђвеликого молчальникаї в 1312 п. (неудачный).
¬ –оссии первое упоминание в 1066 г.
¬ XVI в. в –остове Ђблаговестникї 1000 п.
онец XVII в. в –остове митрополит »она —ысоевич Ц страстный ревнитель колокольного дела Ц в 1689 г. он отлил знаменитые 3 ростовских колокола: Ђ—ысойї 2000 пуд., Ђѕолиелейныйї 1000 п. и будничный ЂЋебедьї 500 п.
“роице-—ерг. Ц в конце XVII в. отлит в 3319 п. и в 1746 ≈лизаветой перелит и доб. до 4000 п. (Ђ÷арьї) √одунов Ц 1850 и Ђ ирноцкийї 1275 п.
¬ ћоскве на олок. »вана ¬еликого Ђ”спенскийї Ц 3355 п. 4 ф.
репостной —магин Ђсобирал звоныї и обучал звонарей.
23 €нвар€. ¬се воскресенье и понедельник горел костер под ÷арем, - чтобы отта€ла земл€, и колокол упал на отбитые кра€ ближе к месту предполагаемого падени€ √одунова. –абочие на колокольне строили клетку под √одунова.
24 €нвар€. –едкость велика€: солнечный день. ÷ар€ подкопали и подперли домкратом. ¬ воскресенье рассчитывают бросить √одунова.
ќбразы религиозной мысли, замен€вшие философский €зык при выполнении завета: Ђшедше, научите все народыї [5], ныне отброшены, как обман. Ђ—ознательныеї люди последовательны, если разбивают колокола. ∆алки возражени€ с точки зрени€ охраны пам€тников искусств.
»ной человек по делам своим, по образу жизни подвижник и насто€щий герой, но если коснутьс€ его сознани€, то оно чисто мышиное: внутри его сама€ подла€ нынешн€€ тревога и готовность уступить даже Ѕога, лишь бы сохранить бытие на этом пути, который извне представл€етс€ нам героическим.
ћы ездили вечером на извозчике к ожевникову [6].
Ц ѕлохо живетс€? Ц спросил € извозчика.
Ц ќчень плохо, ответил он, перегон€ют в коллектив.
Ц Ќе всем плохо от этого, Ц сказал €.
Ц ƒа, не всем, только лучше немногим.
„ерез некоторое врем€ он сказал:
Ц ∆дать хорошего можно дл€ наших внуков, они помнить ничего нашего, как мы страдали, не будут.
Ц Ѕудут счастливы, Ц сказал €, Ц и не будут помнить о нашем мучении, какие счастливые свиньи! »звозчик очень пон€л мен€ и со смехом сказал:
Ц ¬ыходит, мы мучаемс€ дл€ счастливых свиней. ( стати, Ц вот зачем мощи и крест).
–астет некрещена€ –усь.
Ќечто страшное постепенно доходит до нашего обывательского сознани€, это Ц что зло может оставатьс€ совсем безнаказанным и нова€ ликующа€ жизнь может вырастать на трупах замученных людей и созданной ими культуры без пам€ти о них.
–абочие сказали, что решено оставить на колокольн€х 1000 пудов. ЂЋебедьї останетс€? Ц Ќе знаем, Цсказали: остаетс€ 1000 пудов.
Ц ј Ќикольский?
Ќичего не ответили рабочие, в сознании их и других разрушителей им€ тонуло в пудах.
Ц ѕравославный? Ц спросил €.
Ц ѕравославный, Ц ответил он.
Ц Ќе т€жело было в первый раз разбивать колокол?
Ц Ќет, Ц ответил он, Ц€ же за старшими шел и делал, как они, а потом само пошло.
» рассказал, что плата им на артель 50 коп. с пуда и заработок выходит по 8 1/2 р. в день.
√оворил с рабочими о √одунове, € спрашивал, не опасно ли будет сто€ть (нрзб.) на крыше. Ц Ќет, говорили они, совсем даже не опасно. Ц ј вот когда будете выводить из пролета на рельсы, не может он тут на бок Е
Ц Ќет, ответили рабочие, из пролета на рельсы мы проведем его, как барана.
олокола, все равно, как и мощи, и все другие образы религиозной мысли уничтожаютс€ гневом обманутых детей. “акое великое надо разумение Е
25 €нвар€. Ћебедками и полиспастами [7] повернули ÷ар€ так, что выломанна€ часть пришлась вверх. Ёто дл€ того, чтобы √одунов угодил как раз в этот вылом и ÷арь разломилс€.
∆гун определенно сказал, что ЂЋебедокї и с ним еще два сторонние колокола остаютс€.
27 €нвар€. Ќа сегодн€ обещают бросать √одунова.
28 €нвар€. ѕадение Ђ√одуноваї (1600Ц1930 г.) в 11 утра.
ј это верно, что ÷арь, √одунов и арнаухий висели р€дом и были разбиты падением одного на другой. “ак и русское государство было разбито раздором. Ќекоторые утешают себ€ тем, что сложитс€ лучше. Ёто все равно, что говорить о старинном колоколе, отлитом √одуновым, что из расплавленных кусков его бронзы будут отлиты колхозные машины и красивые статуи Ћенина и —талина Е
—начала одна старуха подн€лась к моему окну, веро€тно, кака€-нибудь родственница сторожа. Ќапрасно говорил € ей, что опасно, что старому человеку незачем и смотреть на это. ќна осталась, потому что така€ бессмысленна€ старуха должна быть при вс€кой смерти, человека, все равно как колокола Е ней присоединились еще какие-то женщины, сам сторож, дети пр€мо с салазками, и началось у них то знакомое всем нам обр€довое ожидание, как на ѕасхе ночью первого удара колокола, приезда архиере€ или Е
ќ ÷аре старуха сказала:
Ц Ѕольшой-то как легко шел! Ц Ћегко, а земл€ все-таки дрогнула. Ц Ќу, не без того, ведь четыре тыс€чи пудов. Ўтукатурка посыпалась, как упал, а пошел, как легко, как хорошо!
—овершенно так же говорила старуха о большом колоколе, как о покойнике каком-нибудь: »ван-то ћитрофаныч как хорошо лежит!
ѕотом о арнаухом: ¬от вижу: идет, идет, идет, идет -бах! и нет его, совсем ничего нет, и только бегут по белому снегу черные осколки его, как мыши.
ѕослышалось пение, это шел дл€ охраны отр€д новобранцев, вошел и стал возле “роицкого собора с пением: ”мрем за это!
–абочие спустились с колокольни к лебедкам. ” дверей расставились кое-что понимающие сотрудники музе€. огда лебедки загремели, кто-то из них сказал:
Ц √ремит и, видно, не поддаетс€ Е
Ц ≈ще бы, ответил другой, Ц ведь это шестнадцатый век тащат.
Ц ƒолго что-то, Ц вздохнула старуха, Ц вот тоже арнаухого часа два дожидались. ’орошо, легко Ѕольшой шел: не успели стать, гл€дим, идет, как паровоз.
ѕоказалс€ рабочий и стал смазывать жиром рельсы.
Ц Ѕараньим салом подмазывают!
Ц ¬ каждом деле так, не подмажешь, не пойдет.
Ц ƒа, Ѕольшой-то летел, и как здорово!
Ц Ѕудут ли оп€ть делать?
Ц олокол?
Ц Ќет, какие колокола, что уж! я про ступеньки на колокольне говорю разбитые, будут ли их делать.
Ц —тупеньки Е на что их!
Ц јх, как легко шел Ѕольшой. ∆алко мне. –аботали, старались.
— насмешкой кто-то ответил:
Ц » тут стараютс€, и тут работают. ѕосле нас оп€ть перерабатывать будут, а после них оп€ть, так жизнь идет.
Ц ∆изнь, конечно, идет, только дедушки и бабушки внучкам рассказывают, и вот и мы им расскажем, какие мы колокола видели.
ѕосле некоторого перерыва в работе, когда все как бы замерло и врем€ остановилось, из двери колокольни вышел ∆гун с портфелем и за ним все рабочие. Ќа колокольне осталс€ один Ћева-фотограф [8]. ∆гун с рабочими удалилс€ к толпе, дал сигнал, лебедки загремели, тросы нат€нулись и вдруг упали вниз: это значило, колокол (Ц неразборчиво.) и пошел сам.
Ц —ейчас покажетс€! Ц сказали сзади мен€.
Ц јх!
ѕоказалс€. » так тихо, так неохотно шел, как-то подозрительно. «а ним, сгора€, дымилась на рельсах подмазка. ўелкнув затвором в момент, когда он, потер€в под собой рельсы, стал наклон€тьс€, € предохранил себ€ от осколков, откинулс€ за кос€к окна. √ул был могучий и продолжительный. ѕосле того картина внизу €вилась, как и раньше: по-прежнему лежал подбитый ÷арь, и только по огромному куску, пудов в триста, шагах в п€тнадцати от ÷ар€, можно было догадатьс€, что это от √одунова, который разбилс€ в куски.
Ѕольшой дал новую трещину. ѕытались разломать его блоками полиспастом, но ничего не вышло Е
“ак окончил жизнь свою в 330 лет печальный колокол, звуки которого в ѕосаде привыкли соедин€ть с несчастьем, смертью и т.п. ѕо словам ѕопова, это сложилось из того, что 1-го ма€ служились панихиды по √одуновым и, конечно, звонили в этот колокол.
(Ќа пол€х): ƒруг мой, какие это пуст€ки, не в том дело, что его при √одунове отливали, многие из нас самих начало своей духовной организации получили при √одунове, Ц каком √одунове! через творени€ эллинов от Ёллады и от ≈гипта и кровь наша, обрыва€сь (Ц неразборчиво) бежит от первобытного человека.
ћногие из нас тоже колокола очень звучные и в падении колокола (Ц неразборчиво) и собираютс€ перед собственной смертью.
ћотив утомительно, нудно повтор€ющийс€: сколько пудов, и как подымали, и воспоминани€ о тех колоколах, которые упали.
29 €нвар€. ћы отправились сн€ть все, что осталось на колокольне.
–абочие лебедками подымали €зык большого колокола и с высоты бросали его на ÷ар€. —топудовый €зык отскакивал, как м€чик. ѕодводы напрасно ждали обломков.
¬ следующем €русе после того, заваленного бревнами и обрывками тросов, где висели не когда ÷арь, арнаухий и √одунов, мы с радостью увидели много колоколов, это были все те, о которых говорили: Ц Ђќстаетс€ тыс€ча пудовї.
Ёто был, прежде всего, славословный колокол Ћебедь (ЂЋебедокї), вис€щий посередине, и часть Ђзазвонных колоколовї. ¬ западном пролете оставалс€ один колокол (из четырех). ћожно наде€тьс€, что это осталс€ знаменитый Ђчудотворцев колоколї, отлитый игуменом Ќиконом в 1420 году. ¬ северном пролете оставались два, один из них цар€ јлексе€ ћихайловича.
— большим трудом мы сн€ли верхние возы. ¬ морозный день, безветренный, дым из труб белый стремилс€ на небо и многое закрывал.
30 €нвар€. ак удивительно вчера сошлись обе мои темы: 1) революционное разрушение св€тынь несчастнейшего народа и 2) медвежье-игрушечное с высоты колокольни мы разгл€дели колечко народа, окружающего представление ћарии ѕетровны [9].
31 €нвар€. ∆гун с сокрушением рассказывал Ћеве о своем промахе: он доложил о трудности сн€ти€ ЂЋебед€ї, и тут оказалось, ЂЋебедьї один из древнейших колоколов, и его решили сохранить.
Ц Ќадо было кокнуть его на колокольне, сказал ∆гун, Ц а потом и доказывать.
¬от такие они все техники. “акой же и (Ц неразборчиво) и Ћева таким же был бы, если бы не мое вли€ние, и €, не будь у мен€ таланта.
3 феврал€. “рагеди€ с колоколом потому трагеди€, что очень все близко к самому человеку: правда, колокол, хот€ бы √одунов, был как бы личным €влением меди, то была просто медь, масса, а то вот эта масса представлена формой звучащей, скажем пр€мо, личностью, единственным в мире колоколом √одуновым, ныне обратно возвращенным в природный сплав. Ќо и то бы ничего, это есть в мире, бывает, даже цивилизованные народы сплавл€ютс€. —трашна в этом нека€ принципиальность Ц как равнодушие к форме личного быти€: служила медь колоколом, а теперь потребовалось, и будет подшипником. » самое страшное, когда переведешь на себ€: Ђ“ы, скажут, писатель ѕришвин, сказками занимаешьс€, приказываем тебе писать о колхозахї.
6 феврал€. ƒва разоренные, обобранные попа, в чем были, в паническом страхе бежали из јлександровского уезда. Ќа станции Ѕерендеево они сошли с поезда, остриглись, переоделись в какое-то рубище и потом продолжили свой путь до —ергиева. “ут было раньше прибежище всем таким люд€м. Ќо теперь нет ничего, и даже им€ свое “роица переменила. “еперь это «агорск.
7 феврал€. ’одили с Ћевой в лаврскую баню. ѕо пути видели остатки колоколов: несколько обломков ÷ар€ и тот большой, пудов в 300 кусок √одунова, который отлетел на 15 шагов.
”ниверситет, говор€т, превращаетс€ в ѕолитехникум, и это, Ђвообще говор€ї, вполне пон€тно: революци€ наша с самого начала не считалась с тогами ученых и так постепенно через 12 лет превратила науку в технику и ученую де€тельность в спецслужбу. Ѕыло благо-го-го-вение к науке даже и у попа ћишки –ождественского: занималс€ краеведением и стариной. “еперь поп ћишка –ождественский служит в –удметаллтресте, занимаетс€ добыванием цветного металла из колоколов и больше не поп ћишка –ождественский, а тов. ќкт€брьский.
я лично давным-давно рассталс€ с научным Ђмиросозерцаниемї, но сохранил уважение и теперь сохран€ю к аскетизму ученых и их независимости от вли€ни€ многоразбойной повседневной жизни. Ќесомненно, особенно у нас, корпораци€ ученых была определенной большой общественной и политической силой. “еперь она снишла до основани€ и ученые стали просто техниками.
» осмос изъ€т из јкадемии. ƒавно пора! спектральный анализ почтенный метод дл€ техника, но он именно противник космоса.
„то же принесет с собой новый молодой человек на ту сторону бездны, разделившей нас с мечтой о любви к ближнему по церковным заветам и с милым гуманизмом науки?
8 феврал€. Ќепокорные колокола (»стор. ¬естник. 1880. “. II, ст. 796).
Ѕитва под Ќарвой (1770 г.) ¬ 1701 г. неслыханна€ мера Ц 1/4 часть колоколов отобрать. ¬ конце 1701 г. было добыто 8000 пуд. меди.
2 марта. (¬ырезка из газеты): Ђ„то это: политическое руководство колхозом или политика его разложени€ и дискредитации? я уже не говорю о тех, с позволени€ сказать, Ђреволюционерахї, которые дело организации артели начинают со сн€ти€ колоколов. —н€ть колокола Ц подумаешь, кака€ революционность!ї (—талин. »звести€, 2 марта 1930 г.)
¬чера было напечатано распор€жение о том, чтобы в средних школах не мучили детей лишенцев за их лишенство. “ак резко выдел€лись эти строки среди человеконенавистнических, что все это заметили, и все об этом говорили. этому так странно прибавл€ли, что будто бы к 15 марта хот€т отменить п€тидневку. ¬ воздухе запахло поворотом: боги насытились кровью. » правда, сегодн€ напечатана стать€ —талина Ђ√оловокружение от успеховї, в которой он идет сам против себ€. ≈два ли когда-нибудь доходили политики до такого цинизма: правда, как на это смотреть, если, например, отдав приказ об уничтожении колоколов, через некоторое врем€, когда колокола будут разбиты, стал бы негодовать на тех, кто их разбивал.
¬ учреждени€х, в редакци€х, в магазинах сонно, пусто и как-то пыльно, везде остатки чего-то, хлама. ƒа, по-видимому, дальше идти некуда Е
12 марта. ѕосле манифеста мало-помалу определ€етс€ положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, Ц это значит, мужик стал продавать (в пользу себ€), а не распродавать ввиду коллективизации. », заметно, многие перестали думать о войне, что, по всей веро€тности, и более верно: не будет войны. —колько же порезано скота, во что обошелс€ стране этот неверный шаг правительства, опыт срочной принудительной коллективизации. √овор€т, в два года не восстановить. ј в области культуры, разрушение всей 12-летней работы интеллигенции по сохранению пам€тников искусства?
16 марта. ј.Ќ. “ихонов [10] (€ говорю о нем, потому что он, Ѕазаров Ц им€ им легион) все неразумное в политике презрительно называет Ђголовот€пствомї. Ёто слово употребл€ют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. ѕомню, еще аменев на мое донесение о повседневных преступлени€х ответил спокойно, что у нас в правительстве все разумно и гуманно.
Ц то же виноват? Ц спросил €.
Ц «начит, народ такой, Ц ответил аменев.
“еперь то же самое, все ужасающие преступлени€ этой зимы относ€тс€ не к руководител€м политики, а к головот€пам. ј такие люди, как “ихонов, Ѕазаров, √орький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей Е ƒл€ них, высших бар марксизма, головот€пами €вл€ютс€ уже и —талины Е »х вера, опорный пункт Ц разум и наука.
Ёти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского Ђразумаї и научной классовой борьбы, €вл€ютс€ истинными виновниками Ђголовот€пстваї.
ќни презирают правительство, но сид€т около него и другого ничего не желают. ¬от ≈сенин повесилс€ и тем спас многих поэтов: стали бо€тьс€ их трогать. ѕредложи этим разумникам вместе сгореть, как в старину за веру горели русские люди. Ђ«а что же гореть? Ц спрос€т они, Ц все принципы у нас очень хорошие, желать больше нечего: разве сам по себе коллективизм плох, или не нужна стране индустриализаци€? «ащита материнства, детства, бедноты Ц разве все это плохо? «а что гореть?ї
¬еро€тно, так было и в эпоху Ќикона: исправление богослужебных книг было вполне разумно, но в то же врем€ под предлогом общего лика разумности происходила подмена внутреннего существа. ѕринципа, за который сто€ть, как и в наше врем€, не было Ц схватились за двуперстие и за это горели.
«начит, не в принципе дело, а в том, что веры нет: интеллигенци€ уже погорела.
22 марта. акой разрыв в душе моей, кака€ боль бессмысленна€. ”томленный бездельем, думаю иногда: Ђкак бы ужаснулс€ какой-нибудь восторженный мой читатель, если бы он загл€нул в мою пустотуї.
9 апрел€. н€зь сказал: Ђ»ногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходитї.
‘отографировал весну: снег с летними облаками, снег на глазах рождает воду, и летние облака уже спешат отразитьс€ в этой мутной воде. Ћет€т журавли Е
ћальчишка потребовал:
Ц —ними мен€!
я промолчал. ќн лезет.
Ц ”бирайс€! Ц сказал €.
ќн отстал и камнем мен€ в затылок, мен€, старика, собиравшего материалы дл€ детских рассказов. „то было делать? ќн пустилс€ бежать во весь дух. —верху видели два молодых человека. я им пожаловалс€. ќни не отозвались даже Е ¬от так и съел камень.
онечно, такие мальчишки всегда были, но боли такой не было в душе, и потому камень нынешнего времени гораздо больнее ударил. Ѕоль небывала€. » некуда с ней прислонитьс€, как раньше бывало (Ђнекому слезу утеретьї). Ѕывало, все надеемс€: вот переможем, нажмем и будет лучше. √лавное тогда (хот€ бы при Ћенине) думалось, что можно смиритьс€, по-человечески кому-то рассказать и поймут, и заступ€тс€. “еперь некому заступитьс€. » вовсе пропади Ц совсем не отзовутс€, потому что мало ли пропало вс€ких людей и пропадает каждый день.
10 апрел€. Ќикогда весной не был € таким гражданином, как теперь: мысль о гибнущей родине, посто€нна€ тоска не забываетс€ ни при каких восторгах, напротив, все эти ручейки из-под снега, песенки жаворонок и з€бликов, молода€ звезда на заре Ц все это каким-то образом непременно возвращает к убийственной росстани: жить до смерти в полунищете среди нищих, озлобленно воспитанных по идее классовой борьбы, или отдатьс€ в плен чужих людей, которые с иностранной точки зрени€ взвес€т твою жизнь и установ€т ее небольшую международную значимость Е
«аболей € какой-нибудь смертельной болезнью, жена мо€ ≈фросинь€ ѕавловна непременно с первой поры сделала бы мен€ самого виновником Е ќчень возможно, что и € сам бы признал свою вину, и во вс€ком случае, в тот момент, когда болезнь даст отдых, порадовалс€ бы люд€м и жизни всей вообще: ну, умираю и умру, так надо, а все-таки, ну, как же славно они живут. “ак вот это состо€ние легче и, во вс€ком случае, как-то достойней, (чем) теперь: € здоров как бык, в полном расцвете своего таланта, а родина, умира€, проходит мимо, и ей не до теб€.
“ак вот что хочу € сказать: лучше мне, лучше умереть самому и в хорошие мужественные минуты радоватьс€, что жизнь остаетс€ хороша€, чем самому оставатьс€ и думать, что жизнь, заключенна€ в пон€тие Ђродинаї, проходит. Ќет ничего печальней одинокого дерева на вырубке Е
20 апрел€. Ёпоха диктатуры страшно понизила нравственное сознание масс и, по-моему, главным образом через мальчишек, которых в мес€чный срок учат на курсах Ђв два счета на €тьї классовой борьбе. »х бы таких надо было на фронт, и они бы геро€ми были, а они упражн€ютс€ в геройстве на беззащитных гражданах под видом войны с кулаками. “ак через них и сами граждане мало-помалу затемн€ютс€ в своем нравственном сознании.
¬от мо€ хоз€йка в ѕереславище ƒомна »вановна кака€ хороша€, трудолюбива€ женщина, и вот как удивила она мен€, как задела, как расстроила. ѕравда, ничто так не расстраивает, как это понижение сознани€. ¬ этот раз разговорились мы о конском м€се, что вот мужики правильно же ед€т конскую колбасу Ђтпру, тпру, а ед€тї, хоть бы что. ƒомна »вановна при этом рассказала, что салом от конины можно заразитьс€, что в имрах так было Ц сорок человек заразились.
Ц –асстреливать будут! Ц сказала ƒ.».
Ц ¬иновников? Ц спросил €, полага€, что ветеринар недосмотрел и вот их за это.
Ц ƒа, да, Ц не пон€ла мен€ ƒ.»., Ц всех их сорок человек расстрел€ют, чтобы других не заражали.
Ц ¬здор! Ц сказал €, Ц не может этого быть. » рассказал ƒ.»-е о двух-трех случа€х из медицинской практики, когда смерть человека и ему самому кажетс€ желанной, и другим очень полезно, а вот нельз€ Е
Ц ѕодумайте, Ц рассказал €, Ц если бы можно было уничтожить безнадежно больных, то непременно это перекинулось бы на бесполезных, по том стали бы отбирать на плем€ более сильных, а слабых топить. „уть нехватка в чем, и лишних долой. — землей-то как хорошо: переумножились люди Ц и чистка! ƒа разве так можно! ƒа разве можно поверить тому имренскому салу, √осподь с вами, ƒомна »вановна.
–авнодушно так ответила ƒ.».:
Ц «а что купила, за то продаю, ћихаил ћихайлович, слышала от людей, сказывали, что болезнь заразна€, неизлечима€ Е
“€жело мне было, главное, потому, что речь мо€ так и не возвратила ƒомне »вановне ее прежнее, очевидно, умирающее в ней сознание. ѕравда, столько расстреливают людей, признанных граждан вредными, почему же не расстрел€ть зараженных этой страшной неизлечимой болезнью людей Е
27 апрел€. ¬стретил искусствоведа из “реть€ковки (—вирина) и сказал ему, что дл€ нашего искусства наступает пещерное врем€ и нам самим теперь загод€ надо подготовить пещерку. »ли вз€ть пр€мо решитьс€ сгореть в срубе по примеру наших предков 16-го в. —вирин сказал на это, что у него из головы не выходит Ц покончить с собой прыжком в крематорий.
Ц ј разве можно? Ц спросил €.
Ц ћожно, Ц сказал он, Ц когда ворота крематори€ открываютс€, чтобы пропустить гроб, есть момент, когда можно прыгнуть.
6 ма€. «а событи€ми не надо гон€тьс€. аждое событие дает волну, котора€ достигнет непременно и теб€, сид€щего за тыс€чу верст от исхода его. Ќужно только быть готовым в себе самом, чтобы по €влени€м в твоей повседневной жизни понимать и общую мировую жизнь. Ќа деле, конечно, есть множество волн, которые докатываютс€ до теб€ едва заметными и потому не воспринимаютс€. Ќо среди них все-таки всегда найдетс€ довольно, чтобы думать и понимать историю. ¬от ограбили, сбросили колокола у нас Ц € пон€л борьбу креста и пентаграммы.
— колокольни –астреллевской сбросить крест не посмели, зато маем и в окт€бре устраивают из него посредством электрических простых лампочек пентаграмму.
¬ ‘едерации, а говор€т, и везде будет так: установилась тверда€ п€тидневка, то есть, п€ть дней работают, а шестой день отдыхают. “аким образом, больше нет уже непрерывки, из-за которой ввели п€тидневку. ¬се свелось к спору с Ѕогом. ќн велел шесть дней работать, а у нас вел€т п€ть.
ј везде, на всем свете есть воскресенье.
30 но€бр€. ѕриближаетс€ годовщина уничтожени€ —ергиевских колоколов. Ёто было очень похоже на зрелище публичной казни. ¬ особенности жаль Ђ√одуноваї. ¬едь если бы в царе Ѕорисе одном было дело, еще бы ничего, но между царем Ѕорисом и колоколом Ђ√одуновымї еще ведь ѕушкин.
1932
12 феврал€. —нова вернулось тепло, метелица, и в белом чернеют строени€ Ћавры, знаменита€ колокольн€ с разбитыми колоколами и все Е
Ц „его ты смотришь? Ц спросил мен€ маленький мальчик.
Ц ј что это? Ц спросил €, указыва€ на здание Ћавры, Ц ты знаешь?
Ц «наю, Ц ответил он бойко, Ц это раньше тут Ѕог был.
Ќа чистке.
Ц ак относитесь к религиозному культу?
Ц Ѕога нет.
—ильно сказано было, и чистке был бы конец, но какой-то €довитый простой человек из темного угла попросил разрешени€ задать вопрос и так задал:
Ц ¬ы сказали, что теперь Ѕога нет, а позвольте узнать, как вы думаете о прошлом, был ли раньше Ѕог?
Ц Ѕыл Ц ответил он.
¬се переменитс€ скоро от радио, электричества, воздухоплавани€, газовых войн, и социализм дойдет до того, что каждый будет отвечать за обороненное внутреннее слово.
¬се слова, улыбки, рукопожати€, слезы получат иное, внешнее, условное значение. Ќо в глубине личности спор о жертве (“роица) останетс€ и будет накопл€тьс€. Ѕыть может, настанет врем€, когда некоторые получат возможность шептатьс€, больше и больше, воздух наполнитс€ шепотом или нечленораздельными звуками, или даже темными непон€тными словами, которыми говор€т маленькие дети, и, наконец, как у детей, выйдет первое слово Е и тут начнетс€ эпоха второго пришестви€ ’риста.
¬ступление, подготовка текста и примечани€ Ћ.ј. –€зановой.
ѕримечани€
[1] ≈фросинь€ ѕавловна —могалева Ц перва€ жена ѕришвина.
[2] Ќасто€щее им€ колокола Ђ ирноцкийї. —м. запись 19 €нвар€ о чтении ѕришвиным очерка ј. «арина Ђ олоколаї в журнале Ђјргусї є 8. —ѕб., 1913.
[3] ѕришвин вольно употребл€ет латинское выражение Ђcogito, ergo sumї: Ђя мыслю, следовательно, € существуюї.
[4] ѕришвин не совсем точно приводит слова ’риста: Ђ»исус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и € в три дн€ воздвигну егої. ≈вангелие от »оанна, гл. 2, стих 19.
[5] »меютс€ в виду слова ’риста: Ђ»так, идите, научите все народы, крест€ их во им€ ќтца и —ына и —в€того ƒухаї. ≈вангелие от ћатфе€, гл. 28, стих 19.
[6] ожевников ј.¬. (1891Ц?) русский советский писатель, автор книг о преобразовании —ибири, социалистическом строительстве и др.
[7] ”стройство, предназначенное дл€ подъЄма и перемещени€ т€жестей: система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых гибким канатом.
[8] Ћев ћихайлович ѕришвин-јлпатов Ц старший сын писател€.
[9] ¬ эти дни по городу давала уличные представлени€ брод€ча€ труппа цыган с дрессированными медвед€ми.
[10] “ихонов ј.Ќ. (псевд. —еребров) (1880Ц1956) Ц русский советский литературный де€тель, писатель, сотрудничал с ј.ћ. √орьким, после ќкт€брьской революции заведовал издательством Ђ¬семирна€ литератураї, редактировал многие литературные журналы.
[11] „ерновик письма.
1926
23 но€бр€. ”читель, посетивший “роицкую лавру с экскурсией, сказал при виде Ђ“роицыї –ублева ученикам: Ђ¬се говор€т, что на этой иконе удивительно сохранились краски, но краски на папиросных коробочках по маслу гораздо €рчеї.
“олпа каких-то уродливых людей окружила мощи преп. —ерги€, молча разгл€дыва€ кости под стеклом, наконец один сказал:
Ц Ќетленные!
» все загоготали.
— каким бы наслаждением в это врем€ € провЄл тоненькую черную машинную ниточку и потихонечку дернул, чтобы череп хоть чуть-чуть шевельнулс€. ¬от бы посмотреть, как мчатс€ в безумии обезь€ны. я бы не стал их обманывать, чтобы собирать с них медные копейки, как делал монах, и увозить на каждую службу из церкви на украшение обители. я бы только их попугал, чтобы они, подход€ к недоступному им и непостижимому, имели страх Е
1929
22 но€бр€ . ¬ Ћавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдет в переливку. „истое злодейство, и заступитьс€ нельз€ никому и как-то неприлично: слишком много жизней губ€т ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол Е
12 декабр€. —ейчас резко обозначаютс€ два понимани€ жизни. ќдним Ц всЄ в индустриализации страны, в п€тилетке и тракторных колоннах, они глубоко уверены, что если удастс€ организовать кресть€н в коллективы, добыть хлеб, а потом всЄ остальное, необходимое дл€ жизни, то вот и всЄ. » так они этим живут, иногда же, когда вообраз€т себе, что нигде в свете не было такого великого коллектива, приход€т пр€мо в восторг.
ƒругие всему этому хлебно-тракторному коллективу не придают никакого значени€, не дают себе труда даже вдуматьс€ в суть дела. »х в содрогание приводит вид разбитой паперти у “роицы, сброшенного на землю колокола, кинотеатр в церкви и место отдыха, об€зательное дл€ всех граждан безбожие и, вообще, это высшее достижение, индустриальное извлечение хлеба из земли Е ѕусть бы! Ц думают они, Ц по существу в (Ц неразборчиво), но раз оно противопоставл€етс€ вызывающе любви (хлеб вместо любви), тем становитс€ и враждебным: что-то вроде искушени€ —атаны Е
25 декабр€. ѕусть отмен€т –ождество, сколько хот€т, моЄ –ождество вечное, потому что не € мишурой убираю дерево, а мороз стараетс€. Ќа восходе березовые опушки, словно мороз щекой к солнцу стал, и они стали ему разукрашивать: никакими словами не передать, как разукрасились березовые опушки, сколько блесток Е след триумфатора.
1930
4 €нвар€. ѕоказывал ѕавловне [1] упавший вчера колокол, при близком разгл€дывании сегодн€ заметил, что и у ≈катерины ¬еликой, и у ѕетра ѕервого маленькие носы на барельефных изображени€х т€пнуты молотком: это, наверно, издевались рабочие, когда еще колокол висел. —амое же т€жкое из этого раздумь€ €вл€етс€ о наших богатствах в искусстве: раз Ђбыть или не бытьї индустрии, то почему не спустить и –ембрандта на подшипники. » спуст€т, как пить дать, все спуст€т непременно. ѕавловна сказала: ЂЌарод навозный, всю красоту продадутї.
5 €нвар€. («апись на пол€х): ѕогон€т в коллектив.
1) ак у нас церковь закрыли.
2) Е Ц ѕойдем, мы тоже, когда умрем, погл€д€т и пойдут.
3) Ц огда его сбросили? Ц Ќочью, в 12 часов.
4) Ц ак поднимали! —бросить Ц техника, вс€кие специалисты, а ведь как, дураки, подымали.
ѕоп: Ц ѕустой! €зыка нет. Ц Ќу, так чего же Е Ц „его? Ц ƒа вы говорили, что просто упал и ничего не было: откуда же возьметс€, если €зыка нет: лишенец Е
6 €нвар€. —очельник. ¬ерующим к –ождеству вышел сюрприз. —озвали их. Ќабралось множество мальчишек. ¬ышел дефективный человек и сказал речь против ’риста. ”личные мальчишки радовались, сме€лись, верующие молчали: им было страшно сказать за ’риста, потому что вс€ жизнь их зависит от кооператива, перестанут хлеб выдавать и крышка! ѕосле речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. ¬ерующие и (кое)-какие старинные: “арасиха и другие молчали. » так вышло, что верующие люди оставили себ€ сами без –ождества и церковь закрыли. —ердца больные, животы голодные и посто€нна€ мысль в голове: рано или поздно погон€т в коллектив.
8 €нвар€. ¬чера сброшены €зыки с √одунова и арнаухого [2]. арнаухий на домкратах. ¬ п€тницу он будет брошен на ÷ар€ с целью разбить его. √овор€т, старый звонарь пришел сюда, приложилс€ к колоколу, простилс€ с ним: Ђѕрощай, мой друг!ї и ушел, как пь€ный.
Ѕыл какой-то еще старик, как увидел, ни на кого не посмотрел, сказал: Ђ—укины дети!ї ¬езде шныр€ет уполномоченный √ѕ”. ≈го бесстрастие. », вообще, намечаетс€ тип такого чисто государственного человека: ему до теб€, как человека, нет никакого дела. ’олодное, неумолимое существо.
–азговор об отливке колоколов, о способах подн€ти€, о времени отливки и устройства колокольни, и все врут, хот€ тут же над головой стоит дата начала закладки здани€ при јнне »оановне в 1741 году и окончани€ при ≈катерине в 1769-м. Ђ¬се врут, никто ничего не помнит теперь верної, Ц закончила одна женщина.
9 €нвар€. Ќа колокольне идет работа по сн€тию арнаухого, очень плохо он поддаетс€, качаетс€, рвет канаты, два домкрата см€л, работа опасна€, и снимать было чуть-чуть рискованно. Ѕольшим колоколом, тросами, лебедками завладели дети. ¬нутри колокола полно реб€т, с утра до ночи колокол звенит Е ¬рем€ от времени в пролете, откуда упал колокол, по€вл€етс€ т. Ћитвинов и русской руганью, но как-то по-латышски бесстыдно и жестоко ругаетс€ на реб€т. ќстр€ки говор€т: бьет в большие колокола и с перезвоном.
15 €нвар€. 11-го сбросили арнаухого. ак по-разному умирали колокола. Ѕольшой, ÷арь, как большой доверилс€ люд€м в том, что они ему ничего худого не сделают, далс€ опуститьс€ на рельсы и с огромной скоростью покатилс€. ѕотом он зарылс€ головой глубоко в землю. “олпы детей приходили к нему, и все эти дни звонили в кра€ его, а внутри устроили себе насто€щую детскую комнату.
арнаухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давалс€, то качнетс€, то разломает домкрат, то дерево под ним трескаетс€, то канат оборветс€. » на рельсы шел неохотно, его потащили тросами Е
ѕри своей громадной форме, подход€щей большому ÷арю, он был очень тонкий: его 1200 пудов были отлиты почти по форме ÷ар€ в 4000. «ато вот когда он упал, то разбилс€ вдребезги. ”жасно л€згнуло и вдруг все исчезло: по-прежнему лежал на своем месте ÷арь-колокол, и в разные стороны от него по белому снегу бежали быстро осколки арнаухого. ћне, бывшему сзади ÷ар€, не было видно, что спереди и от него отлетел огромный кусок.
—торож подошел ко мне и спросил, почему € в окне, а не с молодежью на дворе.
Ц ѕотому, ответил €, что там опасно: они молодые, им не страшно и не жалко своей жизни.
Ц ¬ерно, ответил сторож, молодежи много, а нам, старикам, жизнь свою надо продлить Е
Ц «ачем, удивилс€ € нелепому обороту мысли.
Ц ѕосмотреть, сказал он, чем у них все кончитс€, они ведь не знали, что было, им и неинтересно, а нам сравнить хочетс€, нам надо продлить.
¬друг совершенно стихли дурацкие крики операторов, и слышалось только визжание лебедок при пот€гивании тросов. ѕотом глубина пролета вс€ заполнилась и от неба на той стороне осталось только, чтобы дать очертание форм огромного колокола. ѕошел, пошел! » он медленно двинулс€ по рельсам.
16 €нвар€. ќсматривали музей. ƒве женщины делали вид, что рассматривают мощи преп. —ерги€, как вдруг одна перекрестилась и только бы вот губам ее коснутьс€ стекла, вдруг стерегущий мощи коммунист резко крикнул: ЂЌельз€!ї.
–ассказывали, будто одна женщина из ћосквы не посмотрела на запрещение, прикладывалась и молилась на колен€х. ” нее вз€ли документы и в ћоскве лишили комнаты.
—колько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических пам€тников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране теперь идет уничтожение культурных ценностей и живых организованных личностей.
¬сегда ли революцию сопровождает погром (Ђграбь награбленноеї)?
—ильнейша€ центральна€ власть и несомненна€ мощь расной јрмии Ц вот все Ђergo sumї [3] коллектива —оветской –оссии. „еловеку, поглощенному этим, конечно, могут показатьс€ смешными наши слезы о гибели пам€тников культуры. ћало ли пам€тников на свете! ’ватит! » правда, завтра миллионы людей, быть может, останутс€ без куска хлеба, стоит ли серьезно горевать о гибели пам€тников?
¬от жуть с колхозами!
17 €нвар€. Ќе то замечательно, что €вилс€ негод€й, ими хоть пруд пруди! Ц а что довольно было ему €витьс€ и назвать ƒом ученых контрреволюционным учреждением, чтобы вс€ ћосква начала говорить о закрытии ƒома ученых. ѕо всей веро€тности, такое же происхождение имеют и нынешние зверства в отношении пам€тников искусства.
19 €нвар€. ¬есь день отделывал снимки колокола. Ђ–азрушите храм сейї Е [4]. Ќа какие-нибудь 30 верст, а мой колокол будет звонить по всей земле, на всех €зыках. Ќо Е ¬от это Ђної и завлекает в тему: какое должно быть мое слово, что бы звучало как бронза!
¬се это врем€ лебедкой поднимали высоко €зык большого колокола и бросали его на кусок арнаухого и Ѕольшого, дробили так и грузили. » непрерывно с утра до ночи приходили люди и повтор€ли: трудно опускать, а как же было поднимать?
¬нутренность нашего большого колокола, под которым мы живем, была наполнена туманом: чуть виднелась колокольн€, но резко слышались металлические раскаты лебедок, управл€ющих движением большого колокола на пути по крыше, с которой сегодн€ он должен свалитьс€ Е
¬от на дворе сложена поленница березовых дров, сделанна€ дл€ нашего тепла из когда-то живых берез. ћы теперь ими топимс€, и этим теплом, размножа€сь, движемс€ куда-то вперед (Ђмыї Ц род человеческий). “очно так же, как дрова, и электричество, и вс€ техника усложн€етс€, потому что мы размножаемс€. » так мы живем, создава€ из всего живого средства дл€ своего размножени€. », конечно, если дать полную волю государству, оно вернет нас непременно к состо€нию пчел или муравьев, то есть мы все будем работать в государственном конвейере, каждый в отдельности, ничего не понима€ в целом. ѕока еще все миросозерцани€, кроме казенного, запрещены, настанет врем€, когда над этим будут просто сме€тьс€. аждый будет вполне удовлетворен своим делом и отдыхом.
¬от почему и был разбит большой колокол: он ведь представл€л собой своими кра€ми круг горизонта и звон его купно Е (не дописано).
язык арнаухого был вырван и сброшен еще дн€ три тому назад, губы колокола изорваны домкратами.
Ђјргусї 1913 г. є 8. ќчерк «арина Ђ олоколаї.
≈ще египт€не и ассирийцы Ђзвоном созывали мол€щихс€ в храмыї. ј за 200 л. до –.X. историки дают точное описание колоколов в современном значении. ¬ итае, японии, »ндии Ц за 4000 лет до –.X.
¬ «ап. ≈вропе начало колоколов в VII в.
¬ Ћондоне 850 пуд. Ц самый большой, если не считать ельнского Ђвеликого молчальникаї в 1312 п. (неудачный).
¬ –оссии первое упоминание в 1066 г.
¬ XVI в. в –остове Ђблаговестникї 1000 п.
онец XVII в. в –остове митрополит »она —ысоевич Ц страстный ревнитель колокольного дела Ц в 1689 г. он отлил знаменитые 3 ростовских колокола: Ђ—ысойї 2000 пуд., Ђѕолиелейныйї 1000 п. и будничный ЂЋебедьї 500 п.
“роице-—ерг. Ц в конце XVII в. отлит в 3319 п. и в 1746 ≈лизаветой перелит и доб. до 4000 п. (Ђ÷арьї) √одунов Ц 1850 и Ђ ирноцкийї 1275 п.
¬ ћоскве на олок. »вана ¬еликого Ђ”спенскийї Ц 3355 п. 4 ф.
репостной —магин Ђсобирал звоныї и обучал звонарей.
23 €нвар€. ¬се воскресенье и понедельник горел костер под ÷арем, - чтобы отта€ла земл€, и колокол упал на отбитые кра€ ближе к месту предполагаемого падени€ √одунова. –абочие на колокольне строили клетку под √одунова.
24 €нвар€. –едкость велика€: солнечный день. ÷ар€ подкопали и подперли домкратом. ¬ воскресенье рассчитывают бросить √одунова.
ќбразы религиозной мысли, замен€вшие философский €зык при выполнении завета: Ђшедше, научите все народыї [5], ныне отброшены, как обман. Ђ—ознательныеї люди последовательны, если разбивают колокола. ∆алки возражени€ с точки зрени€ охраны пам€тников искусств.
»ной человек по делам своим, по образу жизни подвижник и насто€щий герой, но если коснутьс€ его сознани€, то оно чисто мышиное: внутри его сама€ подла€ нынешн€€ тревога и готовность уступить даже Ѕога, лишь бы сохранить бытие на этом пути, который извне представл€етс€ нам героическим.
ћы ездили вечером на извозчике к ожевникову [6].
Ц ѕлохо живетс€? Ц спросил € извозчика.
Ц ќчень плохо, ответил он, перегон€ют в коллектив.
Ц Ќе всем плохо от этого, Ц сказал €.
Ц ƒа, не всем, только лучше немногим.
„ерез некоторое врем€ он сказал:
Ц ∆дать хорошего можно дл€ наших внуков, они помнить ничего нашего, как мы страдали, не будут.
Ц Ѕудут счастливы, Ц сказал €, Ц и не будут помнить о нашем мучении, какие счастливые свиньи! »звозчик очень пон€л мен€ и со смехом сказал:
Ц ¬ыходит, мы мучаемс€ дл€ счастливых свиней. ( стати, Ц вот зачем мощи и крест).
–астет некрещена€ –усь.
Ќечто страшное постепенно доходит до нашего обывательского сознани€, это Ц что зло может оставатьс€ совсем безнаказанным и нова€ ликующа€ жизнь может вырастать на трупах замученных людей и созданной ими культуры без пам€ти о них.
–абочие сказали, что решено оставить на колокольн€х 1000 пудов. ЂЋебедьї останетс€? Ц Ќе знаем, Цсказали: остаетс€ 1000 пудов.
Ц ј Ќикольский?
Ќичего не ответили рабочие, в сознании их и других разрушителей им€ тонуло в пудах.
Ц ѕравославный? Ц спросил €.
Ц ѕравославный, Ц ответил он.
Ц Ќе т€жело было в первый раз разбивать колокол?
Ц Ќет, Ц ответил он, Ц€ же за старшими шел и делал, как они, а потом само пошло.
» рассказал, что плата им на артель 50 коп. с пуда и заработок выходит по 8 1/2 р. в день.
√оворил с рабочими о √одунове, € спрашивал, не опасно ли будет сто€ть (нрзб.) на крыше. Ц Ќет, говорили они, совсем даже не опасно. Ц ј вот когда будете выводить из пролета на рельсы, не может он тут на бок Е
Ц Ќет, ответили рабочие, из пролета на рельсы мы проведем его, как барана.
олокола, все равно, как и мощи, и все другие образы религиозной мысли уничтожаютс€ гневом обманутых детей. “акое великое надо разумение Е
25 €нвар€. Ћебедками и полиспастами [7] повернули ÷ар€ так, что выломанна€ часть пришлась вверх. Ёто дл€ того, чтобы √одунов угодил как раз в этот вылом и ÷арь разломилс€.
∆гун определенно сказал, что ЂЋебедокї и с ним еще два сторонние колокола остаютс€.
27 €нвар€. Ќа сегодн€ обещают бросать √одунова.
28 €нвар€. ѕадение Ђ√одуноваї (1600Ц1930 г.) в 11 утра.
ј это верно, что ÷арь, √одунов и арнаухий висели р€дом и были разбиты падением одного на другой. “ак и русское государство было разбито раздором. Ќекоторые утешают себ€ тем, что сложитс€ лучше. Ёто все равно, что говорить о старинном колоколе, отлитом √одуновым, что из расплавленных кусков его бронзы будут отлиты колхозные машины и красивые статуи Ћенина и —талина Е
—начала одна старуха подн€лась к моему окну, веро€тно, кака€-нибудь родственница сторожа. Ќапрасно говорил € ей, что опасно, что старому человеку незачем и смотреть на это. ќна осталась, потому что така€ бессмысленна€ старуха должна быть при вс€кой смерти, человека, все равно как колокола Е ней присоединились еще какие-то женщины, сам сторож, дети пр€мо с салазками, и началось у них то знакомое всем нам обр€довое ожидание, как на ѕасхе ночью первого удара колокола, приезда архиере€ или Е
ќ ÷аре старуха сказала:
Ц Ѕольшой-то как легко шел! Ц Ћегко, а земл€ все-таки дрогнула. Ц Ќу, не без того, ведь четыре тыс€чи пудов. Ўтукатурка посыпалась, как упал, а пошел, как легко, как хорошо!
—овершенно так же говорила старуха о большом колоколе, как о покойнике каком-нибудь: »ван-то ћитрофаныч как хорошо лежит!
ѕотом о арнаухом: ¬от вижу: идет, идет, идет, идет -бах! и нет его, совсем ничего нет, и только бегут по белому снегу черные осколки его, как мыши.
ѕослышалось пение, это шел дл€ охраны отр€д новобранцев, вошел и стал возле “роицкого собора с пением: ”мрем за это!
–абочие спустились с колокольни к лебедкам. ” дверей расставились кое-что понимающие сотрудники музе€. огда лебедки загремели, кто-то из них сказал:
Ц √ремит и, видно, не поддаетс€ Е
Ц ≈ще бы, ответил другой, Ц ведь это шестнадцатый век тащат.
Ц ƒолго что-то, Ц вздохнула старуха, Ц вот тоже арнаухого часа два дожидались. ’орошо, легко Ѕольшой шел: не успели стать, гл€дим, идет, как паровоз.
ѕоказалс€ рабочий и стал смазывать жиром рельсы.
Ц Ѕараньим салом подмазывают!
Ц ¬ каждом деле так, не подмажешь, не пойдет.
Ц ƒа, Ѕольшой-то летел, и как здорово!
Ц Ѕудут ли оп€ть делать?
Ц олокол?
Ц Ќет, какие колокола, что уж! я про ступеньки на колокольне говорю разбитые, будут ли их делать.
Ц —тупеньки Е на что их!
Ц јх, как легко шел Ѕольшой. ∆алко мне. –аботали, старались.
— насмешкой кто-то ответил:
Ц » тут стараютс€, и тут работают. ѕосле нас оп€ть перерабатывать будут, а после них оп€ть, так жизнь идет.
Ц ∆изнь, конечно, идет, только дедушки и бабушки внучкам рассказывают, и вот и мы им расскажем, какие мы колокола видели.
ѕосле некоторого перерыва в работе, когда все как бы замерло и врем€ остановилось, из двери колокольни вышел ∆гун с портфелем и за ним все рабочие. Ќа колокольне осталс€ один Ћева-фотограф [8]. ∆гун с рабочими удалилс€ к толпе, дал сигнал, лебедки загремели, тросы нат€нулись и вдруг упали вниз: это значило, колокол (Ц неразборчиво.) и пошел сам.
Ц —ейчас покажетс€! Ц сказали сзади мен€.
Ц јх!
ѕоказалс€. » так тихо, так неохотно шел, как-то подозрительно. «а ним, сгора€, дымилась на рельсах подмазка. ўелкнув затвором в момент, когда он, потер€в под собой рельсы, стал наклон€тьс€, € предохранил себ€ от осколков, откинулс€ за кос€к окна. √ул был могучий и продолжительный. ѕосле того картина внизу €вилась, как и раньше: по-прежнему лежал подбитый ÷арь, и только по огромному куску, пудов в триста, шагах в п€тнадцати от ÷ар€, можно было догадатьс€, что это от √одунова, который разбилс€ в куски.
Ѕольшой дал новую трещину. ѕытались разломать его блоками полиспастом, но ничего не вышло Е
“ак окончил жизнь свою в 330 лет печальный колокол, звуки которого в ѕосаде привыкли соедин€ть с несчастьем, смертью и т.п. ѕо словам ѕопова, это сложилось из того, что 1-го ма€ служились панихиды по √одуновым и, конечно, звонили в этот колокол.
(Ќа пол€х): ƒруг мой, какие это пуст€ки, не в том дело, что его при √одунове отливали, многие из нас самих начало своей духовной организации получили при √одунове, Ц каком √одунове! через творени€ эллинов от Ёллады и от ≈гипта и кровь наша, обрыва€сь (Ц неразборчиво) бежит от первобытного человека.
ћногие из нас тоже колокола очень звучные и в падении колокола (Ц неразборчиво) и собираютс€ перед собственной смертью.
ћотив утомительно, нудно повтор€ющийс€: сколько пудов, и как подымали, и воспоминани€ о тех колоколах, которые упали.
29 €нвар€. ћы отправились сн€ть все, что осталось на колокольне.
–абочие лебедками подымали €зык большого колокола и с высоты бросали его на ÷ар€. —топудовый €зык отскакивал, как м€чик. ѕодводы напрасно ждали обломков.
¬ следующем €русе после того, заваленного бревнами и обрывками тросов, где висели не когда ÷арь, арнаухий и √одунов, мы с радостью увидели много колоколов, это были все те, о которых говорили: Ц Ђќстаетс€ тыс€ча пудовї.
Ёто был, прежде всего, славословный колокол Ћебедь (ЂЋебедокї), вис€щий посередине, и часть Ђзазвонных колоколовї. ¬ западном пролете оставалс€ один колокол (из четырех). ћожно наде€тьс€, что это осталс€ знаменитый Ђчудотворцев колоколї, отлитый игуменом Ќиконом в 1420 году. ¬ северном пролете оставались два, один из них цар€ јлексе€ ћихайловича.
— большим трудом мы сн€ли верхние возы. ¬ морозный день, безветренный, дым из труб белый стремилс€ на небо и многое закрывал.
30 €нвар€. ак удивительно вчера сошлись обе мои темы: 1) революционное разрушение св€тынь несчастнейшего народа и 2) медвежье-игрушечное с высоты колокольни мы разгл€дели колечко народа, окружающего представление ћарии ѕетровны [9].
31 €нвар€. ∆гун с сокрушением рассказывал Ћеве о своем промахе: он доложил о трудности сн€ти€ ЂЋебед€ї, и тут оказалось, ЂЋебедьї один из древнейших колоколов, и его решили сохранить.
Ц Ќадо было кокнуть его на колокольне, сказал ∆гун, Ц а потом и доказывать.
¬от такие они все техники. “акой же и (Ц неразборчиво) и Ћева таким же был бы, если бы не мое вли€ние, и €, не будь у мен€ таланта.
3 феврал€. “рагеди€ с колоколом потому трагеди€, что очень все близко к самому человеку: правда, колокол, хот€ бы √одунов, был как бы личным €влением меди, то была просто медь, масса, а то вот эта масса представлена формой звучащей, скажем пр€мо, личностью, единственным в мире колоколом √одуновым, ныне обратно возвращенным в природный сплав. Ќо и то бы ничего, это есть в мире, бывает, даже цивилизованные народы сплавл€ютс€. —трашна в этом нека€ принципиальность Ц как равнодушие к форме личного быти€: служила медь колоколом, а теперь потребовалось, и будет подшипником. » самое страшное, когда переведешь на себ€: Ђ“ы, скажут, писатель ѕришвин, сказками занимаешьс€, приказываем тебе писать о колхозахї.
6 феврал€. ƒва разоренные, обобранные попа, в чем были, в паническом страхе бежали из јлександровского уезда. Ќа станции Ѕерендеево они сошли с поезда, остриглись, переоделись в какое-то рубище и потом продолжили свой путь до —ергиева. “ут было раньше прибежище всем таким люд€м. Ќо теперь нет ничего, и даже им€ свое “роица переменила. “еперь это «агорск.
7 феврал€. ’одили с Ћевой в лаврскую баню. ѕо пути видели остатки колоколов: несколько обломков ÷ар€ и тот большой, пудов в 300 кусок √одунова, который отлетел на 15 шагов.
”ниверситет, говор€т, превращаетс€ в ѕолитехникум, и это, Ђвообще говор€ї, вполне пон€тно: революци€ наша с самого начала не считалась с тогами ученых и так постепенно через 12 лет превратила науку в технику и ученую де€тельность в спецслужбу. Ѕыло благо-го-го-вение к науке даже и у попа ћишки –ождественского: занималс€ краеведением и стариной. “еперь поп ћишка –ождественский служит в –удметаллтресте, занимаетс€ добыванием цветного металла из колоколов и больше не поп ћишка –ождественский, а тов. ќкт€брьский.
я лично давным-давно рассталс€ с научным Ђмиросозерцаниемї, но сохранил уважение и теперь сохран€ю к аскетизму ученых и их независимости от вли€ни€ многоразбойной повседневной жизни. Ќесомненно, особенно у нас, корпораци€ ученых была определенной большой общественной и политической силой. “еперь она снишла до основани€ и ученые стали просто техниками.
» осмос изъ€т из јкадемии. ƒавно пора! спектральный анализ почтенный метод дл€ техника, но он именно противник космоса.
„то же принесет с собой новый молодой человек на ту сторону бездны, разделившей нас с мечтой о любви к ближнему по церковным заветам и с милым гуманизмом науки?
8 феврал€. Ќепокорные колокола (»стор. ¬естник. 1880. “. II, ст. 796).
Ѕитва под Ќарвой (1770 г.) ¬ 1701 г. неслыханна€ мера Ц 1/4 часть колоколов отобрать. ¬ конце 1701 г. было добыто 8000 пуд. меди.
2 марта. (¬ырезка из газеты): Ђ„то это: политическое руководство колхозом или политика его разложени€ и дискредитации? я уже не говорю о тех, с позволени€ сказать, Ђреволюционерахї, которые дело организации артели начинают со сн€ти€ колоколов. —н€ть колокола Ц подумаешь, кака€ революционность!ї (—талин. »звести€, 2 марта 1930 г.)
¬чера было напечатано распор€жение о том, чтобы в средних школах не мучили детей лишенцев за их лишенство. “ак резко выдел€лись эти строки среди человеконенавистнических, что все это заметили, и все об этом говорили. этому так странно прибавл€ли, что будто бы к 15 марта хот€т отменить п€тидневку. ¬ воздухе запахло поворотом: боги насытились кровью. » правда, сегодн€ напечатана стать€ —талина Ђ√оловокружение от успеховї, в которой он идет сам против себ€. ≈два ли когда-нибудь доходили политики до такого цинизма: правда, как на это смотреть, если, например, отдав приказ об уничтожении колоколов, через некоторое врем€, когда колокола будут разбиты, стал бы негодовать на тех, кто их разбивал.
¬ учреждени€х, в редакци€х, в магазинах сонно, пусто и как-то пыльно, везде остатки чего-то, хлама. ƒа, по-видимому, дальше идти некуда Е
12 марта. ѕосле манифеста мало-помалу определ€етс€ положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, Ц это значит, мужик стал продавать (в пользу себ€), а не распродавать ввиду коллективизации. », заметно, многие перестали думать о войне, что, по всей веро€тности, и более верно: не будет войны. —колько же порезано скота, во что обошелс€ стране этот неверный шаг правительства, опыт срочной принудительной коллективизации. √овор€т, в два года не восстановить. ј в области культуры, разрушение всей 12-летней работы интеллигенции по сохранению пам€тников искусства?
16 марта. ј.Ќ. “ихонов [10] (€ говорю о нем, потому что он, Ѕазаров Ц им€ им легион) все неразумное в политике презрительно называет Ђголовот€пствомї. Ёто слово употребл€ют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. ѕомню, еще аменев на мое донесение о повседневных преступлени€х ответил спокойно, что у нас в правительстве все разумно и гуманно.
Ц то же виноват? Ц спросил €.
Ц «начит, народ такой, Ц ответил аменев.
“еперь то же самое, все ужасающие преступлени€ этой зимы относ€тс€ не к руководител€м политики, а к головот€пам. ј такие люди, как “ихонов, Ѕазаров, √орький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей Е ƒл€ них, высших бар марксизма, головот€пами €вл€ютс€ уже и —талины Е »х вера, опорный пункт Ц разум и наука.
Ёти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского Ђразумаї и научной классовой борьбы, €вл€ютс€ истинными виновниками Ђголовот€пстваї.
ќни презирают правительство, но сид€т около него и другого ничего не желают. ¬от ≈сенин повесилс€ и тем спас многих поэтов: стали бо€тьс€ их трогать. ѕредложи этим разумникам вместе сгореть, как в старину за веру горели русские люди. Ђ«а что же гореть? Ц спрос€т они, Ц все принципы у нас очень хорошие, желать больше нечего: разве сам по себе коллективизм плох, или не нужна стране индустриализаци€? «ащита материнства, детства, бедноты Ц разве все это плохо? «а что гореть?ї
¬еро€тно, так было и в эпоху Ќикона: исправление богослужебных книг было вполне разумно, но в то же врем€ под предлогом общего лика разумности происходила подмена внутреннего существа. ѕринципа, за который сто€ть, как и в наше врем€, не было Ц схватились за двуперстие и за это горели.
«начит, не в принципе дело, а в том, что веры нет: интеллигенци€ уже погорела.
22 марта. акой разрыв в душе моей, кака€ боль бессмысленна€. ”томленный бездельем, думаю иногда: Ђкак бы ужаснулс€ какой-нибудь восторженный мой читатель, если бы он загл€нул в мою пустотуї.
9 апрел€. н€зь сказал: Ђ»ногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходитї.
‘отографировал весну: снег с летними облаками, снег на глазах рождает воду, и летние облака уже спешат отразитьс€ в этой мутной воде. Ћет€т журавли Е
ћальчишка потребовал:
Ц —ними мен€!
я промолчал. ќн лезет.
Ц ”бирайс€! Ц сказал €.
ќн отстал и камнем мен€ в затылок, мен€, старика, собиравшего материалы дл€ детских рассказов. „то было делать? ќн пустилс€ бежать во весь дух. —верху видели два молодых человека. я им пожаловалс€. ќни не отозвались даже Е ¬от так и съел камень.
онечно, такие мальчишки всегда были, но боли такой не было в душе, и потому камень нынешнего времени гораздо больнее ударил. Ѕоль небывала€. » некуда с ней прислонитьс€, как раньше бывало (Ђнекому слезу утеретьї). Ѕывало, все надеемс€: вот переможем, нажмем и будет лучше. √лавное тогда (хот€ бы при Ћенине) думалось, что можно смиритьс€, по-человечески кому-то рассказать и поймут, и заступ€тс€. “еперь некому заступитьс€. » вовсе пропади Ц совсем не отзовутс€, потому что мало ли пропало вс€ких людей и пропадает каждый день.
10 апрел€. Ќикогда весной не был € таким гражданином, как теперь: мысль о гибнущей родине, посто€нна€ тоска не забываетс€ ни при каких восторгах, напротив, все эти ручейки из-под снега, песенки жаворонок и з€бликов, молода€ звезда на заре Ц все это каким-то образом непременно возвращает к убийственной росстани: жить до смерти в полунищете среди нищих, озлобленно воспитанных по идее классовой борьбы, или отдатьс€ в плен чужих людей, которые с иностранной точки зрени€ взвес€т твою жизнь и установ€т ее небольшую международную значимость Е
«аболей € какой-нибудь смертельной болезнью, жена мо€ ≈фросинь€ ѕавловна непременно с первой поры сделала бы мен€ самого виновником Е ќчень возможно, что и € сам бы признал свою вину, и во вс€ком случае, в тот момент, когда болезнь даст отдых, порадовалс€ бы люд€м и жизни всей вообще: ну, умираю и умру, так надо, а все-таки, ну, как же славно они живут. “ак вот это состо€ние легче и, во вс€ком случае, как-то достойней, (чем) теперь: € здоров как бык, в полном расцвете своего таланта, а родина, умира€, проходит мимо, и ей не до теб€.
“ак вот что хочу € сказать: лучше мне, лучше умереть самому и в хорошие мужественные минуты радоватьс€, что жизнь остаетс€ хороша€, чем самому оставатьс€ и думать, что жизнь, заключенна€ в пон€тие Ђродинаї, проходит. Ќет ничего печальней одинокого дерева на вырубке Е
20 апрел€. Ёпоха диктатуры страшно понизила нравственное сознание масс и, по-моему, главным образом через мальчишек, которых в мес€чный срок учат на курсах Ђв два счета на €тьї классовой борьбе. »х бы таких надо было на фронт, и они бы геро€ми были, а они упражн€ютс€ в геройстве на беззащитных гражданах под видом войны с кулаками. “ак через них и сами граждане мало-помалу затемн€ютс€ в своем нравственном сознании.
¬от мо€ хоз€йка в ѕереславище ƒомна »вановна кака€ хороша€, трудолюбива€ женщина, и вот как удивила она мен€, как задела, как расстроила. ѕравда, ничто так не расстраивает, как это понижение сознани€. ¬ этот раз разговорились мы о конском м€се, что вот мужики правильно же ед€т конскую колбасу Ђтпру, тпру, а ед€тї, хоть бы что. ƒомна »вановна при этом рассказала, что салом от конины можно заразитьс€, что в имрах так было Ц сорок человек заразились.
Ц –асстреливать будут! Ц сказала ƒ.».
Ц ¬иновников? Ц спросил €, полага€, что ветеринар недосмотрел и вот их за это.
Ц ƒа, да, Ц не пон€ла мен€ ƒ.»., Ц всех их сорок человек расстрел€ют, чтобы других не заражали.
Ц ¬здор! Ц сказал €, Ц не может этого быть. » рассказал ƒ.»-е о двух-трех случа€х из медицинской практики, когда смерть человека и ему самому кажетс€ желанной, и другим очень полезно, а вот нельз€ Е
Ц ѕодумайте, Ц рассказал €, Ц если бы можно было уничтожить безнадежно больных, то непременно это перекинулось бы на бесполезных, по том стали бы отбирать на плем€ более сильных, а слабых топить. „уть нехватка в чем, и лишних долой. — землей-то как хорошо: переумножились люди Ц и чистка! ƒа разве так можно! ƒа разве можно поверить тому имренскому салу, √осподь с вами, ƒомна »вановна.
–авнодушно так ответила ƒ.».:
Ц «а что купила, за то продаю, ћихаил ћихайлович, слышала от людей, сказывали, что болезнь заразна€, неизлечима€ Е
“€жело мне было, главное, потому, что речь мо€ так и не возвратила ƒомне »вановне ее прежнее, очевидно, умирающее в ней сознание. ѕравда, столько расстреливают людей, признанных граждан вредными, почему же не расстрел€ть зараженных этой страшной неизлечимой болезнью людей Е
27 апрел€. ¬стретил искусствоведа из “реть€ковки (—вирина) и сказал ему, что дл€ нашего искусства наступает пещерное врем€ и нам самим теперь загод€ надо подготовить пещерку. »ли вз€ть пр€мо решитьс€ сгореть в срубе по примеру наших предков 16-го в. —вирин сказал на это, что у него из головы не выходит Ц покончить с собой прыжком в крематорий.
Ц ј разве можно? Ц спросил €.
Ц ћожно, Ц сказал он, Ц когда ворота крематори€ открываютс€, чтобы пропустить гроб, есть момент, когда можно прыгнуть.
6 ма€. «а событи€ми не надо гон€тьс€. аждое событие дает волну, котора€ достигнет непременно и теб€, сид€щего за тыс€чу верст от исхода его. Ќужно только быть готовым в себе самом, чтобы по €влени€м в твоей повседневной жизни понимать и общую мировую жизнь. Ќа деле, конечно, есть множество волн, которые докатываютс€ до теб€ едва заметными и потому не воспринимаютс€. Ќо среди них все-таки всегда найдетс€ довольно, чтобы думать и понимать историю. ¬от ограбили, сбросили колокола у нас Ц € пон€л борьбу креста и пентаграммы.
— колокольни –астреллевской сбросить крест не посмели, зато маем и в окт€бре устраивают из него посредством электрических простых лампочек пентаграмму.
¬ ‘едерации, а говор€т, и везде будет так: установилась тверда€ п€тидневка, то есть, п€ть дней работают, а шестой день отдыхают. “аким образом, больше нет уже непрерывки, из-за которой ввели п€тидневку. ¬се свелось к спору с Ѕогом. ќн велел шесть дней работать, а у нас вел€т п€ть.
ј везде, на всем свете есть воскресенье.
30 но€бр€. ѕриближаетс€ годовщина уничтожени€ —ергиевских колоколов. Ёто было очень похоже на зрелище публичной казни. ¬ особенности жаль Ђ√одуноваї. ¬едь если бы в царе Ѕорисе одном было дело, еще бы ничего, но между царем Ѕорисом и колоколом Ђ√одуновымї еще ведь ѕушкин.
1932
12 феврал€. —нова вернулось тепло, метелица, и в белом чернеют строени€ Ћавры, знаменита€ колокольн€ с разбитыми колоколами и все Е
Ц „его ты смотришь? Ц спросил мен€ маленький мальчик.
Ц ј что это? Ц спросил €, указыва€ на здание Ћавры, Ц ты знаешь?
Ц «наю, Ц ответил он бойко, Ц это раньше тут Ѕог был.
Ќа чистке.
Ц ак относитесь к религиозному культу?
Ц Ѕога нет.
—ильно сказано было, и чистке был бы конец, но какой-то €довитый простой человек из темного угла попросил разрешени€ задать вопрос и так задал:
Ц ¬ы сказали, что теперь Ѕога нет, а позвольте узнать, как вы думаете о прошлом, был ли раньше Ѕог?
Ц Ѕыл Ц ответил он.
¬се переменитс€ скоро от радио, электричества, воздухоплавани€, газовых войн, и социализм дойдет до того, что каждый будет отвечать за обороненное внутреннее слово.
¬се слова, улыбки, рукопожати€, слезы получат иное, внешнее, условное значение. Ќо в глубине личности спор о жертве (“роица) останетс€ и будет накопл€тьс€. Ѕыть может, настанет врем€, когда некоторые получат возможность шептатьс€, больше и больше, воздух наполнитс€ шепотом или нечленораздельными звуками, или даже темными непон€тными словами, которыми говор€т маленькие дети, и, наконец, как у детей, выйдет первое слово Е и тут начнетс€ эпоха второго пришестви€ ’риста.
¬ступление, подготовка текста и примечани€ Ћ.ј. –€зановой.
ѕримечани€
[1] ≈фросинь€ ѕавловна —могалева Ц перва€ жена ѕришвина.
[2] Ќасто€щее им€ колокола Ђ ирноцкийї. —м. запись 19 €нвар€ о чтении ѕришвиным очерка ј. «арина Ђ олоколаї в журнале Ђјргусї є 8. —ѕб., 1913.
[3] ѕришвин вольно употребл€ет латинское выражение Ђcogito, ergo sumї: Ђя мыслю, следовательно, € существуюї.
[4] ѕришвин не совсем точно приводит слова ’риста: Ђ»исус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и € в три дн€ воздвигну егої. ≈вангелие от »оанна, гл. 2, стих 19.
[5] »меютс€ в виду слова ’риста: Ђ»так, идите, научите все народы, крест€ их во им€ ќтца и —ына и —в€того ƒухаї. ≈вангелие от ћатфе€, гл. 28, стих 19.
[6] ожевников ј.¬. (1891Ц?) русский советский писатель, автор книг о преобразовании —ибири, социалистическом строительстве и др.
[7] ”стройство, предназначенное дл€ подъЄма и перемещени€ т€жестей: система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых гибким канатом.
[8] Ћев ћихайлович ѕришвин-јлпатов Ц старший сын писател€.
[9] ¬ эти дни по городу давала уличные представлени€ брод€ча€ труппа цыган с дрессированными медвед€ми.
[10] “ихонов ј.Ќ. (псевд. —еребров) (1880Ц1956) Ц русский советский литературный де€тель, писатель, сотрудничал с ј.ћ. √орьким, после ќкт€брьской революции заведовал издательством Ђ¬семирна€ литератураї, редактировал многие литературные журналы.
[11] „ерновик письма.
|
ћетки: культура |
Ѕудет ли запрещено Ђбезнравственноеї кино? |
ƒневник |
–оссийский кинематограф ожидают нравственные ограничени€, за€вил глава комитета √осдумы по культуре —танислав √оворухин. ј несколькими дн€ми раньше молодые кинематографисты –оссии (в том числе студенты и выпускники ¬√» ј, ¬ысших курсов сценаристов и режиссеров) опубликовали открытое письмо Ќиките ћихалкову, возглавл€ющему —оюз кинематографистов –оссии.
¬ письме за подписью 61 человека говоритс€ в том числе о том, что Ђв последнее врем€ мы все чаще становимс€ свидетел€ми тенденций, наметившихс€ в наших образовательных и фестивальных структурах, способствующих пропаганде и распространению кинематографических произведений, несущих безнравственность и пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и всему ќтечеству, произведений, выполненных без какого либо понимани€ профессии и осознани€ социальной ответственности перед обществомї.
» по поводу письма и выступлени€ √оворухина в —ети разгорелась дискусси€. ћнени€ пол€рны: от Ђв стране необходима цензураї до Ђкажетс€, что создаетс€ римейк советской историиї.
ѕредлагаем вашему вниманию размышлени€ наших экспертов Ц де€телей культуры.
√лавные заперты Ц внутри самого художника
Ќиколай ƒосталь, кинорежиссер
√лавные нравственные ограничени€, критерии должны быть внутри художника, будь то кинорежиссер, писатель, композиторЕ —амым строгим и пристрастным должен быть внутренний цензор, который знает, что можно, что нельз€ допускать в творчестве, что нравственно, что безнравственно.
ƒл€ мен€ важен уровень самоограничений. ¬едь все самое главное Ц внутри человека: любовь, вера, пон€тие о чести. ¬от в этом смысле можно говорить о каком-то нравственном законе.
ј то, что прописываетс€ какой-то устав и так далее Ц это, на мой взгл€д, абсолютно излишне, формально.
≈сли художник в своей работе не руководствуетс€ теми внутренними принципами, о которых € сказал, не слушает своего внутреннего цензора, значит, он грешит против собственной совести. ¬ таком случае, избежать этого внешними запретами вр€д ли получитс€.
» вообще, по какому принципу судить: нравственное кино Ц не нравственное, позитивное Ц негативное? я знаю только, что есть кино хорошее и плохое, талантливое и бездарное. ƒругого критери€ быть не может. я против введени€ законов контрол€ извне, будь то со стороны √осударственной ƒумы или –усской ѕравославной ÷еркви.
“ем более, у нас в онституции написано, что пропаганда порнографии, насили€, экстремизма не должна иметь места. Ётого вполне достаточно, зачем изобретать что-то ещЄ?
¬сегда существовали возрастные ограничени€ дл€ просмотра тех или иных фильмов Ц есть фильмы, не разрешенные зрител€м до 18 лет, до 16, до 12Е Ёто существует во всем мире, другое дело, что сейчас у нас за этим не очень хорошо след€т.
» если в кинотеатр ещЄ можно ограничить доступ людей, не показывать по телевизору днем и в прайм-тайм что-то, что не должны увидеть дети, диски с возрастными ограничени€ми не продавать тем, кому не положено, как не продают спиртное и сигареты, то как быть с »нтернетом? ѕожалуй, здесь должны контролировать родители.
Ќо наша страна чем славитс€? “ем, что законы есть, притом хорошие и грамотные, но вот исполн€ютс€ они очень плохо.
Ќе могу согласитьс€ с утверждением, что запреты провоцируют творческие всплески. ƒа, в советское врем€ было много качественных фильмов, несмотр€ на серьезные идеологические рамки. ѕолучаетс€, дл€ по€влени€ талантливых работ следует вернутьс€ к тоталитаризму?! » что, тогда у нас по€в€тс€ “арковские, Ўукшины? Ёто же наивно, глупо.
ак говоритс€, каждому времени Ц свой фрукт.
ѕо большому счету, любые запреты сверху противоречат свободе творчества. » здесь закончу тем, с чего начал разговор: художник (если он, конечно, действительно художник) видит запреты внутри себ€.
огда делаютс€ деньги, все остальное Ч неважно
¬ладимир рупин, писатель
—лова Ђцензураї, Ђограничени€ї Ч дл€ демократов как красна€ тр€пка дл€ быка, жупел. Ќо всегда, во все времена, во всех государствах, которые заботились о нравственности народа, были запреты и ограничени€.
“о, что сейчас показывают по телевизору, в кино и сериалах Ц не укладываетс€ в голове: трупы можно считать тыс€чами, беспрерывно льюща€с€ кровь, бесконечный мородобой, проститутки, часто даже как пример дл€ подражани€Е
ак и куда с этим может развиватьс€ наша страна? ѕолучаетс€, мы готовим равнодушное, циничное поколение.
Ђ“ак жить нельз€ї Ч так называетс€ фильм —танислава √оворухина 1990 года. Ёта фраза сегодн€ кажетс€ не менее актуальной. “ак жить действительно нельз€.
я крайне редко включаю телевизор и каждый раз убеждаюсь, что то, что там показывают, становитс€ все хуже, разнузданнее, пошлее, все более жестоким.
—егодн€ также стало попул€рным в кинематографе рисовать прошлое только в черных красках. ј это значит Ц обрекать будущее на гибель. –азве можно просто перечеркнуть весь советский период? то же тогда победил √итлера?
ќболгана наша школа, наша арми€ забрызгана гр€зью. ѕроисходит подмена пон€тий, и люди, которые погибают за ќтечество, называютс€ федералами, а бандиты Ц боевиками.
” всех, кто снимает кино Ц руководит процессом, стоит за кинокамерой, у тех, кто пишет сценарий, должно быть осознанное чувство ответственности за то, что они делают. ¬едь жизнь на самом деле очень коротка€: сегодн€ ты мальчик, а завтра Ц уже старик, со всем грузом соде€нного.
Ќо об этом забываетс€ в погоне за деньгами, которые лежат в основе всего того, чем кормит зрителей то же телевидение. огда делаютс€ деньги, уже как-то не думаетс€, сколько героев будет убито на экране, не думаетс€, что эти страшные сцены увид€т дети.
Ќо как только раздаютс€ голоса, что этого не должно быть, так начинаютс€ вопли: нарушение демократических норм! Ќо мы живем в –оссии, котора€ по своей сути Ц единственна, целомудренна, чиста и наиболее близка к Ѕогу. Ќадо осознавать это и бережно относитьс€ к своей стране.
ѕоэтому Ц необходимы нравственные запреты на пошлость, разврат, насилие, пропаганду денег как высшей ценности в жизни. “о есть нужно прекратить показывать бесконечные драки, постельные сцены, безмерное употребление спиртного, не поощр€ть зрителей к подсматриванию в замочную скважину.
ƒа, драки, убийства можно увидеть и в великих кинопроизведени€х, например таких, как Ђ“ихий ƒонї. Ќо по€вление самого романа вызвано страшными потр€сени€ми.
ак хорошо было бы, если бы не было Ђ“ихого ƒонаї Ўолохова, Ђќка€нных днейї Ѕунинаї, Ђ—олнца мертвыхї Ўмелева, не было событий, вызвавших их к жизни.
» жесткость Ђ“ихого ƒонаї вызвана жизнью; и в книге, и в фильме герои поступают жестоко во им€ высочайшей идеи, во им€ человека.
–азве можно это сравнитьс€ со Ђстрел€лкамиї ради Ђстрел€локї, с их примитивным €зыком, примитивным сюжетом, где по-насто€щему нет ничего о человеке?
Ќельз€ забывать и о внутренних самоограничени€х каждого человека. —ерафим —аровский говорил: Ђ—пасись сам, и вокруг теб€ спасутс€ тыс€чиї. –ади чего режиссер снимает фильм? „тобы самому найти ответы на волнующие его важные философские вопросы. –ади чего писатель пишет книгу? „тобы самому стать лучше вместе с геро€ми.
Ќо когда режиссер снимает картину, в основе которой Ц разврат, он пытаетс€ оправдать себ€, потому что, например, уже с п€той женой живет.
“о есть то, что представл€ет из себ€ художник, и про€вл€етс€ в его творчестве.
ак можно дойти до фашизма
Ёдуард Ќазаров, мультипликатор, режиссЄр и художник
ќграничени€ нравственного характера должны быть в каждом человеке. ј насаждать их сверху Ц бессмысленно.
≈сли это начинает насаждатьс€ сверху, то возникает опасность, что в следующий раз, возможно, будет внедр€тьс€ что-то еще, посильнее.
Ёто Ђчто-тої будет выискивать мелочи, которые следует запретить, за которые необходимо наказать, цепл€тьс€ за них и на мелочах строить огромное здание. » в результате вполне может получить фашизм.
— тем, что существует в современном кинематографе, боротьс€, конечно, нужно. ј как Ц € не знаю, но точно не давлением.
¬озможно, кинематограф показывает общее состо€ние общества, которое может мен€тьс€ постепенно и не с помощью каких-либо указаний сверху. ќграничени€ должны исходить от самого общества, когда оно само поймет их необходимость.
ј еще и сам зритель все равно со временем отсеивает шелуху, и остаютс€ только насто€щие качественные фильмы.
ѕон€тно, что это не идеальный выход, но что может быть лучше? Ёто как с демократией Ц хоть она и ужасна, но лучше ничего не придумано.
≈сть мнение, что какие-то ограничени€ помогают художнику развиватьс€. — одной стороны, может показатьс€, что это так, особенно если вспомнить —оветский —оюз. Ќакладываемые на нас ограничени€ заставл€ли художников изощр€тьс€, находить более тонкие, более остроумные обходы цензуры, но добиватьс€ поставленной художественной цели.
Ќо, с другой стороны, и сегодн€, когда никакой идеологической цензуры нет, создаютс€ качественные художественные произведени€. “ак что, получаетс€, все зависит от человека, от личности художника, от его профессионализма и внутреннего самоконтрол€.
¬ письме за подписью 61 человека говоритс€ в том числе о том, что Ђв последнее врем€ мы все чаще становимс€ свидетел€ми тенденций, наметившихс€ в наших образовательных и фестивальных структурах, способствующих пропаганде и распространению кинематографических произведений, несущих безнравственность и пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и всему ќтечеству, произведений, выполненных без какого либо понимани€ профессии и осознани€ социальной ответственности перед обществомї.
» по поводу письма и выступлени€ √оворухина в —ети разгорелась дискусси€. ћнени€ пол€рны: от Ђв стране необходима цензураї до Ђкажетс€, что создаетс€ римейк советской историиї.
ѕредлагаем вашему вниманию размышлени€ наших экспертов Ц де€телей культуры.
√лавные заперты Ц внутри самого художника
Ќиколай ƒосталь, кинорежиссер
√лавные нравственные ограничени€, критерии должны быть внутри художника, будь то кинорежиссер, писатель, композиторЕ —амым строгим и пристрастным должен быть внутренний цензор, который знает, что можно, что нельз€ допускать в творчестве, что нравственно, что безнравственно.
ƒл€ мен€ важен уровень самоограничений. ¬едь все самое главное Ц внутри человека: любовь, вера, пон€тие о чести. ¬от в этом смысле можно говорить о каком-то нравственном законе.
ј то, что прописываетс€ какой-то устав и так далее Ц это, на мой взгл€д, абсолютно излишне, формально.
≈сли художник в своей работе не руководствуетс€ теми внутренними принципами, о которых € сказал, не слушает своего внутреннего цензора, значит, он грешит против собственной совести. ¬ таком случае, избежать этого внешними запретами вр€д ли получитс€.
» вообще, по какому принципу судить: нравственное кино Ц не нравственное, позитивное Ц негативное? я знаю только, что есть кино хорошее и плохое, талантливое и бездарное. ƒругого критери€ быть не может. я против введени€ законов контрол€ извне, будь то со стороны √осударственной ƒумы или –усской ѕравославной ÷еркви.
“ем более, у нас в онституции написано, что пропаганда порнографии, насили€, экстремизма не должна иметь места. Ётого вполне достаточно, зачем изобретать что-то ещЄ?
¬сегда существовали возрастные ограничени€ дл€ просмотра тех или иных фильмов Ц есть фильмы, не разрешенные зрител€м до 18 лет, до 16, до 12Е Ёто существует во всем мире, другое дело, что сейчас у нас за этим не очень хорошо след€т.
» если в кинотеатр ещЄ можно ограничить доступ людей, не показывать по телевизору днем и в прайм-тайм что-то, что не должны увидеть дети, диски с возрастными ограничени€ми не продавать тем, кому не положено, как не продают спиртное и сигареты, то как быть с »нтернетом? ѕожалуй, здесь должны контролировать родители.
Ќо наша страна чем славитс€? “ем, что законы есть, притом хорошие и грамотные, но вот исполн€ютс€ они очень плохо.
Ќе могу согласитьс€ с утверждением, что запреты провоцируют творческие всплески. ƒа, в советское врем€ было много качественных фильмов, несмотр€ на серьезные идеологические рамки. ѕолучаетс€, дл€ по€влени€ талантливых работ следует вернутьс€ к тоталитаризму?! » что, тогда у нас по€в€тс€ “арковские, Ўукшины? Ёто же наивно, глупо.
ак говоритс€, каждому времени Ц свой фрукт.
ѕо большому счету, любые запреты сверху противоречат свободе творчества. » здесь закончу тем, с чего начал разговор: художник (если он, конечно, действительно художник) видит запреты внутри себ€.
огда делаютс€ деньги, все остальное Ч неважно
¬ладимир рупин, писатель
—лова Ђцензураї, Ђограничени€ї Ч дл€ демократов как красна€ тр€пка дл€ быка, жупел. Ќо всегда, во все времена, во всех государствах, которые заботились о нравственности народа, были запреты и ограничени€.
“о, что сейчас показывают по телевизору, в кино и сериалах Ц не укладываетс€ в голове: трупы можно считать тыс€чами, беспрерывно льюща€с€ кровь, бесконечный мородобой, проститутки, часто даже как пример дл€ подражани€Е
ак и куда с этим может развиватьс€ наша страна? ѕолучаетс€, мы готовим равнодушное, циничное поколение.
Ђ“ак жить нельз€ї Ч так называетс€ фильм —танислава √оворухина 1990 года. Ёта фраза сегодн€ кажетс€ не менее актуальной. “ак жить действительно нельз€.
я крайне редко включаю телевизор и каждый раз убеждаюсь, что то, что там показывают, становитс€ все хуже, разнузданнее, пошлее, все более жестоким.
—егодн€ также стало попул€рным в кинематографе рисовать прошлое только в черных красках. ј это значит Ц обрекать будущее на гибель. –азве можно просто перечеркнуть весь советский период? то же тогда победил √итлера?
ќболгана наша школа, наша арми€ забрызгана гр€зью. ѕроисходит подмена пон€тий, и люди, которые погибают за ќтечество, называютс€ федералами, а бандиты Ц боевиками.
” всех, кто снимает кино Ц руководит процессом, стоит за кинокамерой, у тех, кто пишет сценарий, должно быть осознанное чувство ответственности за то, что они делают. ¬едь жизнь на самом деле очень коротка€: сегодн€ ты мальчик, а завтра Ц уже старик, со всем грузом соде€нного.
Ќо об этом забываетс€ в погоне за деньгами, которые лежат в основе всего того, чем кормит зрителей то же телевидение. огда делаютс€ деньги, уже как-то не думаетс€, сколько героев будет убито на экране, не думаетс€, что эти страшные сцены увид€т дети.
Ќо как только раздаютс€ голоса, что этого не должно быть, так начинаютс€ вопли: нарушение демократических норм! Ќо мы живем в –оссии, котора€ по своей сути Ц единственна, целомудренна, чиста и наиболее близка к Ѕогу. Ќадо осознавать это и бережно относитьс€ к своей стране.
ѕоэтому Ц необходимы нравственные запреты на пошлость, разврат, насилие, пропаганду денег как высшей ценности в жизни. “о есть нужно прекратить показывать бесконечные драки, постельные сцены, безмерное употребление спиртного, не поощр€ть зрителей к подсматриванию в замочную скважину.
ƒа, драки, убийства можно увидеть и в великих кинопроизведени€х, например таких, как Ђ“ихий ƒонї. Ќо по€вление самого романа вызвано страшными потр€сени€ми.
ак хорошо было бы, если бы не было Ђ“ихого ƒонаї Ўолохова, Ђќка€нных днейї Ѕунинаї, Ђ—олнца мертвыхї Ўмелева, не было событий, вызвавших их к жизни.
» жесткость Ђ“ихого ƒонаї вызвана жизнью; и в книге, и в фильме герои поступают жестоко во им€ высочайшей идеи, во им€ человека.
–азве можно это сравнитьс€ со Ђстрел€лкамиї ради Ђстрел€локї, с их примитивным €зыком, примитивным сюжетом, где по-насто€щему нет ничего о человеке?
Ќельз€ забывать и о внутренних самоограничени€х каждого человека. —ерафим —аровский говорил: Ђ—пасись сам, и вокруг теб€ спасутс€ тыс€чиї. –ади чего режиссер снимает фильм? „тобы самому найти ответы на волнующие его важные философские вопросы. –ади чего писатель пишет книгу? „тобы самому стать лучше вместе с геро€ми.
Ќо когда режиссер снимает картину, в основе которой Ц разврат, он пытаетс€ оправдать себ€, потому что, например, уже с п€той женой живет.
“о есть то, что представл€ет из себ€ художник, и про€вл€етс€ в его творчестве.
ак можно дойти до фашизма
Ёдуард Ќазаров, мультипликатор, режиссЄр и художник
ќграничени€ нравственного характера должны быть в каждом человеке. ј насаждать их сверху Ц бессмысленно.
≈сли это начинает насаждатьс€ сверху, то возникает опасность, что в следующий раз, возможно, будет внедр€тьс€ что-то еще, посильнее.
Ёто Ђчто-тої будет выискивать мелочи, которые следует запретить, за которые необходимо наказать, цепл€тьс€ за них и на мелочах строить огромное здание. » в результате вполне может получить фашизм.
— тем, что существует в современном кинематографе, боротьс€, конечно, нужно. ј как Ц € не знаю, но точно не давлением.
¬озможно, кинематограф показывает общее состо€ние общества, которое может мен€тьс€ постепенно и не с помощью каких-либо указаний сверху. ќграничени€ должны исходить от самого общества, когда оно само поймет их необходимость.
ј еще и сам зритель все равно со временем отсеивает шелуху, и остаютс€ только насто€щие качественные фильмы.
ѕон€тно, что это не идеальный выход, но что может быть лучше? Ёто как с демократией Ц хоть она и ужасна, но лучше ничего не придумано.
≈сть мнение, что какие-то ограничени€ помогают художнику развиватьс€. — одной стороны, может показатьс€, что это так, особенно если вспомнить —оветский —оюз. Ќакладываемые на нас ограничени€ заставл€ли художников изощр€тьс€, находить более тонкие, более остроумные обходы цензуры, но добиватьс€ поставленной художественной цели.
Ќо, с другой стороны, и сегодн€, когда никакой идеологической цензуры нет, создаютс€ качественные художественные произведени€. “ак что, получаетс€, все зависит от человека, от личности художника, от его профессионализма и внутреннего самоконтрол€.
|
ћетки: культура |
Ћермонтов русской философии, или нова€ жизнь дискуссии о Ђрозовом христианствеї |
ƒневник |
ћожно ли критиковать христианские взгл€ды ƒостоевского? ќткуда беретс€ Ђрозовое христианствої? —уществует ли русское богословие культуры? 14 июн€ в —анкт-ѕетербурге в »нституте русской литературы (ѕушкинский ƒом) –јЌ прошла научна€ конференци€ Ђ‘илологическа€ Ђхристианизаци€ї русской классики как проблема науки о литературе ( 130-летию брошюры . Ќ. Ћеонтьева ЂЌаши новые христианеї)ї.
ѕредлагаем вниманию читателей ѕ–ј¬ћ»–а доклады, прозвучавшие на конференции. јвтор первого Ч протоиерей √еоргий ќреханов, клирик храма св€тител€ Ќикола€ в узнецкой слободе, кандидат исторических наук.
¬ 1882 г. .Ќ.Ћеонтьев опубликовал небольшую по объему брошюру ЂЌаши новые христиане. ‘.ћ.ƒостоевский и гр. Ћев “олстойї, по мнению ¬. ¬. –озанова, свою Ђодну из самых блест€щих и мрачных брошюрї[1], котора€ €вл€етс€ важным шагом на пути осмыслени€ процесса секул€ризации русской культуры, Ђсерьезным эпизодом в истории русской мыслиї, более того, Ђвеликим споромї и даже Ђдогматическим прениемї[2]. ¬. ¬. –озанов совершенно справедливо отмечает: Ђ“ут, в эти годы и в тех брошюрах, в сущности, началс€ глубокий религиозный водоворот христианства. —тержнем его был вопрос: что есть сердцевина в христианстве: нравственность, братолюбие или нека€ мистика, при коей Ђбратолюбиеї и не особенно важно?ї[3].
¬ брошюру вошли две статьи . Ќ. Ћеонтьева: стать€ Ђќ всемирной любви. –ечь ‘. ћ. ƒостоевского на пушкинском праздникеї, опубликованна€ в газете Ђ¬аршавский дневникї (1880 г. є 162 от 29 июл€, 169 от 7 августа, 173 от 12 августа) и стать€ Ђ—трах Ѕожий и любовь к человечеству. ѕо поводу рассказа гр. Ћ. Ќ. “олстого Ђ„ем люди живыї?ї, изданна€ в журнале Ђ√ражданинї (1882 г., є 54-55).
¬ рамках данного доклада мен€ в первую очередь будет интересовать критика тех идей, которые были высказаны ‘. ћ. ƒостоевским в знаменитой речи пам€ти ј. —. ѕушкина и в художественных произведени€х.
Ќапомню, что и в самой речи, и в напечатанном в августовском номере Ђƒневника писател€ї за 1880 г. Ђќбъ€снительном словеї ‘. ћ. ƒостоевский настаивал на следующих трех тезисах:
а) русский народ обладает особым качеством, которое отличает его от других народов Ц русска€ душа и русский гений Ђможет быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единени€, братской любви, трезвого взгл€да, прощающего враждебное, различающего и извин€ющего несходное, снимающего противоречи€ї (ƒѕ——. 26, 131)[4]; стать насто€щим русским Ц значит, Ђв конце концов, это подчеркнитеї, стать Ђбратом всех людей, всечеловекомї;
б) дл€ насто€щего русского ≈вропа и Ђудел всего великого арийского племениї не менее дороги, чем сама –осси€ (ƒѕ——. 26, 147); русский народ, составл€ющий 80 млн. человек Ц пример Ђдуховного единени€ї, которого нет и не может быть в ≈вропе, гражданское основание которой Ђподкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки вековї (ƒѕ——. 26, 132); в этой ситуации именно русский народ, по мнению ‘. ћ. ƒостоевского, призван Ђвнести примирение в европейские противоречи€ уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоедин€ющейї (ƒѕ——. 26, 148) и, в конце концов, может быть, как указывает сам ‘. ћ. ƒостоевский,
в) Ђизречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласи€ всех племен по ’ристову евангельскому законуї (ƒѕ——. 26, 148).
»менно против этих трех тезисов и была направлена критика . Ќ. Ћеонтьева, если иметь в виду именно ‘. ћ. ƒостоевского. —ейчас, по прошествии 120 лет, мы можем говорить о том, что реакци€ . Ќ. Ћеонтьева на творчество двух великих русских писателей была своеобразной, очень глубокой и важной прелюдией к рождению русского богослови€ культуры. ћожно сказать по-другому: эта дискусси€, предвар€€ религиозно Ц философские собрани€ начала ’’ века, поставила во всей остроте вопрос о том, как сделать христианство вли€тельным в жизни, вопрос об отношении ÷еркви к миру, о пут€х христианского творчества и культуры. Ѕолее точно, вопрос может быть поставлен следующим образом: как ѕравославие, сто€щее на почве ѕисани€ и св€тоотеческой традиции, может в новых исторических услови€х восприн€ть творческие потенции культуры?
Ѕолее конкретно, в фокусе данного доклада лежат следующие вопросы:
1. „то понимал . Ќ. Ћеонтьев под Ђрозовым христианствомї?
2. Ќасколько критика . Ќ. Ћеонтьевым ‘. ћ. ƒостоевского была адекватна, с точки зрени€ православного вероучени€?
1. ќсобенности биографии и мировоззрени€ . Ќ. Ћеонтьева.
ѕредставл€етс€, что анализ указанного сочинени€ . Ќ. Ћеонтьева возможен только в контексте его биографии. ћногие впечатлени€, вынесенные из детства, были значимы дл€ него всю жизнь. —ам писатель впоследствии указывал, что в момент по€влени€ в действующей армии в рыму он был Ђмолодым человеком, матерью довольно женоподобно воспитанным, от природы очень сострадательным и развившим в себе гуманность чтением «анда и Ѕелинскогої (Ћ——. 9, 144)[5].
райне значимым €вл€етс€ в биографии . Ќ. Ћеонтьева 1871 г., а именно, чудесное исцеление от болезни, после которого писатель и дипломат впервые стал серьезно размышл€ть о монашестве и некоторое врем€ прожил на јфоне. ¬ 1874 г. . Ќ. Ћеонтьев знакомитьс€ с преп. јмвросием ќптинским и 17 лет своей жизни проводит под его водительством. ¬ 1887 Ц 1891 гг. Ћеонтьев проживает в ќптиной пустыни и общаетс€ со старцем очень тесно.
»так, результатом болезни писател€ стал духовный переворот, а его следствием Ч титаническа€ работа над собой, стремление найти ответ на свои вопрошани€ в лоне ÷еркви и церковного христианства, понимание того, что религи€ была бы Ђничтожной вещьюї, если бы не могла выдержать интеллектуального искуса, Ђусто€ть против образованности и развитости умаї (Ћ——. 9, 34).
¬ажно и другое. . Ќ. Ћеонтьев Ц медик, он, по собственному мимолетному признанию, слишком долго работал в анатомическом театре, поэтому далек от идеализма; кроме того, сам Ц очень больной человек. ќбычно, говор€ о Ћеонтьеве и анализиру€ его жизнь, особо подчеркиваетс€ значение того страха, который он пережил в момент смертельной болезни и внезапного исцелени€. ѕредставл€етс€, что в его жизни был еще один, не менее значимый фактор, внесший в его мировоззрение тему страха и смерти, и таким фактором стала учеба на медицинском факультете.
Ѕезусловно, медицинские зан€ти€ наложили глубокий отпечаток на всю его жизнь и склад мыслей. ¬ажно, что всю жизнь он мучаетс€ тем же самым вопросом, который был так важен и дл€ ‘. ћ. ƒостоевского: Ђћногие, конечно, не допускают и мысли, чтобы человек образованный нашего времени мог так живо и так искренно верить, как верит простолюдин по невежествуї Ч и сам дает ответ на этот вопрос: Ђќбразованный человек, раз только он перешел за некоторую ему пон€тную, но со стороны недоступную черту чувства и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека <Е>ї (Ћ——. 9, 18). » далее добавл€ет: Ђ„то за ничтожна€ была бы вещь эта Ђрелиги€ї, если бы она решительно не могла усто€ть против образованности и развитости ума!ї (Ћ——. 9, 34).
¬ своих воспоминани€х . Ќ. Ћеонтьев неоднократно подчеркивает значение в своей жизни зан€тий медициной. Ђјнатомическиеї образы преследовали воображение писател€ посто€нно. ¬от как он рассказывает о своем университетском профессоре ћлодзеевском: Ђќн сто€л перед столом; на столе был лоток с кишками только что выпотрошенного тифозного покойника. ћлодзеевский показывал €звы слизистой оболочки и перебирал эти кишки своими маленькими, некрасивыми пальцами <Е> ћне кажетс€, что такие именно зрелища в старом университете и клинике имели большое вли€ние на вс€ мою жизнь и судьбу. ¬ минуты подобных чувств зрело мое отвращение к большим европейским городам, к Ђпрогрессуї и ко всему тому, что св€зано с этими городами и с таким прогрессомЕї (Ћ——. 9, 65-66).
√овор€ о взгл€дах . Ќ. Ћеонтьева, нужно иметь в виду, что он не был готов признать справедливыми те эпитеты, которые ‘. ћ. ƒостоевский адресовал русскому народу Ч по причине его особых грехов и пороков ему нужен страх внешней узды: Ђƒа Ц разве Ц в –оссии Ц можно без принуждени€ и строгого даже, что бы то ни было сделать и утвердить?- ” нас что крепко стоит?- јрми€, монастыри, чиновничество и Ц пожалуй Ц кресть€нский мiр.- ¬се принудительноеї[6]. “аким образом, дл€ . Ќ. Ћеонтьева сама мысль, что гармонию ≈вропе принесет именно русский народ, была глубоко чужда, причем еще и потому, что, с его точки зрени€, Ђѕетербургска€ –осси€ї уже ничем не отличима от Ђмещанской современной ≈вропыї и Ђсама трещит по швамї[7]. —ама иде€ гармонии –оссии с современной ≈вропой абсолютно бессмысленна.
ѕри этом дл€ . Ќ. Ћеонтьева имеет совершенно особый смысл категори€ Ђгармони€ї. ћысль . Ќ. Ћеонтьева солидарна с построени€ми Ќ. я. ƒанилевского, дл€ которого красота Ц Ђединственна€ духовна€ сторона материиї и поэтому единственна€ св€зь этих двух начал мира; несмотр€ на то, что развитие прекрасного сопр€жено со многими скорб€ми, пороками и ужасами, Ђэта эстетика жизни гораздо менее губительна дл€ религиозных начал, чем проста€ утилитарна€ моральї: Ђƒиоклетианы и даже Ѕорджиа были гораздо менее вредны дл€ христианства, чем многие очень скромные и честные бюргеры нашего времениї. ќслабеют все про€влени€ героического, живописного, трагического, и даже демонического (!) в жизни Ц исс€кнуть постепенно все религиозные силы (Ћ——. 6, 283).
Ёстетизм . Ќ. Ћеонтьева есть своеобразное противопоставление Ђисторического христианстваї христианству моральному, рождение которого он очень точно почувствовал. √армони€ по Ћеонтьеву Ц это Ђединство в разнообразииї, которое не только не исключает Ђантитез, и борьбы, и страданийї, но даже требует их (Ћ——. 6, 40). — этой точки зрени€, проповедуема€ великими русскими писател€ми любовь есть самообман, попытка получить сложный результат простым способом: ценно (в терминологии . Ќ. Ћеонтьева, Ђэстетичної, Ђтворческиї) то, что растет, органически переходит от простых форм к сложным, а не наоборот.
√лавный вопрос здесь должен быть поставлен так: €вл€етс€ ли философи€ . Ќ. Ћеонтьева эстетизацией зла, своеобразным аморализмом? —лучайно ли он так часто сопоставл€етс€ с ‘р. Ќицше? —. √. Ѕочаров подчеркивает, что, с точки зрени€ . Ќ. Ћеонтьева, зло необходимо в мире как условие всего самого лучшего. „ерта проходит не между добром и злом, а между качеством жизни и его отсутствием. ‘актически речь идет о том, что зло имеет положительную роль, зло служит добру. «ло Ц Ђнеизбывна€ и непременна€ характеристика исторической картины мира, и в этом качестве зло у него Ц полнокровное бытиеї, поэтому Ћеонтьев не знает метафизики зла, зла как небыти€. «ло и страдание как бы необходимо дл€ полноценного переживани€ и достижени€ полноты жизни[8]. “аким образом, если ƒостоевский часто говорит лишнее слово о любви (Ђвозлюби грехї в подготовительных материалах к ЂЅрать€м арамазовымї), то Ћеонтьев воскрешает один из вариантов гностицизма: ценность имеет Ђсама жизнь со всею полнотой ее и с [Е] равновесием зла и добраЕї, более того, зло €вл€етс€ чуть ли не нормальным состо€нием людей (Ћ——. 8, 303). онечно, така€ позици€ в корне противоречит взгл€дам ƒостоевского: зло таитс€ в человеческой природе гораздо глубже, чем предполагают Ђлекар€-социалистыї (ƒѕ——. 25, 201), но в то же врем€: Ђя не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состо€нием людейї (ƒѕ——. 25, 118).
”читыва€ сложный контекст биографии . Ќ. Ћеонтьева, можно согласитьс€ с ¬. ¬. –озановым: Ђѕри объ€снении теорий Ћ[еонтье]ва нужно посто€нно иметь в виду, что они изошли от Ђ»ова на гноищеї. “ут не запорхаешь. Ќе запоешь лазурных песен. —ама€ религи€ представитс€, как утешение сквозь грозу. ƒа, есть Ѕог Ђв тихом ве€нииї (€вление »лии пророку) и есть Ѕог Ђв буреї (говоривший »ову). Ћ[еонтье]в слушал последнего. » не мудрено, что собственные глаголы его Ђрвали парусаї, а не шелестели в кружевах изнеженных слушательниц и слушателейї[9].
2. „то понимал . Ќ. Ћеонтьев под Ђрозовым христианствомї?
акие же черты нового мировоззрени€ выдел€ет . Ќ. Ћеонтьев?
1. ќдносторонность нового мировоззрени€, выборочность, недоговоренность. Ђќб одном умалчивать, другое игнорировать, третье отвергать совершенно; иного стыдитьс€ и признавать св€тым и божественным только то, что наиболее приближаетс€ к чуждым православию пон€ти€м европейского утилитарного прогресса Ц вот черты того христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозветником в числе других €вилс€, на склоне лет своих, и гениальный автор Ђ¬ойны и мираї!..ї (Ћ——. 8, 154). » далее: Ђ¬ ќптиной ЂЅратьев арамазовыхї правильным правосл. сочинением не признают, и старец «осима ничуть ни учением, ни характером на отца јмвроси€ не похож. ƒостоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком јмвросий выражаетс€. ” от. јмвроси€ прежде всего строго церковна€ мистика и уже потом Ч прикладна€ мораль. ” от. «осимы (устами которого говорит сам ‘ед. ћих.!) Ч прежде всего мораль, Ђлюбовьї, Ђлюбовьї и т. д., ну, а мистика очень слабаї[10].
2. ќтсутствие св€зи между моральными принципами и христианской вероучительной основой. »деал св€тости имеет своим фундаментом учение ’риста и не сводитс€ к честности, доброте, милосердию, воздержанию и самоотвержению (Ћ——. 8, 158).
. Ќ. Ћеонтьев, анализиру€ рассказ Ћ. Ќ. “олстого, задает вопрос: €вл€етс€ ли Ѕог графа “олстого аллегорией или условным выражением только дл€ названи€ чего-то не живого, дл€ обозначени€ отвлеченной общей сущности, которую не отрицают даже материалисты, или Ѕог графа “олстого есть христианский Ѕог, —в. “роица, второе Ћицо которой сошло с небес и воплотилось (Ћ——. 8, 165). „то касаетс€ ‘. ћ. ƒостоевского, здесь приговор еще более серьезный: Ђ¬едь €, признаюсь, хот€ и не совсем на стороне Ђ»нквизитораї, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего ’риста, которого сочинил сам ƒостоевский. » то, и другое Ч крайность. ј еванг. и св€тоотеч. истина в середине. я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение. ƒействительные инквизиторы в Ѕога и ’риста веровали, конечно, посильнее самого ‘ед. ћих.ї[11].
3. »скаженное понимание Ђвысших плодов верыї, отсутствие аскетической уравновешенности, игнорирование Ђстраха Ѕожьегої в угоду гуманистическому пониманию любви: Ђпосто€нное, почти ежеминутное расположение любить ближнего,Чили никому не доступны, или доступны очень немногим: одним Ч по особого рода благодати прекрасной натуры, другим Ч вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонност€миї (Ћ——. 8, 159). Ћюбовь, без смирень€ и страха перед положительным вероучением, сама€ гор€ча€ и искренн€€, но своевольна€ и часто горда€, тщеславна€, исходит не пр€мо из учени€ ÷еркви, а €вл€етс€ плодом западной культуры, плодом антрополатрии, т.е. веры в земного человека и в земное человечество, Ђв идеальное, самосто€тельное, автономическое достоинство лица и в высокое практическое назначение всего человечества здесь на землеї (Ћ——. 8, 159-160).
—ледует более подробно остановитьс€ на пон€ти€х Ђтрансцендентный эгоизмї и Ђстрахї, которые играют такую большую роль в построени€х . Ќ. Ћеонтьева. ¬ 1872 г. в письмах с јфона, которые не вошли в собрание сочинений писател€ 1912-1913 гг., он указывает, что этот страх, который в православных обител€х €вл€етс€ результатом многолетней монастырской выработки и дисциплины, Ђне материальной природы; это несокрушима€ идеальна€ узда веры, любви и почтени€ї; в этом страхе присутствует Ђразочарование во всем земном и непрочномї; однако это не есть эгоизм в буквальном смысле слова, ибо стремление к загробному спасению есть эгоизм Ђвоздушный, туманный, отдаленный и неос€зательныйї, который имеет важную составл€ющую: он ежедневно сохран€ет человека от эгоизма грубого и земного. . Ќ. Ћеонтьев подчеркивает важный момент, который, как мне кажетс€, часто упускаетс€ при анализе его взгл€дов: этот Ђнеземной эгоизмї есть на самом деле Ђидеальна€ бо€знь грехаї, то есть страх Ђоскорбить и прогневать Ѕожествої, которое создало человека и дало ему разум и волю дл€ внутренней борьбы против зла, присущего мирозданию[12].
4. ѕростота основы, крайн€€ односторонность и неестественна€ односложность нового идеала. Ёта простота приводит, во-первых, к непониманию глубокой св€зи всех христианских добродетелей между собой, в частности, к игнорированию смирени€, страха и покорности, а в пределе, поэтому, часто и к последстви€м противоположным Ц к нигилизму и разрушению: Ђтот, кто пишет о любви будто бы христианской, не принима€ других основ вероучени€, есть не христианский писатель, а противник христианства самый обманчивый и самый опасный, ибо он сохранил от христианства только то, что может принадлежать и так называемому демократическому лжепрогрессу, в действительном духе которого нет и тени христианства, а все сплошь враждебно емуї (Ћ——. 8, 161-162). » далее: ЂЋюбовь к ближнему, основанна€ на всецелом вероучении, на любви к ÷еркви, вот насто€ща€ христианска€ любовь! Ћюбовь же своевольна€, основанна€ только на порывах собственного сердца, есть очень симпатична€ вещь, ноЕ она до того Ђудобопревратнаї, что может, как € говорил, дойти даже и до любви к революцииї (Ћ——. 8, 167).
5. ќтсутствие пр€мой св€зи нового мировоззрени€ с евангельским идеалом, учением ’риста и св€тоотеческим, церковным пониманием этого идеала и учени€. . Ќ. Ћеонтьев использует термин Ђцерковное св€тоотеческое христианствої (Ћ——. 8, 168), которое дл€ него €вл€етс€ идеалом, мерилом христианской жизни: Ђ„тобы быть православным, необходимо ≈вангелие читать сквозь стекла св€тоотеческого учени€; а иначе из самого св. писани€ можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство, и другие лжеучени€, которых так много и который все сами себ€ вывод€т пр€мо из ≈вангели€ (или вообще из Ѕиблииї (Ћ——. 8, 196). »зображение церковной и монашеской жизни ‘. ћ. ƒостоевским далеко от реального прототипа: Ђѕравда, и в ЂЅрать€хъ арамазовыхъї монахи говор€т не совсем то или, точнее выража€сь, совсем не то, что в действительности говор€т очень хорошие монахи и у нас, и на јфонской гор, и русские монахи, и греческие, и болгарскиеї (Ћ——. 8, 198). . Ќ. Ћеонтьев подчеркивает глубокую св€зь между ’ристом и ≈го ÷ерковью и сложность встречи со ’ристом вне ÷еркви: Ђ¬ речи г. ƒостоевского ’ристос, по-видимому, по крайней мере, до того помимо ÷еркви доступен вс€кому изъ нас, что мы считаем себ€ в праве, даже не справ€сь с азбукой катехизиса, т.-е с самыми существенным положени€ми и безусловными требовани€ми православного учени€, приписывать —пасителю никогда не высказанные им обещани€ Ђвсеобщего братства народовї, Ђповсеместного мираї и Ђгармонииї (Ћ——. 8, 207). Ћеонтьев подчеркивает очень важное обсто€тельство: Ђгибель и вред православному принципуї заключаютс€ в первую очередь не в личных грехах и даже преступлени€х, а Ђв постепенном вырождении его в другие принципыї[13].
“аким образом, с точки зрени€ .Ќ.Ћеонтьева, христианство Ћ.Ќ.“олстого и ‘.ћ.ƒостоевского носит совершенно нецерковный, Ђнеотеческийї, выдуманный характер и не соответствует строгим (Ђвизантийскимї) идеалам, а проповедь такого Ђхристианстваї способна только принести вред.
3. Ќасколько критика . Ќ. Ћеонтьевым Ђхристианства ƒостоевскогої была адекватна?
»так, любовь без страха и смирени€ есть фетиш, самообман и иллюзи€, следствие романтической избалованности и Ђпри€тных порывов сердцаї. Ѕолее того, с точки зрени€ . Ќ. Ћеонтьева, проповедь Ђбесстрашной любвиї, гордое стремление Ђпресных боголюбцевї сразу оказатьс€ в Ђсыновь€хї Ѕожиих, св€занное с ним непризнание ада и вечных мук есть подготовка ÷арства јнтихриста[14].
»менно поэтому этой тщеславной любви . Ќ. Ћеонтьев противопоставл€ет Ђтрансцендентальный эгоизмї, т.е. заботу о спасении души и личном загробном возда€нии. ¬ одном из писем буквально за несколько дней до смерти он подчеркивает, что именно это и составл€ет главное содержание христианской жизни и христианского возрастани€: Ђ≈сли бы покойный старец јмвросий 25-летним юношей не думал бы исключительно о спасении своей души, если бы не вдохновл€лс€ тогда тем, что € зову трансцендентальным (загробным) эгоизмом, а думал бы о том, чтобы улучшать земную жизнь других, то из него вышел бы или гордый и раздраженный, или пустой человек; но дума€ дес€тки лет лишь о своем спасении, он стал великим спасителем другихї[15].
Ќо . Ќ. Ћеонтьев не учитывал диалогического характера мысли ƒостоевского, того обсто€тельства, что в произведени€х последнего не содержитс€ сколько Ц нибудь законченного учени€ о ÷арстве Ѕожием на земле. онечно, даже в последнем романе писател€ мысль о Ђгр€дущей гармонииї рассыпана в большом количестве по разным местам (см., например, поучени€ старца «осимы: ƒѕ——. “. 14. —. 286), но и в самом романе эта иде€ присутствует в характерном Ђполифоническомї обрамлении, к тому же в Ђƒневнике писател€ї ‘. ћ. ƒостоевский в одном месте пр€мо утверждает, что прекрасно понимает несбыточность мечты о рае, но будет все-таки его проповедовать (ƒѕ——. “. 25. —. 118 Ц 119, Ђ—он смешного человекаї). роме того, в других местах сочинений ƒостоевского встречаетс€ совершенно определенна€ мысль о невозможности любви по заповеди ’ристовой на земле, из чего можно заключить о совершенно трезвом понимании писателем этой проблемы.
”чению о ÷арстве Ѕожием на земле вскоре действительно суждено было по€витс€ на свет Ц но не у ‘. ћ. ƒостоевского, а в творени€х Ћ. Ќ. “олстого, которые в 1882 г., когда брошюра Ћеонтьева была опубликована, не были еще даже изданы (хот€, конечно, к этому моменту многие идеи Ћ. Ќ. “олстого уже сформировались). “аким образом, нужно сделать довольно неожиданный вывод: брошюра . Ћеонтьева направлена против еще не написанных книг, против некоторой тенденции, которую он очень проницательно заметил.
“аким образом, глубока€ интуици€ . Ќ. Ћеонтьева про€вилась в том, что он зафиксировал рождение нового €влени€ в истории культуры. ≈го Ђбольша€ правдаї Ч в последовательном и настойчивом отстаивании церковного, св€тоотеческого понимани€ христианства, понимани€, которое всегда противосто€ло и будет противосто€ть любым попыткам Ђобновлени€ї церковной жизни по чуждым ÷еркви образцам. Ёту правоту подчеркнул и —. ». ‘удель, несмотр€ на то, что в целом его отношение к критике . Ќ. Ћеонтьевым ‘. ћ. ƒостоевского было крайне негативным. . Ќ. Ћеонтьев еще раз напомнил своим читател€м две простые истины: веру Ђв неумираемость ÷еркви и неверие в победу христианства в истории. Ќеудаче христианской цивилизации посв€щены в ≈вангелии три полные главыї[16].
ќднако, по мнению –озанова, у . Ќ. Ћеонтьева есть правота фактическа€, документальна€ и совершенно отсутствует понимание остроты проблемы, духа времени: ЂЕему просто не пришло на ум спросить: Ђƒа откуда этот новый дух в христианстве? ќткуда эти новые христиане, которых он так правильно заметил? —ами ли они сочинились, сочинили себ€, и не дует ли в них что-то от времен же »исуса ’риста?ї[17] ƒругими словами, ¬. ¬. –озанов сумел точно почувствовать всю остроту проблемы: формальна€ правота . Ќ. Ћеонтьева в данном случае бесплодна, последний не сумел осознать значени€ религиозного характера творчества ‘. ћ. ƒостоевского и Ћ. Ќ. “олстого, пон€ть, что за этим творчеством сто€т очень важные и показательные тенденции. ƒействительно, поразительно вот какое обсто€тельство: отмеча€ в 1890 г. в статье Ђїƒобрые вестиї, что Ђрелигиозное настроение все растет и растет в высших общественных и умственных сферах нашихї и что Ђлично-религиозные нужды усилились много за последние годаї (Ћ——. 7, 382), . Ќ. Ћеонтьев просто не отдавал себе отчета в том, кака€ заслуга в этом сдвиге сознани€ принадлежит, в значительной степени, именно ‘. ћ. ƒостоевскому.
‘актически противосто€ние ЂЋеонтьев Ц ƒостоевскийї есть противосто€ние Ђтеологии разрушени€ї или Ђкатастрофической эсхатологииї, и Ђтеологии преображени€ї или Ђсветлой апокалиптикиї: либо эта земл€ будет полностью разрушена и возникнет Ђнова€ земл€ї, и тогда никаким разумным человеческим усили€м, в том числе и коллективным, места в этом процессе нет, в них просто нет смысла, либо она будет Ђпреображенаї, и тогда здесь есть место и дл€ человеческого творчества. “аким образом, сама проблема спасени€ мира дл€ . Ќ. Ћеонтьева отсутствует: есть только личное спасение, а Ђслужение общественному благуї есть Ђрозова€ фантази€ї.
»менно в этом смысле говорит о ÷еркви как о предвосхищенной эсхатологии прот. √. ‘лоровский. ÷ерковь ’ристова Ц не эсхатологическое знамение, символ, потому что тогда . Ќ. Ћеонтьев прав: человеческа€ истори€ есть только политический казус, бессмыслица, котора€ подлежит прокл€тию, забвению и разрушению: Ђчеловеку, по большому счету, нечего делать Ц нечего творить, нечего достигать. ќн просто подлежит —уду Ц и томитс€, ожида€ судного дн€ї[18]. “аким образом, нужно говорить не об ошибке или заблуждении . Ќ. Ћеонтьева, а о правильно расставленных акцентах, очень важных обертонах. јнализу .Ќ.Ћеонтьева не хватает, как это ни странно на первый взгл€д, учитыва€ его большой опыт общени€ с преп. јмвросием ќптинским, именно аскетической и экклезиологической сбалансированности, своеобразного чувства меры.
«аключение.
—пор о Ђрозовом христианствеї есть спор Ђв контексте незавершенного прошлогої, его главный смысл открываетс€ только в контексте большого времени, в том Ђбесконечном и незавершимом диалоге, в котором ни один смысл не умираетї[19].
. Ќ. Ћеонтьев очень точно уловил новую тенденцию русской культуры. ќна заключаетс€ в том, что в понимании христианства произошел сдвиг в сторону морали. ѕри этом надо понимать, что взгл€ды Ћеонтьева сформировались, во-первых, под вли€нием старческого окормлени€ в ќптиной пустыни, и, во-вторых, под вли€нием св€тоотеческого аскетического идеала. ¬ определенном смысле это не его взгл€ды, а трансл€ци€ определенной схемы (см., например, ЂЋествицуї или сочинени€ јввы ƒорофе€: действительно сначала Ђстрахї, а затем Ђлюбовьї).
Ќо . Ќ. Ћеонтьев не увидел, что творчество ‘. ћ. ƒостоевского как раз и есть ответ на морализм Ћ. Ќ. “олстого. . Ќ. Ћеонтьев смешал истинно христианский призыв к любви у ‘. ћ. ƒостоевского, который гениально присутствует в его творчестве, с лжехристианской любовью Ћ. Ќ. “олстого.
ƒругими словами, у дискуссии о Ђрозовом христианствеї есть очень важный аспект, она носит €рко выраженный сотериологический характер, т.к. нагл€дно демонстрирует, как те три модели (Ђразумноеї царство добра и правды Ћ. Ќ. “олстого, Ђвсемирна€ гармони€ї ‘. ћ. ƒостоевского, Ђтрансцедентный эгоизмї . Ќ. Ћеонтьева), которые €вл€ютс€ предметом ее обсуждени€, соотнос€тс€ с церковной доктриной спасени€.
ѕредлагаем вниманию читателей ѕ–ј¬ћ»–а доклады, прозвучавшие на конференции. јвтор первого Ч протоиерей √еоргий ќреханов, клирик храма св€тител€ Ќикола€ в узнецкой слободе, кандидат исторических наук.
¬ 1882 г. .Ќ.Ћеонтьев опубликовал небольшую по объему брошюру ЂЌаши новые христиане. ‘.ћ.ƒостоевский и гр. Ћев “олстойї, по мнению ¬. ¬. –озанова, свою Ђодну из самых блест€щих и мрачных брошюрї[1], котора€ €вл€етс€ важным шагом на пути осмыслени€ процесса секул€ризации русской культуры, Ђсерьезным эпизодом в истории русской мыслиї, более того, Ђвеликим споромї и даже Ђдогматическим прениемї[2]. ¬. ¬. –озанов совершенно справедливо отмечает: Ђ“ут, в эти годы и в тех брошюрах, в сущности, началс€ глубокий религиозный водоворот христианства. —тержнем его был вопрос: что есть сердцевина в христианстве: нравственность, братолюбие или нека€ мистика, при коей Ђбратолюбиеї и не особенно важно?ї[3].
¬ брошюру вошли две статьи . Ќ. Ћеонтьева: стать€ Ђќ всемирной любви. –ечь ‘. ћ. ƒостоевского на пушкинском праздникеї, опубликованна€ в газете Ђ¬аршавский дневникї (1880 г. є 162 от 29 июл€, 169 от 7 августа, 173 от 12 августа) и стать€ Ђ—трах Ѕожий и любовь к человечеству. ѕо поводу рассказа гр. Ћ. Ќ. “олстого Ђ„ем люди живыї?ї, изданна€ в журнале Ђ√ражданинї (1882 г., є 54-55).
¬ рамках данного доклада мен€ в первую очередь будет интересовать критика тех идей, которые были высказаны ‘. ћ. ƒостоевским в знаменитой речи пам€ти ј. —. ѕушкина и в художественных произведени€х.
Ќапомню, что и в самой речи, и в напечатанном в августовском номере Ђƒневника писател€ї за 1880 г. Ђќбъ€снительном словеї ‘. ћ. ƒостоевский настаивал на следующих трех тезисах:
а) русский народ обладает особым качеством, которое отличает его от других народов Ц русска€ душа и русский гений Ђможет быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единени€, братской любви, трезвого взгл€да, прощающего враждебное, различающего и извин€ющего несходное, снимающего противоречи€ї (ƒѕ——. 26, 131)[4]; стать насто€щим русским Ц значит, Ђв конце концов, это подчеркнитеї, стать Ђбратом всех людей, всечеловекомї;
б) дл€ насто€щего русского ≈вропа и Ђудел всего великого арийского племениї не менее дороги, чем сама –осси€ (ƒѕ——. 26, 147); русский народ, составл€ющий 80 млн. человек Ц пример Ђдуховного единени€ї, которого нет и не может быть в ≈вропе, гражданское основание которой Ђподкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки вековї (ƒѕ——. 26, 132); в этой ситуации именно русский народ, по мнению ‘. ћ. ƒостоевского, призван Ђвнести примирение в европейские противоречи€ уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоедин€ющейї (ƒѕ——. 26, 148) и, в конце концов, может быть, как указывает сам ‘. ћ. ƒостоевский,
в) Ђизречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласи€ всех племен по ’ристову евангельскому законуї (ƒѕ——. 26, 148).
»менно против этих трех тезисов и была направлена критика . Ќ. Ћеонтьева, если иметь в виду именно ‘. ћ. ƒостоевского. —ейчас, по прошествии 120 лет, мы можем говорить о том, что реакци€ . Ќ. Ћеонтьева на творчество двух великих русских писателей была своеобразной, очень глубокой и важной прелюдией к рождению русского богослови€ культуры. ћожно сказать по-другому: эта дискусси€, предвар€€ религиозно Ц философские собрани€ начала ’’ века, поставила во всей остроте вопрос о том, как сделать христианство вли€тельным в жизни, вопрос об отношении ÷еркви к миру, о пут€х христианского творчества и культуры. Ѕолее точно, вопрос может быть поставлен следующим образом: как ѕравославие, сто€щее на почве ѕисани€ и св€тоотеческой традиции, может в новых исторических услови€х восприн€ть творческие потенции культуры?
Ѕолее конкретно, в фокусе данного доклада лежат следующие вопросы:
1. „то понимал . Ќ. Ћеонтьев под Ђрозовым христианствомї?
2. Ќасколько критика . Ќ. Ћеонтьевым ‘. ћ. ƒостоевского была адекватна, с точки зрени€ православного вероучени€?
1. ќсобенности биографии и мировоззрени€ . Ќ. Ћеонтьева.
ѕредставл€етс€, что анализ указанного сочинени€ . Ќ. Ћеонтьева возможен только в контексте его биографии. ћногие впечатлени€, вынесенные из детства, были значимы дл€ него всю жизнь. —ам писатель впоследствии указывал, что в момент по€влени€ в действующей армии в рыму он был Ђмолодым человеком, матерью довольно женоподобно воспитанным, от природы очень сострадательным и развившим в себе гуманность чтением «анда и Ѕелинскогої (Ћ——. 9, 144)[5].
райне значимым €вл€етс€ в биографии . Ќ. Ћеонтьева 1871 г., а именно, чудесное исцеление от болезни, после которого писатель и дипломат впервые стал серьезно размышл€ть о монашестве и некоторое врем€ прожил на јфоне. ¬ 1874 г. . Ќ. Ћеонтьев знакомитьс€ с преп. јмвросием ќптинским и 17 лет своей жизни проводит под его водительством. ¬ 1887 Ц 1891 гг. Ћеонтьев проживает в ќптиной пустыни и общаетс€ со старцем очень тесно.
»так, результатом болезни писател€ стал духовный переворот, а его следствием Ч титаническа€ работа над собой, стремление найти ответ на свои вопрошани€ в лоне ÷еркви и церковного христианства, понимание того, что религи€ была бы Ђничтожной вещьюї, если бы не могла выдержать интеллектуального искуса, Ђусто€ть против образованности и развитости умаї (Ћ——. 9, 34).
¬ажно и другое. . Ќ. Ћеонтьев Ц медик, он, по собственному мимолетному признанию, слишком долго работал в анатомическом театре, поэтому далек от идеализма; кроме того, сам Ц очень больной человек. ќбычно, говор€ о Ћеонтьеве и анализиру€ его жизнь, особо подчеркиваетс€ значение того страха, который он пережил в момент смертельной болезни и внезапного исцелени€. ѕредставл€етс€, что в его жизни был еще один, не менее значимый фактор, внесший в его мировоззрение тему страха и смерти, и таким фактором стала учеба на медицинском факультете.
Ѕезусловно, медицинские зан€ти€ наложили глубокий отпечаток на всю его жизнь и склад мыслей. ¬ажно, что всю жизнь он мучаетс€ тем же самым вопросом, который был так важен и дл€ ‘. ћ. ƒостоевского: Ђћногие, конечно, не допускают и мысли, чтобы человек образованный нашего времени мог так живо и так искренно верить, как верит простолюдин по невежествуї Ч и сам дает ответ на этот вопрос: Ђќбразованный человек, раз только он перешел за некоторую ему пон€тную, но со стороны недоступную черту чувства и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека <Е>ї (Ћ——. 9, 18). » далее добавл€ет: Ђ„то за ничтожна€ была бы вещь эта Ђрелиги€ї, если бы она решительно не могла усто€ть против образованности и развитости ума!ї (Ћ——. 9, 34).
¬ своих воспоминани€х . Ќ. Ћеонтьев неоднократно подчеркивает значение в своей жизни зан€тий медициной. Ђјнатомическиеї образы преследовали воображение писател€ посто€нно. ¬от как он рассказывает о своем университетском профессоре ћлодзеевском: Ђќн сто€л перед столом; на столе был лоток с кишками только что выпотрошенного тифозного покойника. ћлодзеевский показывал €звы слизистой оболочки и перебирал эти кишки своими маленькими, некрасивыми пальцами <Е> ћне кажетс€, что такие именно зрелища в старом университете и клинике имели большое вли€ние на вс€ мою жизнь и судьбу. ¬ минуты подобных чувств зрело мое отвращение к большим европейским городам, к Ђпрогрессуї и ко всему тому, что св€зано с этими городами и с таким прогрессомЕї (Ћ——. 9, 65-66).
√овор€ о взгл€дах . Ќ. Ћеонтьева, нужно иметь в виду, что он не был готов признать справедливыми те эпитеты, которые ‘. ћ. ƒостоевский адресовал русскому народу Ч по причине его особых грехов и пороков ему нужен страх внешней узды: Ђƒа Ц разве Ц в –оссии Ц можно без принуждени€ и строгого даже, что бы то ни было сделать и утвердить?- ” нас что крепко стоит?- јрми€, монастыри, чиновничество и Ц пожалуй Ц кресть€нский мiр.- ¬се принудительноеї[6]. “аким образом, дл€ . Ќ. Ћеонтьева сама мысль, что гармонию ≈вропе принесет именно русский народ, была глубоко чужда, причем еще и потому, что, с его точки зрени€, Ђѕетербургска€ –осси€ї уже ничем не отличима от Ђмещанской современной ≈вропыї и Ђсама трещит по швамї[7]. —ама иде€ гармонии –оссии с современной ≈вропой абсолютно бессмысленна.
ѕри этом дл€ . Ќ. Ћеонтьева имеет совершенно особый смысл категори€ Ђгармони€ї. ћысль . Ќ. Ћеонтьева солидарна с построени€ми Ќ. я. ƒанилевского, дл€ которого красота Ц Ђединственна€ духовна€ сторона материиї и поэтому единственна€ св€зь этих двух начал мира; несмотр€ на то, что развитие прекрасного сопр€жено со многими скорб€ми, пороками и ужасами, Ђэта эстетика жизни гораздо менее губительна дл€ религиозных начал, чем проста€ утилитарна€ моральї: Ђƒиоклетианы и даже Ѕорджиа были гораздо менее вредны дл€ христианства, чем многие очень скромные и честные бюргеры нашего времениї. ќслабеют все про€влени€ героического, живописного, трагического, и даже демонического (!) в жизни Ц исс€кнуть постепенно все религиозные силы (Ћ——. 6, 283).
Ёстетизм . Ќ. Ћеонтьева есть своеобразное противопоставление Ђисторического христианстваї христианству моральному, рождение которого он очень точно почувствовал. √армони€ по Ћеонтьеву Ц это Ђединство в разнообразииї, которое не только не исключает Ђантитез, и борьбы, и страданийї, но даже требует их (Ћ——. 6, 40). — этой точки зрени€, проповедуема€ великими русскими писател€ми любовь есть самообман, попытка получить сложный результат простым способом: ценно (в терминологии . Ќ. Ћеонтьева, Ђэстетичної, Ђтворческиї) то, что растет, органически переходит от простых форм к сложным, а не наоборот.
√лавный вопрос здесь должен быть поставлен так: €вл€етс€ ли философи€ . Ќ. Ћеонтьева эстетизацией зла, своеобразным аморализмом? —лучайно ли он так часто сопоставл€етс€ с ‘р. Ќицше? —. √. Ѕочаров подчеркивает, что, с точки зрени€ . Ќ. Ћеонтьева, зло необходимо в мире как условие всего самого лучшего. „ерта проходит не между добром и злом, а между качеством жизни и его отсутствием. ‘актически речь идет о том, что зло имеет положительную роль, зло служит добру. «ло Ц Ђнеизбывна€ и непременна€ характеристика исторической картины мира, и в этом качестве зло у него Ц полнокровное бытиеї, поэтому Ћеонтьев не знает метафизики зла, зла как небыти€. «ло и страдание как бы необходимо дл€ полноценного переживани€ и достижени€ полноты жизни[8]. “аким образом, если ƒостоевский часто говорит лишнее слово о любви (Ђвозлюби грехї в подготовительных материалах к ЂЅрать€м арамазовымї), то Ћеонтьев воскрешает один из вариантов гностицизма: ценность имеет Ђсама жизнь со всею полнотой ее и с [Е] равновесием зла и добраЕї, более того, зло €вл€етс€ чуть ли не нормальным состо€нием людей (Ћ——. 8, 303). онечно, така€ позици€ в корне противоречит взгл€дам ƒостоевского: зло таитс€ в человеческой природе гораздо глубже, чем предполагают Ђлекар€-социалистыї (ƒѕ——. 25, 201), но в то же врем€: Ђя не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состо€нием людейї (ƒѕ——. 25, 118).
”читыва€ сложный контекст биографии . Ќ. Ћеонтьева, можно согласитьс€ с ¬. ¬. –озановым: Ђѕри объ€снении теорий Ћ[еонтье]ва нужно посто€нно иметь в виду, что они изошли от Ђ»ова на гноищеї. “ут не запорхаешь. Ќе запоешь лазурных песен. —ама€ религи€ представитс€, как утешение сквозь грозу. ƒа, есть Ѕог Ђв тихом ве€нииї (€вление »лии пророку) и есть Ѕог Ђв буреї (говоривший »ову). Ћ[еонтье]в слушал последнего. » не мудрено, что собственные глаголы его Ђрвали парусаї, а не шелестели в кружевах изнеженных слушательниц и слушателейї[9].
2. „то понимал . Ќ. Ћеонтьев под Ђрозовым христианствомї?
акие же черты нового мировоззрени€ выдел€ет . Ќ. Ћеонтьев?
1. ќдносторонность нового мировоззрени€, выборочность, недоговоренность. Ђќб одном умалчивать, другое игнорировать, третье отвергать совершенно; иного стыдитьс€ и признавать св€тым и божественным только то, что наиболее приближаетс€ к чуждым православию пон€ти€м европейского утилитарного прогресса Ц вот черты того христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозветником в числе других €вилс€, на склоне лет своих, и гениальный автор Ђ¬ойны и мираї!..ї (Ћ——. 8, 154). » далее: Ђ¬ ќптиной ЂЅратьев арамазовыхї правильным правосл. сочинением не признают, и старец «осима ничуть ни учением, ни характером на отца јмвроси€ не похож. ƒостоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком јмвросий выражаетс€. ” от. јмвроси€ прежде всего строго церковна€ мистика и уже потом Ч прикладна€ мораль. ” от. «осимы (устами которого говорит сам ‘ед. ћих.!) Ч прежде всего мораль, Ђлюбовьї, Ђлюбовьї и т. д., ну, а мистика очень слабаї[10].
2. ќтсутствие св€зи между моральными принципами и христианской вероучительной основой. »деал св€тости имеет своим фундаментом учение ’риста и не сводитс€ к честности, доброте, милосердию, воздержанию и самоотвержению (Ћ——. 8, 158).
. Ќ. Ћеонтьев, анализиру€ рассказ Ћ. Ќ. “олстого, задает вопрос: €вл€етс€ ли Ѕог графа “олстого аллегорией или условным выражением только дл€ названи€ чего-то не живого, дл€ обозначени€ отвлеченной общей сущности, которую не отрицают даже материалисты, или Ѕог графа “олстого есть христианский Ѕог, —в. “роица, второе Ћицо которой сошло с небес и воплотилось (Ћ——. 8, 165). „то касаетс€ ‘. ћ. ƒостоевского, здесь приговор еще более серьезный: Ђ¬едь €, признаюсь, хот€ и не совсем на стороне Ђ»нквизитораї, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего ’риста, которого сочинил сам ƒостоевский. » то, и другое Ч крайность. ј еванг. и св€тоотеч. истина в середине. я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение. ƒействительные инквизиторы в Ѕога и ’риста веровали, конечно, посильнее самого ‘ед. ћих.ї[11].
3. »скаженное понимание Ђвысших плодов верыї, отсутствие аскетической уравновешенности, игнорирование Ђстраха Ѕожьегої в угоду гуманистическому пониманию любви: Ђпосто€нное, почти ежеминутное расположение любить ближнего,Чили никому не доступны, или доступны очень немногим: одним Ч по особого рода благодати прекрасной натуры, другим Ч вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонност€миї (Ћ——. 8, 159). Ћюбовь, без смирень€ и страха перед положительным вероучением, сама€ гор€ча€ и искренн€€, но своевольна€ и часто горда€, тщеславна€, исходит не пр€мо из учени€ ÷еркви, а €вл€етс€ плодом западной культуры, плодом антрополатрии, т.е. веры в земного человека и в земное человечество, Ђв идеальное, самосто€тельное, автономическое достоинство лица и в высокое практическое назначение всего человечества здесь на землеї (Ћ——. 8, 159-160).
—ледует более подробно остановитьс€ на пон€ти€х Ђтрансцендентный эгоизмї и Ђстрахї, которые играют такую большую роль в построени€х . Ќ. Ћеонтьева. ¬ 1872 г. в письмах с јфона, которые не вошли в собрание сочинений писател€ 1912-1913 гг., он указывает, что этот страх, который в православных обител€х €вл€етс€ результатом многолетней монастырской выработки и дисциплины, Ђне материальной природы; это несокрушима€ идеальна€ узда веры, любви и почтени€ї; в этом страхе присутствует Ђразочарование во всем земном и непрочномї; однако это не есть эгоизм в буквальном смысле слова, ибо стремление к загробному спасению есть эгоизм Ђвоздушный, туманный, отдаленный и неос€зательныйї, который имеет важную составл€ющую: он ежедневно сохран€ет человека от эгоизма грубого и земного. . Ќ. Ћеонтьев подчеркивает важный момент, который, как мне кажетс€, часто упускаетс€ при анализе его взгл€дов: этот Ђнеземной эгоизмї есть на самом деле Ђидеальна€ бо€знь грехаї, то есть страх Ђоскорбить и прогневать Ѕожествої, которое создало человека и дало ему разум и волю дл€ внутренней борьбы против зла, присущего мирозданию[12].
4. ѕростота основы, крайн€€ односторонность и неестественна€ односложность нового идеала. Ёта простота приводит, во-первых, к непониманию глубокой св€зи всех христианских добродетелей между собой, в частности, к игнорированию смирени€, страха и покорности, а в пределе, поэтому, часто и к последстви€м противоположным Ц к нигилизму и разрушению: Ђтот, кто пишет о любви будто бы христианской, не принима€ других основ вероучени€, есть не христианский писатель, а противник христианства самый обманчивый и самый опасный, ибо он сохранил от христианства только то, что может принадлежать и так называемому демократическому лжепрогрессу, в действительном духе которого нет и тени христианства, а все сплошь враждебно емуї (Ћ——. 8, 161-162). » далее: ЂЋюбовь к ближнему, основанна€ на всецелом вероучении, на любви к ÷еркви, вот насто€ща€ христианска€ любовь! Ћюбовь же своевольна€, основанна€ только на порывах собственного сердца, есть очень симпатична€ вещь, ноЕ она до того Ђудобопревратнаї, что может, как € говорил, дойти даже и до любви к революцииї (Ћ——. 8, 167).
5. ќтсутствие пр€мой св€зи нового мировоззрени€ с евангельским идеалом, учением ’риста и св€тоотеческим, церковным пониманием этого идеала и учени€. . Ќ. Ћеонтьев использует термин Ђцерковное св€тоотеческое христианствої (Ћ——. 8, 168), которое дл€ него €вл€етс€ идеалом, мерилом христианской жизни: Ђ„тобы быть православным, необходимо ≈вангелие читать сквозь стекла св€тоотеческого учени€; а иначе из самого св. писани€ можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство, и другие лжеучени€, которых так много и который все сами себ€ вывод€т пр€мо из ≈вангели€ (или вообще из Ѕиблииї (Ћ——. 8, 196). »зображение церковной и монашеской жизни ‘. ћ. ƒостоевским далеко от реального прототипа: Ђѕравда, и в ЂЅрать€хъ арамазовыхъї монахи говор€т не совсем то или, точнее выража€сь, совсем не то, что в действительности говор€т очень хорошие монахи и у нас, и на јфонской гор, и русские монахи, и греческие, и болгарскиеї (Ћ——. 8, 198). . Ќ. Ћеонтьев подчеркивает глубокую св€зь между ’ристом и ≈го ÷ерковью и сложность встречи со ’ристом вне ÷еркви: Ђ¬ речи г. ƒостоевского ’ристос, по-видимому, по крайней мере, до того помимо ÷еркви доступен вс€кому изъ нас, что мы считаем себ€ в праве, даже не справ€сь с азбукой катехизиса, т.-е с самыми существенным положени€ми и безусловными требовани€ми православного учени€, приписывать —пасителю никогда не высказанные им обещани€ Ђвсеобщего братства народовї, Ђповсеместного мираї и Ђгармонииї (Ћ——. 8, 207). Ћеонтьев подчеркивает очень важное обсто€тельство: Ђгибель и вред православному принципуї заключаютс€ в первую очередь не в личных грехах и даже преступлени€х, а Ђв постепенном вырождении его в другие принципыї[13].
“аким образом, с точки зрени€ .Ќ.Ћеонтьева, христианство Ћ.Ќ.“олстого и ‘.ћ.ƒостоевского носит совершенно нецерковный, Ђнеотеческийї, выдуманный характер и не соответствует строгим (Ђвизантийскимї) идеалам, а проповедь такого Ђхристианстваї способна только принести вред.
3. Ќасколько критика . Ќ. Ћеонтьевым Ђхристианства ƒостоевскогої была адекватна?
»так, любовь без страха и смирени€ есть фетиш, самообман и иллюзи€, следствие романтической избалованности и Ђпри€тных порывов сердцаї. Ѕолее того, с точки зрени€ . Ќ. Ћеонтьева, проповедь Ђбесстрашной любвиї, гордое стремление Ђпресных боголюбцевї сразу оказатьс€ в Ђсыновь€хї Ѕожиих, св€занное с ним непризнание ада и вечных мук есть подготовка ÷арства јнтихриста[14].
»менно поэтому этой тщеславной любви . Ќ. Ћеонтьев противопоставл€ет Ђтрансцендентальный эгоизмї, т.е. заботу о спасении души и личном загробном возда€нии. ¬ одном из писем буквально за несколько дней до смерти он подчеркивает, что именно это и составл€ет главное содержание христианской жизни и христианского возрастани€: Ђ≈сли бы покойный старец јмвросий 25-летним юношей не думал бы исключительно о спасении своей души, если бы не вдохновл€лс€ тогда тем, что € зову трансцендентальным (загробным) эгоизмом, а думал бы о том, чтобы улучшать земную жизнь других, то из него вышел бы или гордый и раздраженный, или пустой человек; но дума€ дес€тки лет лишь о своем спасении, он стал великим спасителем другихї[15].
Ќо . Ќ. Ћеонтьев не учитывал диалогического характера мысли ƒостоевского, того обсто€тельства, что в произведени€х последнего не содержитс€ сколько Ц нибудь законченного учени€ о ÷арстве Ѕожием на земле. онечно, даже в последнем романе писател€ мысль о Ђгр€дущей гармонииї рассыпана в большом количестве по разным местам (см., например, поучени€ старца «осимы: ƒѕ——. “. 14. —. 286), но и в самом романе эта иде€ присутствует в характерном Ђполифоническомї обрамлении, к тому же в Ђƒневнике писател€ї ‘. ћ. ƒостоевский в одном месте пр€мо утверждает, что прекрасно понимает несбыточность мечты о рае, но будет все-таки его проповедовать (ƒѕ——. “. 25. —. 118 Ц 119, Ђ—он смешного человекаї). роме того, в других местах сочинений ƒостоевского встречаетс€ совершенно определенна€ мысль о невозможности любви по заповеди ’ристовой на земле, из чего можно заключить о совершенно трезвом понимании писателем этой проблемы.
”чению о ÷арстве Ѕожием на земле вскоре действительно суждено было по€витс€ на свет Ц но не у ‘. ћ. ƒостоевского, а в творени€х Ћ. Ќ. “олстого, которые в 1882 г., когда брошюра Ћеонтьева была опубликована, не были еще даже изданы (хот€, конечно, к этому моменту многие идеи Ћ. Ќ. “олстого уже сформировались). “аким образом, нужно сделать довольно неожиданный вывод: брошюра . Ћеонтьева направлена против еще не написанных книг, против некоторой тенденции, которую он очень проницательно заметил.
“аким образом, глубока€ интуици€ . Ќ. Ћеонтьева про€вилась в том, что он зафиксировал рождение нового €влени€ в истории культуры. ≈го Ђбольша€ правдаї Ч в последовательном и настойчивом отстаивании церковного, св€тоотеческого понимани€ христианства, понимани€, которое всегда противосто€ло и будет противосто€ть любым попыткам Ђобновлени€ї церковной жизни по чуждым ÷еркви образцам. Ёту правоту подчеркнул и —. ». ‘удель, несмотр€ на то, что в целом его отношение к критике . Ќ. Ћеонтьевым ‘. ћ. ƒостоевского было крайне негативным. . Ќ. Ћеонтьев еще раз напомнил своим читател€м две простые истины: веру Ђв неумираемость ÷еркви и неверие в победу христианства в истории. Ќеудаче христианской цивилизации посв€щены в ≈вангелии три полные главыї[16].
ќднако, по мнению –озанова, у . Ќ. Ћеонтьева есть правота фактическа€, документальна€ и совершенно отсутствует понимание остроты проблемы, духа времени: ЂЕему просто не пришло на ум спросить: Ђƒа откуда этот новый дух в христианстве? ќткуда эти новые христиане, которых он так правильно заметил? —ами ли они сочинились, сочинили себ€, и не дует ли в них что-то от времен же »исуса ’риста?ї[17] ƒругими словами, ¬. ¬. –озанов сумел точно почувствовать всю остроту проблемы: формальна€ правота . Ќ. Ћеонтьева в данном случае бесплодна, последний не сумел осознать значени€ религиозного характера творчества ‘. ћ. ƒостоевского и Ћ. Ќ. “олстого, пон€ть, что за этим творчеством сто€т очень важные и показательные тенденции. ƒействительно, поразительно вот какое обсто€тельство: отмеча€ в 1890 г. в статье Ђїƒобрые вестиї, что Ђрелигиозное настроение все растет и растет в высших общественных и умственных сферах нашихї и что Ђлично-религиозные нужды усилились много за последние годаї (Ћ——. 7, 382), . Ќ. Ћеонтьев просто не отдавал себе отчета в том, кака€ заслуга в этом сдвиге сознани€ принадлежит, в значительной степени, именно ‘. ћ. ƒостоевскому.
‘актически противосто€ние ЂЋеонтьев Ц ƒостоевскийї есть противосто€ние Ђтеологии разрушени€ї или Ђкатастрофической эсхатологииї, и Ђтеологии преображени€ї или Ђсветлой апокалиптикиї: либо эта земл€ будет полностью разрушена и возникнет Ђнова€ земл€ї, и тогда никаким разумным человеческим усили€м, в том числе и коллективным, места в этом процессе нет, в них просто нет смысла, либо она будет Ђпреображенаї, и тогда здесь есть место и дл€ человеческого творчества. “аким образом, сама проблема спасени€ мира дл€ . Ќ. Ћеонтьева отсутствует: есть только личное спасение, а Ђслужение общественному благуї есть Ђрозова€ фантази€ї.
»менно в этом смысле говорит о ÷еркви как о предвосхищенной эсхатологии прот. √. ‘лоровский. ÷ерковь ’ристова Ц не эсхатологическое знамение, символ, потому что тогда . Ќ. Ћеонтьев прав: человеческа€ истори€ есть только политический казус, бессмыслица, котора€ подлежит прокл€тию, забвению и разрушению: Ђчеловеку, по большому счету, нечего делать Ц нечего творить, нечего достигать. ќн просто подлежит —уду Ц и томитс€, ожида€ судного дн€ї[18]. “аким образом, нужно говорить не об ошибке или заблуждении . Ќ. Ћеонтьева, а о правильно расставленных акцентах, очень важных обертонах. јнализу .Ќ.Ћеонтьева не хватает, как это ни странно на первый взгл€д, учитыва€ его большой опыт общени€ с преп. јмвросием ќптинским, именно аскетической и экклезиологической сбалансированности, своеобразного чувства меры.
«аключение.
—пор о Ђрозовом христианствеї есть спор Ђв контексте незавершенного прошлогої, его главный смысл открываетс€ только в контексте большого времени, в том Ђбесконечном и незавершимом диалоге, в котором ни один смысл не умираетї[19].
. Ќ. Ћеонтьев очень точно уловил новую тенденцию русской культуры. ќна заключаетс€ в том, что в понимании христианства произошел сдвиг в сторону морали. ѕри этом надо понимать, что взгл€ды Ћеонтьева сформировались, во-первых, под вли€нием старческого окормлени€ в ќптиной пустыни, и, во-вторых, под вли€нием св€тоотеческого аскетического идеала. ¬ определенном смысле это не его взгл€ды, а трансл€ци€ определенной схемы (см., например, ЂЋествицуї или сочинени€ јввы ƒорофе€: действительно сначала Ђстрахї, а затем Ђлюбовьї).
Ќо . Ќ. Ћеонтьев не увидел, что творчество ‘. ћ. ƒостоевского как раз и есть ответ на морализм Ћ. Ќ. “олстого. . Ќ. Ћеонтьев смешал истинно христианский призыв к любви у ‘. ћ. ƒостоевского, который гениально присутствует в его творчестве, с лжехристианской любовью Ћ. Ќ. “олстого.
ƒругими словами, у дискуссии о Ђрозовом христианствеї есть очень важный аспект, она носит €рко выраженный сотериологический характер, т.к. нагл€дно демонстрирует, как те три модели (Ђразумноеї царство добра и правды Ћ. Ќ. “олстого, Ђвсемирна€ гармони€ї ‘. ћ. ƒостоевского, Ђтрансцедентный эгоизмї . Ќ. Ћеонтьева), которые €вл€ютс€ предметом ее обсуждени€, соотнос€тс€ с церковной доктриной спасени€.
|
ћетки: культура |
„естертон Ч мегафон Ѕожий |
ƒневник |

62 года назад в этот день скончалс€ английский христианский мыслитель, журналист и писатель √илберт ийт „естертон. ѕредлагаем вашему вниманию размышлени€ Ќатальи Ћеонидовны “рауберг о св€зи „естертона и –оссии, а также его эссе Ђ≈сли бы мне дали прочитать одну проповедьЕї
„естертон в –оссии
Ќаталь€ “рауберг
¬ведение
—ейчас, когда так жадно самоутверждаютс€ недотоптанные люди, писать о себе почти неприлично. ћожет быть, хот€ бы дл€ христиан, вернетс€ полный запрет и, подобно ѕавлу, мы будем говорить: Ђ«наю одного человека, которыйЕї
Ќо ведь и ѕавел, особенно в 2 ор., не выдержал и ссылалс€ на себ€. ј скромнейший из людей, „естертон, даже проблемы здесь не видел. ѕравда, ему удавалось ни разу не сползти в самоутверждение.
ак бы то ни было, иногда, дл€ дела, € на себ€ ссылатьс€ буду; и сразу начну с того, что строчки честертоновских стихов впервые услышала дома, в раннем детстве. ћама и папа любили песенку про вегетарианца из Ђѕерелетного кабакаї и даже иногда называли друг друга ЂЎомї и Ђ–ериї.
онечно, любили они ее в переводе Ќикола€ „уковского, хот€ папа английский знал. Ќо он был уверен, что „естертон Ч Ђ€ркий представительї беззакони€ 20-х годов, которое тот пламенно обличал. ѕечальную правду он узнал лишь лет через 35, когда € перевела Ђ‘ранцискаї и Ђ¬ечного человекаї, и очень огорчилс€.
—ловом, папа считал, что дл€ такого сверхлегкого чтени€ не стоит лезть в подлинник. —читали так и другие. ќсобенно странно с Ёйзенштейном Ч он был старше их не намного, но гораздо взрослее. ќни навсегда остались подростками; он, может быть, даже ребенком не был.
≈сли мне возраз€т, спорить не стану, знала € его тогда, когда судить умом Ч ни в коей мере не могла, но умным-то он был, а заметил у „естертона только эксцентричность. —очетани€ ее с Ђцентричностьюї никто из них не увидел. “ут € судить могу; о „естертоне € успела поговорить с —ергеем ћихайловичем, потому что начала читать его осенью 1944 года, а летом 1945 видела —. ћ. в ћоскве.
ћало в чем € так убеждена, как в том, что „естертон Ч св€той. —обственно, св€тость вызывает не разумную убежденность, а те самые чувства, которые точнее всего уподобить физическим. “о ли это си€ние, то ли музыка, то ли запах, odor sanctitatis. —в€тые, как солнце, свет€т на правых и неправых, а уж тем более Ч на несчастных. –осси€ была очень неправой и очень несчастной. ћожет быть, именно поэтому „естертон особенно св€зан с ней. огда и как это про€вл€лось, попробую сейчас рассказать.
—екрет жизни
—тало общим местом, что Ђнасто€щий ’’ векї началс€ в 1914 году. ѕосле падени€ Ѕерлинской стены часто говор€т, что кончилс€ он к 1990. Ёто Ч у всех. ј вот в јнглии, очень может быть, он был короче, и началс€ то ли в 1939, то ли в 1936, когда умер √еорг V. ћысль Ч не мо€, € ее недавно читала или слышала по-английски, а где Ч не помню.
“огда получитс€, что „естертон в ’’ веке не жил. “ак это или не так, и что это значит, скажем потом. —ейчас примем это условно, чтобы описать, как печатали и читали его здесь тогда, в странном промежутке, когда наши страны жили в разных столети€х.
ѕервые публикации Ч совершенно такие же, как юмористические или приключенческие рассказы давно забытых теперь писателей. Ђќтсутствие мистера анаї в Ђћире приключенийї очень трудно заметить без предупреждени€. ѕеревод Ч такой, какие тогда были, особенно дл€ почти (или совсем?) массовой литературы.
ѕравда, есть и маленькое чудо Ч безым€нный переводчик подсказал мне через много лет, как перевести Ђmister Glass Ч missed a glassї (Ђмистер ан Ч мимо стаканї). »здава€ в первый раз, € это оговорила, а потом стали печатать без примечани€. Ќадеюсь, сейчас € сообщаю это раз и навсегда.
„естертон писал, что важные вещи случаютс€ сразу, рывком. ѕримерно в начале ЌЁѕа (1921), а может быть Ч чуть раньше, несколько молодых людей увлеклись „естертоном. тому времени уже издали и книжку Ђ„еловек, который был „етвергомї (1916 г.); кто и как его заметил, установить совершенно невозможно. ќднако этот, новый скачок Ч от незаметности к чему-то вроде славы в очень узком кругу, засвидетельствован €вно, да и € его помню, без него € не слышала бы в раннем детстве стихов из Ђ абакаї.
ћолодые люди отличались и от своих старших братьев и (в другом смысле) от своих западных сверстников. ¬се-таки, на западных они были больше похожи, и честно им подражали, за что платили в конце 40х. » те, и другие отшвырнули почти все, что в каком бы то ни было разбавлении дали великие религии. ќни искренне удивл€лись, зачем себ€ в чем-то ограничивать Ч казалось бы €сно, что важно только удовольствие. ѕервым делом совершили sexual revolution, разрубив гордиев узел такой mystere, как брак.
„его там, влюблены Ч вместе, не влюблены Ч разошлись, а если на каждую влюбленность переездов не напасешьс€, остаемс€ веселыми друзь€ми, которые живут вместе и крут€т романы, с кем хот€т. „ем оборачивалась, и очень скоро, эта утопи€, описано много раз. ѕеречитайте хот€ бы книги о Ћиле ёрьевне Ѕрик Ч лучше всего тактичные, вроде записок ¬. ¬. атан€на или трагические, как у ё. арабчиевского.
“акими открыти€ми, фокстротами, курением, модой, слэнгом наши и тамошние были очень похожи. Ќо у наших был и какой-то дикий задор, злой восторг, хот€ многие, сами по себе, были очень добродушны. ак-то они св€зывали это с революцией, убедив себ€, что она им нравитс€, хот€ нравилась им, собственно, мифическа€ Ђнова€ жизньї Ч скорее западна€, чем здешн€€.
¬се-таки, очень трудно отмахнутьс€ от того, что р€дом Ч и крайн€€ жестокость, и крайн€€ пошлость; но они как-то справились. ћысли об этом они загнали довольно глубоко, а жили телемским или подростковым мифом о полной свободе дл€ всего, что захочетс€. ¬оплощением этого мифа стал дл€ них кротчайший, чистейший и строжайший к себе „естертон.
Ћегче всего сказать, что это Ч недоразумение. Ќемножко труднее, но более или менее верно, хот€ и плоско Ч что они восприн€ли эксцентрику „естертона, и больше ничего. Ќо мне кажетс€, что сходство между ними гораздо значительней. » у них, и у него есть важное свойство, о котором, век за веком, забывали христиане.
Ћет двадцать назад члены „естертоновского общества называли это свойство буквой Ђалефї. ” нас вообще тогда, чтобы определ€ть человеческие достоинства и недостатки, были буквы нескольких алфавитов, дл€ краткости и дл€ того, чтобы не определ€ть почти неопределимого. Ќикакой св€зи между буквой и свойством нет, знак совершенно условный. —очетаетс€ в алефе многое: радость, несерьезность, легкость, истинность, свобода, а противостоит он той фальши, т€жести, важности, которую мы обозначали буквой Ђхї (Ђиксї, а не Ђхаї).
ѕоскольку сейчас € пишу не значками, и это Ч не узор, не музыка, даже не стихи, всего € не передам, но отошлю к двум писател€м, у которых этот дух очень чувствуешь. ѕервый Ч Ќабоков в Ђƒареї, второй Ч ¬удхауз. »влин ¬о назвал книги ¬удхауза идилли€ми. ќн прав, если Ђидиллиюї не считать синонимом Ђутопииї или врань€. “ак живут и так вид€т хорошие, счастливые дети, ненадолго Ч молодые люди, иногда Ч старики.
—обственно, можно так жить и видеть в любом возрасте, но плата есть, она Ч высока; почти только о ней всю жизнь писал „естертон. “е люди, о которых € сейчас рассказываю, или не знали о ней, или забыли. ћало того Ч чем дальше, тем больше они убеждали себ€, что платить по меньшей мере смешно.
ѕомню, как в глубокой старости один из них (вскоре после этого Ч очнувшийс€ и полтора года проживший, искренне ка€сь) доказывал с неуместным пылом, что ѕушкин Ђвесело и лихої измен€л жене. ƒоказательством был рассказ о ночном приключении у ƒолли ‘икельмон. ќно свидетельствовало о том, что такой легкий, свободный и т. п. человек непременно циничен, иначе быть не может и не должно.
ќдним из поклонников „естертона был ¬алентин —тенич. Ѕлок описал его в эссе Ђ–усские дендиї. »рина унина, проживша€ всю взрослую жизнь за границей, пишет в мемуарах, что Ѕлока он разыграл. ќна дружила со —теничем в те годы, когда они оба входили в круг петербургской золотой молодежи. ћожет быть; € его не помню, хот€ видела, но уж очень маленька€.
Ѕыли или не были циничными те дети из богатых петербургских семейств, решать не мне, почти никто из них не дожил в –оссии даже до 30-х годов. ј вот молодые нахалы с юга циничными могли и не быть. “очнее их назвать наивными. “ем самым, Ђалефї был в них несравненно чище, без примесей. Ќо цену они не платили и платить не собирались.
ѕоневоле вспомнишь монолог отца Ѕрауна под деревом, на котором сидит ‘ламбо.
Ђ” вас еще есть молодость, и честь, и юмор, но при вашей профессии надолго их недостанет. ћожно держатьс€ на одном уровне добра, но никому не удавалось удержатьс€ на одном уровне зла. Ётот путь ведет под гору. (Е) я знаю, что у вас за спиной вольный лес и он очень заманчив, ‘ламбо. я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезь€на. Ќо когда-нибудь вы станете старой седой обезь€ной, ‘ламбо. ¬ы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод (Е) и верхушки деревьев будут совсем голымиї [4].
онечно, это так. ћолодые люди, очень похожие на √одунова-„ердынцева или какого-нибудь Ѕерти, Ѕинго, –онни [5] стали Ђстарыми, седыми обезь€намиї не только потому, что пр€мым ходом вошли в советские ловушки. Ќа «ападе они рано спивались, сходили с ума, кончали с собой. «десь, дожив до глубокой старости, на т€жко оплаченных привилеги€х, многие хот€ бы в самом конце ужасались своей жизни. “ам Ч не знаю. ћожет быть, в начале Ђдругой жизниї ужасаютс€ все.
Ќесколько тыс€ч лет хорошо известно, что лучше ужаснутьс€ пораньше. “ут и ждет нас развилка. ”видев, какой ты на самом деле, проще всего это скрыть не только от других, но и от себ€. огда-то, дел€сь опытом, мы припоминали в этой св€зи мокрицу.
”вы, подробнее про мокрицу Ч что пережил?
то это пережил, согласны, что, обнаружив свое сходство с мокрицей, ты просто взмыл, распр€милс€, сбросил т€желый мешок Ч образов много. Ќо не все решаютс€ Ч на что? ¬роде и не от теб€ это зависит. ќстанавливаюсь, чтобы не впасть в богословские расщеплени€ волоса. ќписаний, иносказаний Ч сколько угодно, но если этого с тобой не было, они не работают.
—ейчас и здесь дл€ нас важно одно: Ђотвергатьс€ себ€ї бедные любители „естертона не хотели. ¬о вс€ком случае, € таких случаев не видела (надо ли напоминать, что речь идет о наших, здешних, в 20-х годах?) » все; их легкости приходил конец, она лопалась или опадала, словно шарик. ≈сли пишешь о „естертоне, заведомо будешь открывать и повтор€ть трюизмы. ќбщих мест о смирении Ч тыс€чи, но они непон€тны извне.
онечно, € говорю сейчас не о совершенном смирении св€тых, а вот о таком, первоначальном; назовем его Ђрадостью мокрицыї. ƒействительно, радость у нее больша€ Ч она пон€ла, что ее совершенно ни за что любит Ѕог и почему-то терп€т люди. —корее всего, у ѕушкина это было Ч иначе райской красоте и райской свободе просто не на чем удержатьс€. ћожет быть, именно в этом смысле јндрей ƒонатович —ин€вский писал об его пустоте.
” „естертона, совсем не гени€, но св€того, это было Ђв героической степениї. ” около-советских богемных мальчиков не было ни в какой. ѕроскочив развилку, они разминулись; некоторых он стал раздражать, некоторые его немножко стыдились. Ќо вот что странно и хорошо: были такие, кого он все-таки подпитывал. »ногда мне казалось, что еще немного Ч и что-то случитс€, индукци€ эта их прошибет. —лучилось ли так хот€ бы раз, € оп€ть же не знаю.
„то бы ни творилось в глубине, повтор€ли они привычные и уже циничные фразы. —лово Ђсмирениеї им было или смешно или противно. „ита€ эссе двое-трое еще не умерших к 60-м удивл€лись, иногда Ч сердились. „то-то казалось им зан€тным на уровне умственной игры, что-то Ч очень раздражало. Ќо тем, кто заметил в главе из Ђ≈ретиковї фразу: Ђ—екрет жизни Ч в смехе и смиренииї она совсем не понравилась. Ќу, знаете! ≈ще чего, смирение!
≈сли они выросли в верующих семь€х, виноваты в этом и мы, скажем так Ч христиане. —мирение часто св€зывалось у них с самыми нехристианскими свойствами на свете Ч с жестокостью и фальшью.
ћожет быть, кто-то, заметив эту фразу, подумал, почему они, такие легкие, и часто Ч одаренные, уже ничего не могут, а дурацкий „естертон чем дальше, тем лучше. ажетс€, “олстой сказал, что знаменатель дроби Ч то, что думаешь о себе, а числитель Ч то, какой ты есть. ѕредположим, что вначале числители у них и у „естертона были равны, но он делил на ноль, они Ч на бесконечность.
ѕоследний отрезок его жизни, в 30-х годах Ч совпал с тем, что здесь, у нас, его перестали издавать. Ёксцентрики уже бо€лись. ћолодые люди другого поколени€, в 30-х годах достигшие лет 18-ти, читали „естертона, но не очень. ¬ернее, его читали еще воспроизводившиес€ интеллигенты; но дл€ них он был одним из полу запрещенных западных писателей 20-х годов, больше ничего. Ќе советский, не про рабочих-кресть€н Ч и спасибо.
¬первые € слышала восторги этого рода лет в п€тнадцать, от студентов ¬√» а , приехавших в јлма-јта, чтобы защитить диплом и стать из солдат кино корреспондентами. я еще таких книг не читала, а они перечисл€ли подр€д Ђ«еленую шл€пуї (ћайкл јрлен) , Ђ√олемаї (√устав ћейринк), что-то ∆ироду, что-то ћоруа Ч и в таком винегрете „естертон. ¬идит Ѕог, € не смеюсь. ј „естертон бы что сделал? Ќаверное, очень пожалел их.
Ќемного позже, осенью 1944-го, вернувшись в ѕитер и поступив в университет, € нашла эти книги дома, на полках, прочитала их и забыла Ч все, кроме „естертона.
Doctor spei
“еперь мне придетс€ писать о себе. —кажу дл€ пон€тности, что в Ѕога € верила с детства (мамина семь€, а главное Ч наша с мамой обща€ н€н€), но до развилки, о которой мы недавно говорили, было очень далеко. Ѕольше всего € хотела стать «олушкой на балу, и ко второму курсу мне уже стало казатьс€, что университет эту возможность дает. Ќо с того осеннего дн€, когда € открыла первый сборник рассказов об отце Ѕрауне, честертоновска€ индукци€ начала свое дело. ѕереводы были чаще плохие, да еще почти всегда Ч сокращенные, а она все равно действовала. огда же летом 1946, переход€ на третий курс, € прочитала Ђ¬озвращение ƒон ихотаї по-английски, случилось уже нечто €вное.
ажетс€, первым поразил мен€ тот кусок, где речь идет о том, как ќливи€ Ёшли любила цвета: ЂЌадо было знать, что значил этот клочок дл€ ќливии, чтобы пон€ть, какое важное дело она довер€ла ћэррелу. –исунок был сделан давно, в ее детстве, а рисовал ее отец, человек замечательный во многих отношени€х, но главным образом Ч как отец. Ѕлагодар€ ему она с самого начала мыслила в красках. ¬се, что дл€ многих зоветс€ культурой и приходит исподволь, она получила сразу.
√отические очертани€ и си€ющие краски пришли к ней первыми, и по ним она судила падший мир. »менно это она пыталась выразить, восстава€ против прогресса и перемен. —амые близкие ее друзь€ удивились бы, узнав о том, что у нее захватывает дух при мысли о волнистых серебр€ных лини€х или сине-зеленых зубцах узора, как у других захватывает дух при воспоминани€х о былой любвиЂ.
“огда, в это лето, € очень дружила с одним классиком на два курса (и 5 лет) старше мен€, любимым учеником ќльги ћихайловны ‘рейденберг. ћы ходили белыми ночами по ѕитеру, сидели на скамейках, читали ћандельштама, а € Ч первый вариант Ђѕоэмы без геро€ї, который немного раньше дал мне ћихаил ёрьевич Ѕлейман.
»так, гул€ли и читали. огда оказалось, что Ђƒон ихотаї он знает и любит, мы неверо€тно обрадовались и стали играть, что он Ч ’ерн, € Ч ќливи€. ак те герои переселились в —редние века, так мы, с парками и реками вместе Ч в честертоновскую јнглию конца ’’ годов.
»менно тогда у мен€ начиналс€ пока€нно-народнический период. я совсем застыдилась, что мы Ч баре, а € сама еще и живу в отдельной квартире и т. п.. ѕоскольку при этом (и до этого, с детства) € патологически бо€лась хамства, особенно Ч крика, то примен€ть свое новое мировоззрение никак не могла.
„естертон сразу, как только € в это состо€ние впала, предложил мне какой-то небесный вариант, где прекрасно сочетались и легкость терпимого ћартышки, похожего на моих родителей в молодости, и народолюбец Ѕрэнтри, и мои любимые —редние века.
ј уж про краски говорить нечего Ч радость узнавани€ в чистом виде. тому отрывку, про ќливию, прибавилс€ ћайкл, рисующий крест с птицами и рыбами, и ала€ краска, которую ћартышка находит у ’эндри. я никогда до тех пор не видела у других такого воспри€ти€ красок, это была мо€ детска€ тайна, и € думала, что ее никто не поймет. огда ровно через 20 лет, € подсчитывала дл€ доклада в €арику, какие у него цвета, и пыталась рассказать, почему его мир подобен Ќовому »ерусалиму, лето 46 года просто сто€ло передо мной.
ѕошли годы, сперва Ч очень радостные, потом Ч чудовищные, и мне теперь кажетс€, что € читала „естертона всплошную, одно кончала Ч другое начинала. Ќа очень важное место вышел Ђѕерелетный кабакї, € особенно его полюбила. ѕочему-то именно он выполн€л странную роль Ч раза два или три € давала его читать молодым люд€м, как бы дл€ проверки. ƒвое стыдливо сказали что-то вроде: Ђƒа, зан€тної (был ли третий случай, € не помню). ¬се-таки со мной учились те, кого мои внуки назвали бы Ђботаникамиї, а не молодые киношники; тот классик был единственный Ђвот такойї.
Ћетом 1949 € ездила в ћихайловский сад и читала там честертоновскую книгу про ƒиккенса. ѕредшествовали этому: кампани€ против космополитов, которую € сочла чем-то вроде кары Ѕожьей, поскольку папа и другие (кроме ћики Ѕлеймана) Ч баре и циники; посадка моих друзей (начало апрел€), котора€ пришибла мое народолюбие; окончание университета, очень трогательное.
Ћето оказалось не столько трогательным, сколько непосильно высоким. я видела много редкого благородства и как-то затихла изнутри. ѕрорезает его удар Ч посадили √уковских. ∆алко всех, но € особенно любила моего учител€, ћатве€ јлександровича, который дотащил до нас знаменитый семинар √ревса.
Ќаверное, в 21 год человек Ч совсем уж трость, ветром колеблема€. „ита€ про ѕэготти и достоинства Ђпростых людейї, € думала: Ђ ак он может?! √де он их видел?! ќни же такие беспощадныеї Ч начисто забыв свои пока€ни€ перед народом, которые оборвались мес€ца на три раньше, а главное Ч решив почему-то, что речь идет о несчастных советских хамах, а не о Ќ€ничке.
ѕомню, слова о том, что старики Ђмного раз видели конец конца светаї, насторожили мен€ Ч а вдруг правда? ѕозже € видела конец и тогдашнего конца, и многих других.
ѕрошло еще полтора года, мен€ уже выгнали с работы, € сидела дома, была зима. ажетс€, прошел Ќовый √од. «атихла € начисто, а город просто застыл, с Ћенинградом такое бывало. —обственно, это нередко бывает с Ђгородом ѕетраї при всех его названи€х. ѕочему-то в зиму 50-51 годов € приносила домой книги из ѕублички, то ли у папы не отн€ли абонемент, то ли у мен€ был свой. ѕринесла € Ђ абакї, сидела, читала, зна€ его наизусть. ƒошла до стихов ЂWho goes homeї Ч и что-то со мной случилось. „естертон бы сумел это описать, € Ч не берусь.
ѕотом, уже дума€, € пон€ла, что дл€ мен€ впервые соединились Ђдомї и Ђсвободаї. –аньше Ђдомї был из мира н€ни, бабушки, одних книг, Ђсвободаї Ч из мира моих старших друзей, родителей в молодости, других книг. “ут произошла химическа€ реакци€, вроде взрыва. ќчень нескоро, лет через 15, придумали мы, что у „естертона несли€нно и нераздельно соедин€ютс€ Ђцентростремительноеї и Ђцентробежноеї.
—ловом, Ђ абакї стал главной книгой, а чего-то, начавшегос€ тогда, хватило до освобождени€ врачей 4 (или 3) апрел€ 1953. онечно, и потом оно никуда не делось, но сейчас мне кажетс€, что из земных вещей тогда мен€ держало только это. Ћет через двадцать —ергей —ергеевич јверинцев назвал „естертона ЂDoctor speiї, и оп€ть, как в честертоновской книге, € Ч услышала? увидела?? почувствовала? Ч то же самое.
ћегафон Ѕожий
ћало кто помнит, как все переменилось весной 1953 года. ¬рачей освободили в субботу (—трастную), а в понедельник, у остановки трамва€, который шел в институт, где мы преподавали, Ѕор€ ¬айсман тихо кричал: ЂVive la liberte!ї. (—обственно, € не особенно преподавала, была Ђна почасовойї, и скоро оттуда ушла, хотела только переводить).
12 ма€ наша семь€ переехала в ћоскву. роме других Ђдаров 50-хї, € познакомилась с людьми, которые „естертона читали и любили. ¬ернулись из лагер€ мои посаженные в 49-ом друзь€, и с вокзала, где встречали мужа, »люшу, € поехала вместе с »рой ћуравьевой, о которой еще в Ћенинграде много слышала. ≈е муж тоже недавно вернулс€.
ѕрежде, чем писать дальше, скажу дл€ благодарности в честертоновском духе, что про то, как встречали »люшу, есть песн€, написал ее јлександр –аскин, пели на мотив Ђ олымыї. ончаетс€ она так:
“ак здравствуйте, мать и жена,
“ак здравствуйте, родные дети!
ому-то, как видно, нужна
≈ще справедливость на свете.
ј во втором, среднем куплете, есть строчки:
“ы с нами, ты снова живой,
Ѕогата земл€ чудесами.
—праведливость и чудеса „естертон любил.
ѕодружились мы с »рой немедленно и бурно. ѕрожила она после этого около п€ти лет. ’одила € к ней почти непрерывно, как когда-то читала „естертона. Ћюди, собиравшиес€ там, читали его или хот€ бы знали, сама »ра любила, но меньше, чем € Ч он все-таки был дл€ нее не ”читель Ќадежды, вообще не учитель, а веселый, легкий, совсем не советский человек. «ато сыновь€ »рины, Ћедик и ¬олод€, тогда Ч мальчики, полюбили его вполне, и в 1974 году, среди прочих, основали честертоновское общество.
ƒругие мои новые друзь€, первый из них Ч ¬олод€ ”спенский, относились к „естертону несколько иначе. ќни, наши первые структуралисты, играли вместе с ним. –ыцарские трубы (¬олод€ ћ.) или высока€ свобода (»ра) меньше их трогали. ќказалось, что честертоновские рассказы просто созданы дл€ семиотических зан€тий. ѕозже к ним присоединилс€ ёл€ Ўрейдер, тогда Ч только математик и еще не католик. Ќаверное, „естертон приложил руку и к переходу его в философы, и к крещению.
¬ыйд€ замуж за литовца, € уехала в Ћитву, которую можно считать картинкой к честертоновской книге. ѕока у нас не было там жиль€, мы снимали домик под ћосквой. “омас ¬енцлова, ”спенский и новый »рин муж, √ригорий —оломонович ѕомеранц, туда к нам ездили. ѕоздней осенью (или уже зимой?) 1960 года, чтобы подарить им и их знакомым, € перевела эссе Ђ усочек мелаї и Ђ–адостный ангелї. “ак началс€ честертоновский самиздат.
√ода на три раньше вышла куца€ книжка, перва€ после многолетнего перерыва (см. библиографию). Ѕольше всего там было Ѕраунов, меньше Ч ‘ишеров и два ѕонда. ѕредисловие сообщало, что „естертон Ч писатель пустоватый, реакционер, но что-то вроде классика. «аметили книгу или нет, € не знаю, но многие из моих молодых знакомых ей обрадовались.
¬ Ћитве € положила себе переводить 25 эссе или один трактат в год, и это выполн€ла. —колько эссе накопилось, сказать трудно. ћо€ невестка, уже теперь, попыталась многое собрать, но все ли, мы пон€ть не можем. ” мен€ обычно экземпл€ра не оставалось, тогда ведь не было ни ксерокса, ни компьютеров, а читатели Ч были.
— трактатами получилось так: в 1961 году € перевела Ђ‘омуї, в 1962-3, к ѕасхе Ч Ђ‘ранцискаї, а зимой 1963-4 Ч Ђ¬ечного человекаї. Ќабравшись католических привычек, последний из этих переводов € делала Ђпо интенцииї, сразу после смерти еннеди. “огда € еще не знала, что в один день с ним умер Ћьюис (а „естертон Ч в один день родилс€, хот€ и намного раньше, не в 1917, а в 1874).
»менно в те годы кончалс€ короткий понтификат »оанна XXIII, во врем€ которого над миром просто сто€ло не€ркое солнце. ƒождем лились чудеса; трудно было не услышать, как молитвы спасают мир. Ќаверное, это был перелом XX века.
ѕервой литовской зимой (1962-63), а может Ч весной, когда € читала Ђ„осераї и ЂCollected poemsї, а переводила Ч Ђ‘ранцискаї; случилось чудо о мокрице. –аньше, чита€ ѕисание, ход€ в церковь, € прочно воспринимала себ€ в духе Ђѕочему же Ѕог мен€ наказывал?ї и даже почти не сомневалась, что Ђбрата € не ненавидела и сестры не предалаї.
√ода за полтора до этого, чита€ ЅЄлл€, € узнавала себ€ (Ђнасї) в тех, кто прин€л причастие агнца, а Ђихї Ч в тех, кто прин€л причастие буйвола. онечно, когда вокруг Ч такое, естественно и даже справедливо ощущать себ€ жертвой, но это Ч в двух измерени€х.
ћне кажетс€, случилось и обычно случаетс€ вот что: пока € еле жила, от мокрицы € отшатывалась, и это еще спасибо, после нее есть и очень опасный путь. онечно, € была Ђтиха€ї, а не Ђбойка€ї и не Ђважна€ї Ч н€нечка впечатала, но оп€ть же работало это в двух измерени€х. “еперь, к этой зиме, € была счастлива. ѕервый раз в жизни (в 34 года), у мен€ был свой дом. ак в честертоновских книгах, это пробило плоскость, вниз (мокрица) и вверх (благодарна€ радость).
ћожет быть, Ћьюис тем и меньше „естертона, что написал: Ђ—традание Ч мегафон Ѕожийї? —плошь и р€дом от страдани€ пытаютс€ бежать или, все-таки завидев мокрицу, пускают все силы на самоутверждение. ¬от и получаетс€, что мистик мудрее наставника. Ќо об этом поговорим позже.
¬ 1965 году, познакомившись с отцом јлександром ћенем, € подарила ему Ђ¬ечного человекаї и тем же летом, уже в литовской деревне, получила через друзей записку от него. ќна давно потер€лась, а смысл такой: Ђ”ра! “очно то, что надої. ћгновенно возрос тираж. “рактаты и эссе перепечатывали с перепечаток, и они мен€лись на ходу, как средневековые манускрипты.
¬ 1967 году впервые были напечатаны несколько эссе: Ђ»стори€ против историковї, Ђјльфред ¬еликийї, Ђ укольный театрї, Ђ—авонаролаї, Ђ арикатура и кичливостьї и мо€ небольша€ стать€ о самом „естертоне в альманахе Ђѕрометейї. я бы не упоминала о своей статье, если бы не чудеса с этой книжкой.
¬ 1998 году альманах был найден совершенно неча€нно в букинистическом отделе книжного магазина, где работал мой внук. ћы с интересом и опасением (что разрешено было писать о „естертоне 30 лет назад?) обнаружили, что стать€ могла бы быть напечатана и в 1998, никакой разницы, просто сейчас € о нем знаю гораздо больше.
ѕеречитала и вспомнила Ђ“айну ‘ламбої. ќтец Ѕраун горюет, что он сказал одно, а понимают Ч другое. огда € примерно так рассказываю о молодых люд€х 20-х годов, мне обычно став€т на вид Ч да, именно Ђстав€т на видї Ч что или € сужу их, или что € их оправдываю. ¬идимо, очень трудно пон€ть, что Ђлюбитьї и Ђнравитьс€ї Ч не синонимы.
Ќу, представьте себе мать и ребенка! ќн ей может совсем не нравитьс€, она плачет Ч но его любит. “ак и здесь Ч € не сужу их и не оправдываю, а с умилением вспоминаю и очень жалею. »м ведь было гораздо хуже, чем „естертону. ќб этом €, собственно, и пишу. “очно так же € расскажу теперь про молодых людей 60-х годов, и просто умол€ю помнить, хот€ бы, что € не Ђсужуї их.
ѕримерно к 1963 году, среди тех Ђвнуковї, которым так радовалась семидес€тилетн€€ јхматова, по€вились любители „естертона. то-то из них читал наш самиздат, кто-то Ч подлинник. —разу выделю крохотное множество, читавших точно так, как люди 20-х годов. ѕомню, ∆ен€ –ейн приехал летом 1964 и, суд€ по разговорам, восхищалс€ чем-то честертоновским, совсем как те, вроде Ђ¬о дает!ї.
Ќовым было другое: несколько очень молодых людей открыли сперва в себе, потом Ч в книжках ненависть Ђко всем этим гуманизмамї. Ћеонтьев, де ћестр, даже Ћеон Ѕлуа Ч немедленно нашлись, эти книги были, и „естертона поставили в тот же р€д. ќдин из этих молодых людей решил стать католиком, причем особенно полюбил мечи и костры. ѕомню, Ўимон ћаркиш ужасалс€ таким речам и, бега€ по бульвару, спрашивал: ЂЌу, скажи, должно же быть в христианине что-то от св€того ‘ранциска?ї
ƒолжно или не должно, человек, о котором € говорю, наивно и восхищенно рассказывал мне тогда же, что одна женщина, услышав о смерти »оанна XXIII, с облегчением сказала: Ђ“акие только на небе и нужныї; а когда же он все-таки усомнилс€ Ч Ђкак же так, жгли людейЕї, она сказала: ЂЌе людей, а еретиковї.
ќчень скоро к поклонникам этого рода прибавились несколько человек, к церкви (тогда) не стремившихс€. Ѕыстро сколачивалось что-то вроде ЂAction Francaiseї, и такой, где верующих Ч немного, да и не это важно (припоминаютс€ Ђбледные брать€ї у Ћьюиса, в Ђ ружном путиї).
ѕоздней осенью 1969 года, когда € снова переехала в ћоскву, „естертон прочно вошел в число их героев. ѕознакомившись за несколько лет до того, мы горевали об этом с —ергей —ергеевичем јверинцевым. ѕомню, он говорил: ЂЌу, как доказать, что христианство все-таки св€зано с милостью?!ї ’ристианин „естертон тоже был с ней св€зан, и в двух докладах Ч €арику (1966) и ¬иперовские чтени€ (~70) мы пытались ввернуть и это, хот€ в основном речь шла о красках и прозрачности Ќового »ерусалима.
≈сли бы мне дали прочитать одну проповедьЕ
√илберт ийт „естертон
≈сли бы мне дали прочитать только одну проповедь, € говорил бы о гордыне.
„ем больше € живу, чем больше вижу, как живут и пытаютс€ жить в наше врем€, тем более убеждаюсь в правоте старого церковного учени€ о том, что все зло началось с прит€зани€ на первенство, когда само небо раскололось от одной высокомерной усмешки.
ак ни странно, почти все отвергают это учение в теории и принимают на практике. —овременным люд€м кажетс€, что богословское пон€тие гордыни бесконечно далеко от них; и если говорить о богословском пон€тии, то так оно и есть.
Ќо суть его, сердцевина бесконечно им близка, потому они и не могут его разгл€деть. ќно вплелось в их мысли, поступки и навыки, € даже сказал бы, слилось с их телом, и они принимают его, сами о том не веда€. Ќет на свете истины, столь чуждой всем в теории и столь близкой на деле.
„тобы в этом убедитьс€, проведем не очень серьезный, хот€ и довольно при€тный опыт. ѕредставим себе, что читатель (а еще лучше Ч писатель) отправилс€ в кабак или другое место, где встречаютс€ и болтают люди. Ќа худой конец сойдут и трамвай, и метро, хот€ в них, конечно, нельз€ болтать так долго, как в старом добром кабачке.
¬о вс€ком случае, представим себе место, где собираютс€ люди, большею частью бедные (ведь бедных на свете больше), иногда Ч относительно обеспеченные, но все до единого, как говор€т наши снобы, простые.
ѕредставим себе, что экспериментатор, вежливо приблизившись к ним, скажет непринужденно: Ђѕо мнению богословов, промыслительна€ гармони€ была нарушена, а радость и полнота быти€ Ч замутнены, когда один из высших ангелов перестал довольствоватьс€ поклонением √осподу и пожелал сам стать объектом поклонени€ї.
ѕотом он обведет слушателей выжидательным взгл€дом, но одобрени€ не дождетс€. ћожно смело предположить, что отклики не будут отличатьс€ св€зностью, а догматической ценности и поучительности а них окажетс€ не больше, чем в нашем принудительном образовании. Ѕолее того, если экспериментатор выразит эту истину проще и скажет, что гордын€ Ч т€гчайший из смертных грехов, недовольным слушател€м покажетс€, что он лезет к ним с проповедью.
Ќа самом же деле он сказал им то, что думают они сами или, в худшем случае, хот€т, чтобы думали другие.
ѕредставим себе, что экспериментатор не успокоилс€ на этом. ѕредставим себе, что он Ч или, допустим, € Ч выслушает и, может быть, даже запишет в блокнот то, о чем говор€т эти самые простые люди. ≈сли он насто€щий ученый с блокнотом, вполне может статьс€, что он до сих пор никогда не видывал обычных людей.
ќднако, если он внимательно к ним отнесетс€, он заметит, что и о друзь€х, и о недругах, и просто о знакомых они говор€т приблизительно в одном и том же тоне Ч незлобиво и обсто€тельно, хот€ никак не беспристрастно.
ќн услышит немало ссылок на всем известные слабости, которые есть у ƒжорджа, и немало оправданий им, и даже уловит оттенок гордости в рассказе о том, как ƒжордж напилс€ и провел полисмена. ќн узнает, что о прославленном дураке говор€т с почти любовной усмешкой; и чем беднее собравшиес€, тем более про€в€т они истинно христианской жалости к тем, кто Ђвлипї.
» вот, по мере того как всех этих грешников вызывает из небыти€ заклинание сплетен, экспериментатор начинает догадыватьс€, что один тип людей, по-видимому только один тип, может быть только одного человека здесь не люб€т. ќ нем говор€т иначе; стоит назвать его Ч и все замкнутс€, и в комнате станет холодней.
“ака€ реакци€ удивит ученого, тем более что ни одна из общественных или антиобщественных теорий нашего века не подскажет, чем же этот человек плох. Ќаконец ему удастс€ вывести, что одиозное лицо ошибочно полагает, будто вс€ улица или даже весь мир принадлежит ему. » тут кто-нибудь скажет: Ђ¬здумал, видите ли, что он сам √осподь Ѕог!ї
“огда ученый может закрыть свой блокнот и покинуть место опыта, заплатив, конечно, за напитки, заказанные в научных цел€х. ќн доказал свой тезис. ќн нашел то, что искал. ѕолупь€ный кабацкий завсегдатай с безупречной точностью повторил богословское определение —атаны.
√ордын€ Ч столь сильный €д, что она отравл€ет не только добродетели, но и грехи. »менно это чувствуют люди в кабаке, когда, оправдыва€ бабника, мошенника и вора, осуждают того, кто, казалось бы, так похож на √оспода. ƒа и все мы, в сущности, знаем, что коренной грех Ч гордын€ Ч утверждает другие грехи, придает им форму.
ћожно быть легкомысленным, распутным, развратным; можно, в ущерб своей душе, давать волю низким страст€м Ч и все же в кругу мужчин прослыть неплохим, а то и верным другом.
Ќо если такой человек сочтет свою слабость силой, все тут же изменитс€. ќн станет соблазнителем, ничтожнейшим из смертных и вызовет законную гадость других мужчин.
ћожно по своей природе быть ленивым и безответственным, забывать о долгах и долге, нарушать обещани€ Ч и люди прост€т вас и поймут, если вы забываете беспечно.
Ќо если вы забываете из принципа, если вы сознательно и нагло пренебрегаете своими об€занност€ми во им€ своего таланта (вернее, веры в собственный талант), если вы полагаете, что вам, натуре творческой, должны платить дань презренные труд€щиес€ люди, тогда, в полном смысле слова, это черт знает что.
ƒаже скупец, стыд€щийс€ своего порока, куда милей и пон€тней богача, зовущего скупость бережливостью, умением жить или умеренностью вкусов. —кажу больше: приступ физической трусости лучше трусости принципиальной; € пойму того, что поддалс€ панике и знает об этом, но не того, кто, умыва€ руки, разглагольствует о миролюбии.
ћы потому и ненавидим чистоплюйство, что это Ч сушайший вид гордыни.
Ќо, как € уже говорил, отношение к гордыне не так просто. ”чение о гордыне как о зле, особенно о духовной гордыне, считают в наши дни мистической чушью, ничем не св€занной с простой и практичной современной этикой. Ќа самом же деле это учение особенно важно дл€ практической этики.
¬едь, насколько € понимаю, основной ее принцип Ч сделать всех счастливыми; а что мешает чужому счастью больше, чем гордын€? ѕрактическое возражение против гордыни Ч то, что она огорчает и разъедин€ет людей не менее, если не более очевидное, чем мистическое.
ќднако хот€ с осуждением гордыни мы сталкиваемс€ на каждом шагу, мы почти ничего не слышим и не читаем о ней. Ѕолее того, почти все книги и теории стимулируют гордыню.
—отни мудрецов тверд€т без устали о самоутверждении; о том, что у детей надо развивать индивидуальность, какой бы она ни была; о том, что вс€кий человек должен добиватьс€ успеха, а добившись, укрепл€ть свою власть над людьми; о том, как стать сверхчеловеком (подробности письмом), и наконец, о том, как особенно исключительный сверхчеловек смотрит сверху вниз на обычных сверхлюдей, которые так расплодились в нашем странной мире.
ороче говор€, в теории мы изо всех сил поощр€ем самодовольство. Ќо не надо беспокоитьс€. Ќа практике, как и прежде, мы его не поощр€ем. —ильна€ магнетическа€ личность вызывает у близких знакомых одно желание: поскорей от нее отделатьс€. Ќи в клубе, ни в кабаке не люб€т острых приступов самоутверждени€.
ƒаже самый изысканный и модный круг видит сверхчеловека насквозь и называет его чаще всего кретином. ƒа, апологи€ гордыни не выдерживает критики в жизни, а не в книгах.
ћоральное чутье и практический опыт современных людей опровергает модную ересь всюду, где двое или трое собрались хот€ бы во им€ свое.
» еще одной вещи учит нас опыт. ¬се мы знаем, что есть на свете самоупоение Ч штука куда более непри€тна€, чем самокопание. ќно неуловимее и в то же врем€ опаснее, чем все духовные немощи. √овор€т, оно св€зано с истерией; не знаю, мне часто кажетс€, что оно св€зано с бесовским наваждением.
„еловек, одержимый им, совершает сотни поступков по воле одной только страсти Ч снедающего тщеслави€. ќн грустит и смеетс€, хвастает и скромничает, льстит и злословит или сидит тихо только дл€ того, чтобы, упаси Ѕоже, не забыли восхититьс€ его драгоценной особой.
я всегда удивл€юсь: как это в наше врем€, когда столько болтают о психологии и социологии, об ужасах детской дефективности, о вреде алкогол€, о лечении неврозов Ч словом, о сотн€х вещей, которые проход€т на миллиметр от истины и никогда не попадают в цель, Ч как же в наше врем€ так мало знают о душевном недуге, отравл€ющем чуть ли не каждую семью, чуть ли не каждый кружок друзей?
» вр€д ли кто-нибудь из практиков-психологов объ€снил этот недуг столь же точно, как св€щенники, издавна знающие, что себ€любие Ч дело ада. ¬ нем есть кака€-то особенна€ живучесть, цепкость, благодар€ которой кажетс€, что именно это односложное, забытое слово подходит тут лучше всего.
»нтеллигенты предпочитают толковать о пь€нстве и курении, о порочности рюмки и тлетворном вли€нии кабака. Ќо худшее в мире зло воплощено не в рюмке, а в зеркале, не в кабаке, а в той уединенной комнате, где человек рассматривает себ€.
ƒолжно быть, мен€ не поймут; но € бы прежде всего сказал бы моим слушател€м, чтобы они не наслаждались собой. я посоветовал бы им наслаждатьс€ театром или танцами, устрицами и шампанским, гонками, коктейл€ми, джазом, ночными клубами, если им не дано наслаждатьс€ чем-нибудь получше. ѕусть наслаждаютс€ многоженством и кражей, любыми гнусност€ми Ч чем угодно, только не собой.
Ћюди способны к радости до тех пор, пока они воспринимают что-нибудь, кроме себ€, и удивл€ютс€, и благодар€т. ѕока это от них не ушло, они не утрат€т тот дар, который есть у всех нас в детстве, а взрослым дает спокойствие и силу.
Ќо стоит им решить, будто они сами выше всего, что может предложить им жизнь, всеразъедающа€ скука овладеет ими, разочарование их поглотит, и все танталовы муки ждут их.
онечно, нас может сбить с толку многозначность слова Ђгордитьс€ї Ч ведь Ђгордостьї и Ђгордын€ї не одно и то же. ћы часто говорим, что муж гордитс€ женой, или народ Ч героем; но в этих случа€х речь идет совсем о другом чувстве.
„еловек, горд€щийс€ чем-либо, существующим вне его, признает предмет своей гордыни и благодарен ему. » точно так же слово может сбить с толку, если € скажу, что из всех многочисленных черт насто€щего и будущего хуже и опаснее всего наглость.
¬едь под наглостью мы нередко понимаем очень смешные и веселые свойства Ч например, когда говорим о наглости уличных мальчишек.
Ќо если, приблизившись к важному господину, вы нахлобучили ему цилиндр на нос, вы не хотите этим сказать, что вы, вы сами, выше человеческих глупостей; наоборот, вы признаете, что вполне им подвластны, да и ему не мешало бы к ним приобщитьс€.
≈сли вы толкнули герцога в живот, вы совсем не хотите сказать, что принимаете всерьез себ€, вы просто не прин€ли всерьез ни себ€, ни герцога. “акую наглость легко осудить, она открыта критике, беспомощна и не всегда безопасна.
Ќо есть наглось друга€ Ч холодна€ наглость души, и тот, кому она свойственна, считает себ€ намного выше людского суда.
Ќемало представителей нового поколени€ и последователей новых школ страдают этой слабостью. ¬едь это Ч слабость; такой человек беспрерывно верит в то, во что даже дурак верит урывками: он считает себ€ мерой всех вещей.
√ордый пример€ет все на свете к себе, а не к истине.
¬ы не горды, если хотите что-то хорошо сделать или даже хорошо выгл€деть с общеприн€той точки зрени€. √ордый считает плохим все, что ему не по вкусу. ¬ наше врем€ развелось немало и конкретных, и абстрактных мерок; но молодые люди (и даже молодые женщины) все чаще и чаще считают меркой себ€, просто потому что не нашлось мало-мальски достойного веры эталона.
ќднако Ђ€ самї Ч очень мелка€ мера и в высшей степени случайна€. “ак возникает типична€ дл€ нашего времени мелочность, особенно свойственна€ тем, кто кичитс€ широтой взгл€дов.
—кептик думает, что он широк дл€ прежних, казалось бы, крупных мерок, и в конце концов сковывает себ€ тиранией микроскопических эталонов.
≈сли бы мне дали прочитать только одну проповедь, € без вс€кого сомнени€ не счел бы дело сделанным, если бы не убедилс€, что же, по-моему, спасает от этих зол.
я убедилс€, что в этом вопросе, как и в тыс€че других, ÷ерковь права, а все другие нет. » € уверен, что без ее свидетельства люди совсем забыли бы тайну, поражающую одновременно и здравомыслием, и тонкостью.
я, во вс€ком случае, не слышал ничего путного об активном смирении, пока не попал в лоно ÷еркви; а даже то, что € любил сильнее всего на свете Ч свободу, например, или английские стихи, Ч все больше сбиваетс€ с пути и блуждает в тумане.
Ќаверное, дл€ проповеди о гордыне нет лучшего примера, чем патриотизм.
Ёто одно из самых благородных чувств, когда патриот говорит: Ђƒостоин ли € јнглии?ї Ќо стоит ему высокомерно сказать: Ђя Ч англичанин!ї, и патриотизм обратитс€ в гнуснейшее фарисейство.
ћне кажетс€, не случайно именно в католических странах Ч ‘ранции, »рландии, ѕольше Ч флаг дл€ патриота Ч пламенный символ, много более ценный, чем он сам; в странах же, особенно чуждых католичеству, патриот восхищаетс€ своей расой, своим племенем, кровью, типом и собой как их представителем.
¬ общем, если бы мне дали прочитать только одну проповедь, € сильно рассердил бы собравшихс€ Ч ведь ÷ерковь всегда и везде бросает вызов.
≈сли бы мне дали прочитать одну проповедь, вр€д ли мен€ попросили бы прочитать вторую.
|
ћетки: культура |
| —траницы: | [1] |