
ѕевица и композитор

јнну √ерман часто спрашивали: “ќткуда вы так хорошо знаете русский €зык? ¬ы говорите почти без акцента, а поете даже более “по-русски”, чем иные из наших соотечественников”. ќбычно она отшучивалась. Ќо иногда глаза ее становились мечтательно-грустными, и она отвечала более конкретно: “ј как же может быть иначе? я родилась в —оветском —оюзе, там прошло мое детство. ћой родной €зык — русский”.

‘–ј√ћ≈Ќ“џ Ќ»√» јЋ≈ —јЌƒ–ј ∆»’ј–≈¬ј "јЌЌј √≈–ћјЌ".
ƒетство в ”ргенче.
аким образом далекие предки јнны √ерман, переселенцы из √олландии, в середине XVII очутились в –оссии? ќтправились ли они на восток в поисках счасть€ или были вынуждены оставить родные места по каким-либо другим причинам? ѕрапрадед јнны по отцовской линии, лет сорок проживший на хуторе, на юге ”краины, отправилс€ в предальний путь, в —реднюю јзию, где и поселилс€ навсегда. “ам, в маленьком городке ”ргенче, познакомились, а спуст€ несколько мес€цев поженились бухгалтер мукомольного завода ≈вгений √ерман и учительница начальной школы »рма —именс.
Ўел 1935 год. ем станет их ребенок, как сложитс€ его судьба, будет ли он здоров и счастлив? ќб этом часто шептались по ночам готов€щиес€ стать родител€ми молодожены. »х первенец — девочка — не доставл€ла родител€м особых хлопот. јнна росла спокойным ребенком, плакала редко, первое свое “ма” произнесла в восемь мес€цев, а через три недели сделала самосто€тельный шажок. —пуст€ год в семье по€вилс€ и второй ребенок — »горь, болезненный и капризный. “Ќу что ты оп€ть хнычешь? — корила малыша измученна€ мать. — Ѕрал бы пример с сестренки! ќна девочка, а видишь, кака€ умница — тиха€, послушна€”.

ќтца јн€ почти не помнила: ей было два с половиной года, когда он исчез из ее жизни навсегда. ≈вгени€ √ермана арестовали по ложному доносу в 1938 году. ¬се попытки доказать его невиновность в то врем€ оказались безуспешными. ¬ 1956 году справедливость восторжествовала: он был полностью реабилитирован и с него были сн€ты все обвинени€.
Ѕеда никогда не приходит одна. “€жело заболел »горь. ¬рачи беспомощно разводили руками... ” одинокой детской могилки на городском кладбище в ”ргенче сто€ли, прижавшись друг к другу, три скорбные фигурки — мать, бабушка и мало что понимающа€ в лавине обрушившихс€ на семью несчастий трехлетн€€ девочка.
Ќо детство остаетс€ детством. ќно ворвалось в тревожный, окрашенный печалью мир јнны €зыковым многоголосием ургенчской детворы, задорными песн€ми идущих на учени€ красноармейцев, за которыми бежали ее сверстники — босоногие, восторженные мальчишки и девчонки. ¬орвалось стремительно мчавшимс€ на коне по киноэкрану „апаевым — в бурке и с саблей наголо. ѕод треск кинопроектора и ликование мальчишек он бесстрашно громил белых по всему фронту.
...”кутанна€ в бабушкин платок, јн€ вместе с матерью едет в продуваемом всеми ветрами вагоне куда-то на —евер в надежде хоть на несколько минут увидеть отца. Ѕесконечные пересадки и ожидани€ в пути. √лоток гор€чего ча€ на перроне. ќбрывки разговоров с хлебосольными попутчиками, разделившими с ними домашнюю колбасу и пироги.
Ѕесконечные хождени€ по инстанци€м. ќтча€ние матери. » врезавшиес€ в детское сознание слова: “Ќет, нельз€”, “Ќе положено”, “Ќе значитс€”. ƒорога домой, безм€тежный сон на руках окаменевшей от гор€ »рмы, уставившейс€ в пустоту...
¬ойна. ѕереезд в ѕольшу.
…¬ойна! ќна совершенно изменила ритм жизни ”ргенча.
— запада в город шли и шли поезда с эвакуированными — из ћосквы, Ћенинграда, иева, Ћьвова. Ћюдей принимали как родных, теснились, селили в свои и так не слишком просторные квартиры и домики, делились с ними последним….
…—емилетний мальчуган в курточке с капюшоном сто€л около булочной и плакал навзрыд. “ћамо, мамо”, — всхлипыва€, повтор€л он.
—“ы что?— спросила јн€. — „его ревешь, как девчонка? ѕотер€лс€, что ли?
— Ќе розумьем, цо вы ту мувиче, — ответил мальчик. — ћама ще згубила, не розумьем по-русску.
— “ы откуда? » говоришь ты как-то не по-нашему, — снова обратилась девочка к притихшему мальчугану.
— «е Ћьвова естешмы, пол€цы мы, пол€цы, мама ще згубила**.
— ’ватит реветь, сейчас найдетс€ тво€ мама.
— янек, янек! — прозвенел вдруг женский голос, и молода€ женщина в длинном черном пальто подбежала к дет€м.
— “утай, тутай € естем!
— Ќу, видишь, вот и нашлась тво€ мама, — ласково сказала јн€, — а ты разревелс€, как девчонка. ƒо свидани€, € пошла.
— «ачекай, цуречка, — остановила јню женщина. — ѕонимаешь, мы с ѕольски, беженцы, у нас нет никого в этом городе. ћы несколько дней не спали. ћожет, у вас найдетс€ кровать? ’оть одна, дл€ мен€ с янеком, только на несколько часов.
ѕол€кам отдали крохотную комнатушку в их доме: там едва помещались кровать и маленький стол. ¬прочем, в доме были еще две небольшие комнаты: в одной на сундуке спала бабушка, в другой — јн€ с мамой. ƒлинными долгими вечерами пани ядвига рассказывала о мытарствах на дорогах войны с маленьким сыном, о варварских бомбардировках гитлеровской авиации их родной ¬аршавы, о массовых расстрелах ни в чем не повинных мирных жителей. ќ том, как им чудом удалось уцелеть и вместе с такими же обездоленными пробратьс€ в советский Ћьвов.
“ам пани ядвига нашла работу в библиотеке, и уже начала было привыкать к прерванной фашистским вторжением мирной жизни, как вдруг в июньское утро 41-го гитлеровские стерв€тники по€вились в небе над Ћьвовом. » снова начались скитани€, все дальше на восток, дальше от разрывов бомб и нескончаемой артиллерийской канонады.
ƒевочка очень жалела измученную женщину, жалела ее сынишку, который был чуть меньше јни. ≈му за его коротенькое существование на земле приходилось так много пр€татьс€ от бомб и артобстрелов, искать маму, бежать неизвестно куда в поисках хлеба и мирного пристанища.
¬ы€снилось, что в городе есть еще пол€ки. пани ядвиге “на каве” (на чашечку кофе) стали приходить двое мужчин, одетых в светло-зеленую военную форму, заметно отличавшуюс€ от экипировки советских солдат и офицеров.
— Ёто наши жолнежи*, (солдаты) — с грустной иронией объ€сн€ла пани ядвига. — ¬от довоевались, теперь в јфрику хот€т ехать — защищать ѕольшу.
јн€ вслушивалась в речь пол€ков, пыта€сь разобрать слова, вникнуть в суть споров. ¬ысокий, всегда тщательно выбритый офицер по имени √ерман иногда вдруг тер€л хладнокровие, начинал €ростно размахивать руками, в чем-то убежда€ собеседников. огда спор заходил слишком далеко, и по интонаци€м можно было догадатьс€, что он, того и гл€ди, обернетс€ крупной ссорой, пани ядвига с улыбкой и в то же врем€ властно останавливала пол€ков: “ƒосычь** (хватит) — сейчас будет кофе”.
— ѕани »рма, — обращалась она к јниной маме, — давайте потанцуем с отважными жолнежами.
ѕатефон гремел, скрипел, шуршал. » сквозь это шуршание пробивалс€ вкрадчивый женский голос. Ёто был голос польской певицы. ќна пела о легкомысленной девчонке јндзе, сердце которой пыталс€ завоевать некий ёз€ с помощью свежеиспеченных пирожков (так переводил текст песенки √ерман). ƒруга€ песн€ была о том, как важно похудеть, отвергнуть пирожные, не объедатьс€ м€сом — и ты непременно завоюешь сердце мужчины... »ли еще о каком-то жиголо, которому старый муж щедро отсчитывал купюры за несколько танцев... с собственной женой.
јн€ с янеком вертелись среди танцующих, на считанные минуты забывших о войне. ƒети отлично понимали друг друга: они изобрели свой “русско-польский” €зык и старались подпевать неунывающему патефону…
…— јн€, — как-то сказала мама, — ты уже взросла€, и € хочу с тобой посоветоватьс€. — »рма в упор взгл€нула на јню, потом смущенно опустила глаза. — “ы ведь любишь отца?
— онечно, мамочка, — ответила јн€. — ј что?
— Ќу, как тебе объ€снить? “ы должна любить его всегда, всю жизнь. ќн был очень хороший, честный, добрый человек. ќн никому не причинил зла. Ќо его больше нет и никогда не будет. “ы еще маленька€ и многого не понимаешь. Ќо € надеюсь, что когда ты вырастешь, поймешь мен€ и, если сможешь, простишь.
— ѕрощу? — удивилась јн€. — Ќо ты же мне ничего плохого не делала! я же люблю теб€, мамочка!
— ѕонимаешь, јнюта, € встретила одного человека, он полюбил мен€ и хочет, чтобы € стала его женой, а ты — его дочерью. ћать ждала слез, детских упреков. Ќо девочка улыбнулась...
— Ёто д€д€ √ерман? я все понимаю, мама.
—вадьбу сыграли через мес€ц. роме бабушки и јни за столом сидели пани ядвига с янеком, ’енрик, друг √ермана, и еще один гость, рыжий пол€к-офицер. ќн первым сказал “горько”, а потом по-польски: “√ожко, цаловать ще”. «авели патефон, танцевали. √ерман вз€л јню на руки.
— Ќу что ж, јн€ √ерман, вот ведь смешно — фамили€ тво€ √ерман, а теперь у теб€ новый отец по имени √ерман...
— ѕростите, — сразу перебила јн€, — можно, € буду называть вас д€дей? я буду любить вас, потому что вас любит мама. Ќо папа у мен€ один. ј вы — д€д€.
— онечно, можно, — став серьезным, ответил √ерман. — » поверь мне, € рад, что ты ведешь себ€ как взросла€, јнечка…
…ј однажды вечером, сид€ у самовара, √ерман сказал:
— Ќу вот, мои барышни, настала и мо€ очередь.
ѕровожали его на вокзал втроем: »рма, јн€, бабушка. ћама долго о чем-то шепталась с мужем, легонько целу€ его. ѕотом отчим высоко подн€л девочку.
— Ќу что, јнна √ерман? — веселым басом крикнул он. — Ѕудешь мен€ помнить? Ћюбить будешь? ∆дать будешь?
— Ѕуду, — шепотом ответила јн€. — ќб€зательно буду! » мама будет, и бабушка тоже.
огда поезд раста€л в туманной дымке раннего утра, они еще долго сто€ли на перроне. ќни не знали, что через ћоскву путь √ермана и многих других его соотечественников лежал под –€зань, где формировалась созданна€ на советской земле перва€ польска€ дивизи€ имени “адеуша остюшки. ¬ первом крупном сражении под Ћенине в неравном бою с гитлеровцами погиб √ерман. ѕогиб как герой, поднима€ солдат в атаку.
¬ один из летних дней 1977 года из ћинска по направлению к мемориалу под Ћенино выехала черна€ “¬олга” с единственной пассажиркой, на колен€х у которой лежали алые розы. Ёто была јнна √ерман, она ехала положить живые цветы на место гибели своего отчима и его фронтовых товарищей, отдавших свою жизнь за свободу.
Ќочью неожиданно выпал снег. ќн посеребрил желтые пески, окружавшие город. —тало непривычно холодно. Ћюди кутались в халаты и самодельные платки. ¬стретив знакомого, не останавливались, как обычно, обмен€тьс€ новост€ми. “оропились побыстрей очутитьс€ в стенах родного дома, впрочем, не всегда надежно защищавших от внезапного холода. ѕрошло почти два года с пам€тного прощани€ на городском вокзале. ј известий от √ермана не было. ѕо утрам »рма часто вскакивала с кровати, высматривала в маленькое окошко почтальона, потом долго провожала его взгл€дом...
— “ы не томись, — уговаривала бабушка, — сама знаешь, какое врем€. Ћюди тер€ютс€, не то, что письма. Ќайдетс€ твой √ерман, попомни мое слово, найдетс€.
јн€ тоже тосковала по отчиму. ¬споминала, как он играл с ней, как рассказывал сказки о маленьком короле ћатеуше — круглом сироте, добром, смелом, отзывчивом, оставившем свой удобный трон, чтобы пойти навстречу опасным приключени€м. √ерман рассказывал превосходно. Ќа его лице отражались страх, гнев, презрение. јн€ слушала с восторгом, не обраща€ внимани€ на то, что он путает польские и русские слова.
≈й казалось, что она понимает все. ј потом он пел ей по-польски песенки о добром и веселом ясе.
— ѕонимаешь, — с жаром объ€сн€л отчим, — ясь у пол€ков, как в русских сказках »ванушка, — сильный, удалой, красивый.
— ј ты тоже ясь? — улыбалась јн€.
— ѕочему? — удивл€лс€ √ерман.
— “акой же сильный, красивый, — объ€сн€ла девочка.
— ¬от одолеем √итлера — поедем вместе ко мне на родину. ’очешь в ѕольшу? Ќаучишьс€ говорить по-польски, выдадим теб€ замуж за пол€ка, род€тс€ у вас детишки. » будешь жить-поживать да добра наживать.
— ј кака€ она, ѕольша? — спрашивала с интересом јн€.
— ака€ ѕольша, говоришь? ѕрежде всего весела€, очень красива€, лесиста€. “ы же никогда не видела леса! ј лес знаешь какой? ќн волшебный, зеленый-зеленый! «еленый от трав, от листьев и деревьев. Ћетом в лесу поют птицы, стрекочут кузнечики, бегают олени. “акие высокие, сильные, с рогами.
— — рогами? — переспрашивала девочка.
— — рогами, — грозно отвечал √ерман, а потом расплывалс€ в улыбке и подмигивал.
— ƒа ты не бойс€, они добрые. ќни даже ед€т с ладони. ¬от так- ќн прот€гивал ладонь и, склонившись, дотрагивалс€ до нее губами.
— ” нас в ѕольше много озер. √олубых, как твои глазенки. — » он гладил девочку по светловолосой голове, потом замолкал и подолгу смотрел в окошко, словно видел ѕольшу с ее зелеными лесами и пол€ми, с голубыми озерами, маленьким королем ћатеушем.
«а окном была ѕольша. ““ук-тук”, — весело стучат колеса. јн€ сидит напротив мамы и бабушки. ќна загл€делась в окно. ћимо пролетают обуглившиес€ строени€, заброшенные пол€ и огороды, багр€ные рощи и перелески. ≈ще несколько мес€цев назад јн€ и не предполагала, как круто изменитс€ ее судьба. Ќе думала, что уедет из родного ”ргенча, где так дорог был ей каждый домик. √де играла она со своими сверстниками в дочки-матери, в пр€тки, в казаки-разбойники. » где совеем недавно сосед — добродушный узбек –ашид — подарил ей новенький хруст€щий школьный портфель.
…“рудно было убедить себ€, что √ерман — веселый, жизнерадостный, неунывающий √ерман — погиб. Ќа письма и запросы, которые посылала »рма, ответов не приходило.
— “ы смотри, как себ€ изводишь, — говорила бабушка. — “ак и богу душу отдать недолго. ак јнька без теб€ будет? я вон совсем плоха. ѕо ночам сердце болит. ј ты еще молода€, мало ли их, мужиков, найдешь себе!
— ƒа не говори глупостей, мама! — резко обрывала »рма. — ѕри чем здесь какие-то мужики? ¬едь это мой муж, понимаешь? ћуж!
ѕочтальон постучал в окно, когда его перестали ждать, — спуст€ два мес€ца после ƒн€ ѕобеды. Ќет, это не была похоронка, так хорошо известна€ солдаткам. Ёто было письмо. Ќо не от √ермана.
“”важаема€ »рма, — так начиналось письмо, — считаю долгом солдата и фронтового товарища ¬ашего мужа сообщить о случившемс€. ¬аш муж из сражени€ под Ћенино в окт€бре 1943 года в часть не вернулс€. —реди убитых его тело не было обнаружено. я очень любил ¬ашего мужа и за короткое врем€ к нему сильно прив€залс€. ќн мне много рассказывал о ¬ас и ¬ашей дочери. ќн говорил мне также, что после войны ¬ы собираетесь переехать жить в ѕольшу, в ¬аршаву. ћогу себе представить, в каком состо€нии духа ¬ы находитесь! “ут слова утешени€ бессмысленны. ≈сли ¬ы собираетесь отправитьс€ на родину мужа, знайте, что всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку”. ѕодпись: Ћюдвик овальский, поручик, раков, далее следовал адрес. » добавление: “ћне почему-то веритс€, что √ерман жив и что мы погул€ем еще у вас на крестинах”.
ѕозже »рма мучительно вспоминала, что же окончательно повли€ло на ее решение отправитьс€ на родину мужа, в далекую, чужую дл€ нее ѕольшу. Ќаверное, письмо овальского. ƒо него, говор€ откровенно, она и не помышл€ла об этом. ј тут засуетилась, заспешила, и откуда только силы вз€лись. “«а соломинку ведь хватаюсь! — думала она. — ј если он все-таки погиб: если не вернетс€, что € буду делать со старой матерью и ребенком на руках в ѕольше? ¬ чужой стране, без знани€ €зыка, без жиль€, без работы?”
» все-таки поехала, руководству€сь скорее чувством, чем рассудком.
Ќесколько мес€цев длилось оформление документов, прежде чем »рме с семьей — жене и ближайшим родственникам гражданина ѕольской Ќародной –еспублики — было разрешено выехать на посто€нное место жительства мужа. ј как јн€? ќна плохо представл€ла себе, сколь трудное и ответственное решение прин€ла ее мама. ¬есело бегала по дворам, прощалась со знакомыми мальчишками и девчонками, обещала скоро приехать с подарками “из-за границы”. » об€зательно рассказать, какие они — польские зеленые леса, голубые озера и олени, не бо€щиес€ есть пр€мо из рук человека.
јн€ не бывала раньше в больших городах (когда-то совсем маленькой ее возили в “ашкент). ћоскву проехали поздно ночью: город спал, слабо виднелись редкие огни. ¬аршава в ее жизни стала первым большим городом.
ƒевочке в ту пору шел дес€тый год. ќ войне, о злоде€ни€х фашистов, о разрушенных городах и сожженных селах она знала из рассказов фронтовиков, газет и кинохроники, которую показывали в единственном ургенчском кинотеатре. “о, что она увидела своими глазами, потр€сло ее: огромный город лежал в руинах. Ќа привокзальной площади к ним подошел небритый человек в надвинутой на лоб зимней шапке: “÷о, панюси, маче вудки, келбасы и масла? Moгe вас запроваджич до ноцлега”.
“„то, женщины, есть у вас водка, колбаса и масло? ћогу вас проводить на ночлег” (польск.).
Ќи водки, ни тем более колбасы и масла у них не оказалось, и спекул€нт отправилс€ искать более выгодных клиентов.
Ќочевали на вокзале. ѕод утро мать встала в длинную очередь к военному коменданту. ƒолго говорила с ним, показыва€ документы: “–азыскиваем мужа, пропавшего без вести во врем€ войны. јдрес мужа — улица ƒлуга, 7”. омендант кому-то звонил, потом что-то быстро говорил по-польски, сокрушенно качал головой.
— ¬от что, пани, — сказал он наконец, — о судьбе вашего мужа пока ничего не могу сказать, мы наведем справки. Ёто, не скрою, может продлитьс€ долго, даже несколько мес€цев. ” вас есть родственники или знакомые в ¬аршаве? ¬прочем, это не имеет значени€. —ами видите, как у нас с жильем: одни руины. ј у вас на руках стара€ женщина и ребенок. ≈сть только один выход: € вам дам направление, как жене фронтовика и с первым же эшелоном отправл€йтесь на запад, во ¬роцлав. “ам вы получите жилье, еду, работу.
—нова ночь на вокзале. Ќа колен€х матери тихо посапывает јн€, р€дом, накрывшись телогрейкой, спит бабушка. Ќевеселые думы у »рмы: что будет дальше, как встретит их ¬роцлав, правильно ли она поступила, оставив родные места в надежде отыскать на этой обугленной земле дорогого человека?
¬о ¬роцлав огромными массами стекались переселенцы из восточных районов ѕольши — люди, лишенные родного очага, крыши над головой. Ќадежда в скором времени получить хот€ бы маленькую комнатушку та€ла как снег. Ќочевали на вокзале, в рабочем общежитии, у сердобольных людей.
—лучайна€ знакома€, хорошо владевша€ русским, дала совет: “–уки у теб€ молодые, крепкие, иди-ка работать в прачечную. “ам общежитие есть. » ребенка в школу пристроишь, и старухе угол будет. ј бог даст, и муж найдетс€. ¬се уладитс€”.
–абота в прачечной оказалась т€желой — вставать приходилось рано, в четыре утра, и не разгиба€ спины в небольшом душном помещении стирать и полоскать в основном солдатское белье по двенадцать часов кр€ду.
јн€ уже привыкла к мытарствам, к бесконечным переездам с одного места на другое. полуголодным дн€м и взрослым разговорам о хлебе насущном. ≈й стало казатьс€, что у них никогда и не было дома, не было школы, куда она ходила вместе со сверстниками в ”ргенче. ќна быстро освоила польский. Ћовила, как говоритс€, на лету и спуст€ три недели после переезда границы заговорила по-польски быстро и безошибочно, словно это был ее родной €зык. ѕравда, изредка вставл€ла русские слова. ќднажды мама весело объ€вила:
— Ќу, јнюта, с завтрашнего дн€ ты будешь жить, как все дети. —обирайс€, пойдешь в школу! јн€ подн€ла на нее удивленные глаза.
— ¬ школу? Ќеужели, правда?
¬ ”ргенче она ходила в школу вместе с мамой, котора€ преподавала литературу в старших классах. учительнице относились с уважением, и в душе јн€ всегда чувствовала себ€ ответственной не только за себ€, но и за маму. Ќа лице дочери »рма прочла немой вопрос: “ј как же ты, когда ты пойдешь в школу?”
— ¬от подожди, доченька, — продолжала »рма, — разделаюсь с прачечной, осмотрюсь немного, и тогда пойдем в школу вместе, как в прежние добрые времена.
“ретьеклассники встретили новенькую приветливо.
— “ы сконд? (“ы откуда? (польск.).)— спросил ее веснушчатый рыжий паренек в накрахмаленной белой рубашке и в смешных коротких штанишках с помочами, потом сам гордо добавил: — я зе Ћьвова естем.
— я з ”ргенча.
— ј то где? — заинтересовалс€ мальчик.
— Ѕардзо далеко, — засме€лась јн€, — отсюда не видать.
¬ошла учительница, молода€ женщина с добрым лицом.
— ¬ашу новую подружку зовут јней, фамили€ ее √ерман. ќна всего несколько недель как приехала во ¬роцлав вместе с мамой и бабушкой, а вы здесь старожилы, уже по нескольку мес€цев живете, так что помогайте јне.
ƒни бежали за дн€ми. Ќа первых порах јне приходилось трудно. ќдно дело — разговорный €зык, другое — грамматика. ƒевочка была усидчива и прилежна. —таралась обходитьс€ без помощи взрослых. » в ”ргенче она редко просила маму помочь. ¬о ¬роцлаве же »рма вр€д ли могла бы это сделать. ≈е польский €зык заметно хромал. Ќе раз »рма пыталась устроитьс€ в школу преподавателем начальных классов. » вс€кий раз директора школ, улыба€сь, объ€сн€ли: “¬ам необходимо подождать, обжитьс€, освоитьс€. „итайте нашу классику. ƒети должны видеть в своем наставнике образец владени€ родным €зыком”.
»звестий о судьбе √ермана по-прежнему не было. »рма писала в √лавное политическое управление ¬ойска ѕольского, министру обороны... ќтветы приходили быстро, но ничего утешительного в них не содержалось: “ѕока точными сведени€ми о ¬ашем муже не располагаем”. Ќесколько раз »рма ездила в ¬аршаву, пыта€сь св€затьс€ с родственниками √ермана, но и их найти не удалось.
…Ћюбила ли јн€ музыку?! Ўестилетнюю, мама вз€ла ее на концерт известного пианиста, приехавшего на гастроли в ”ргенч. ¬ отличие от других малышей, которые после первых минут ошеломленного осваивани€ теребили родителей, начинали болтать, зевать, а немного погод€ и хныкать, јн€ весь концерт просидела как завороженна€. ќна не отрыва€сь смотрела на пианиста, сильные руки которого неистово удар€ли по клавишам, наполн€€ пространство зала то щем€щими сердце жалобными мелоди€ми, то светлыми нежными переливами, то радостными торжественными аккордами.
ѕервые музыкальные впечатлени€.
ѕосле концерта девочка начала буквально приставать к маме, чтобы та купила ей пианино. јн€ редко что просила у мамы, и к этой неожиданной просьбе дочки »рма отнеслась со всей серьезностью. јню отвели к знакомой учительнице музыки. “а, прослушав девочку, улыбнулась: “” нее абсолютный слух, ей надо заниматьс€, может выйти толк”. ќ покупке пианино не могло быть и речи. ƒенег и так едва хватало. јн€ ходила разучивать нотную грамоту к той же знакомой учительнице, занималась старательно и самозабвенно. Ќо тут началась война, и про музыку забыли…
…ќднажды, когда јн€ училась в п€том классе, мама вз€ла ее и янечку на новогоднюю елку дл€ малышей. »х встретил веселый ћиколай — польский ƒед ћороз (эту роль исполн€л артист ¬роцлавской эстрады) — и, как бы оправдыва€сь, сказал, что —негурочка заболела и теперь он в полной растер€нности: привык выступать только в дуэте.
— ¬ы же взрослый человек! ƒа к тому же артист, — пристыдила его мама, — нельз€ так разочаровывать малышей. ѕридумайте что-нибудь! ¬от мо€ дочурка јн€, ну чем вам не —негурочка?
ƒевочка почувствовала, как ее лицо заливает краска, а мама ласково спросила:
— “ы споешь дл€ малышей, јнечка?
— онечно, спою!
— ј ты, янечка?
— » € спою, — не задумыва€сь, ответила подружка.
”тренник дл€ реб€т получилс€. ћиколай рассказывал сказки, загадывал загадки, а потом дарил подарки. ћалыши, вз€вшись за руки, водили хоровод. ј в самом центре зала сто€ла јн€ √ерман и звонким, прозрачным, светлым голосом пела знакомые всем песенки про Ќовый год — про зайчат, нар€дивших в лесу елку, про пана “вардовского, геро€ польских народных сказок и былин, отправившегос€ на Ћуну.
ќна пела чисто, спокойно, без лишних эмоций. “ак поют взрослые. янечка, котора€ поначалу подпевала ей, изо всех сил стара€сь ее перекричать, вдруг замолкла: не то слова забыла, а может, не выдержала конкуренции.
јн€ пела и пела. огда она замолкла, малыши зааплодировали, начали стучать ножками и дружно требовать: “≈жче, ежче, хцемы ежче песенек!” јн€ готова была петь еще и еще, глаза девочки радостно блестели, она чувствовала себ€ счастливой, как никогда. ќна была от души благодарна заболевшей —негурочке. ¬едь сегодн€ она стала ну, может, и не героиней утренника, но человеком, который подарил малышам столько радости и весель€. ј в ушах шум и крики: “≈жче, ежче...”
» вдруг совершенно неожиданно дл€ себ€ јн€ запела, казалось, давно забытую, стершуюс€ в пам€ти русскую песенку “¬ лесу родилась елочка”. Ќаступила мертва€ тишина. –еб€тишки пытались уловить смысл песни на незнакомом дл€ них €зыке. јн€ старалась как можно четче и €снее выговаривать слова, ј когда пон€ла, что ее все-таки не понимают, жестами попыталась донести содержание несложной песенки. –еб€та захлопали и еще отча€ннее потребовали “биса”. ѕро ћикола€, который докуривал сигарету у приоткрытого окна, все забыли.
“еперь, в каморке пана ёрека, девочка влюбленно смотрела на оживающие под тонкими пальцами ресторанного пианиста клавиши. »ногда он усаживал јню р€дом на табуретку и веселыми глазами следил за тем, как она стараетс€ одним пальцем подобрать мелодию.
— ј ты молодчина! — хвалил пан ёрек. — —лух у теб€ отличный... ¬от выгоним Ћюцинку на пенсию, будешь у нас в “Ѕристоле” звездой!
ем быть? Ётот вопрос јн€ впервые задала себе в восьмом классе и с ужасом обнаружила, что однозначно ответить на него не может. ѕо всем предметам она училась одинаково хорошо. ”чител€ ее хвалили, ставили в пример другим. Ќа родительских собрани€х пани ¬анда, отчитыва€ родителей неуспевающих, повтор€ла:
— ¬от јн€ √ерман. ¬ таких трудных услови€х живет: ют€тс€ в восьмиметровой комнате, стола негде поставить, — а всегда подт€нута, собранна, готова ответить на любой вопрос...
ƒолгий путь к призванию.
¬се маленькие дети поют. ѕоют песни, услышанные в кино, по радио, теперь и по телевидению, на концертах, в школе и на улицах, от родителей и друзей по детскому саду. ѕоют дети, которые в будущем станут учеными, конструкторами ракет, врачами, рабочими. ѕоют и дети, которые потом станут профессиональными певцами и артистами. »х биографы начнут старательно отыскивать, когда же объект их исследовани€ впервые запел.
ќтыскать такую дату в биографии јнны √ерман оказалось делом непростым. —ама она говорила мне, что почувствовала т€гу, точнее, необходимость петь лишь на последнем курсе геологического факультета ¬роцлавского университета. ћама же и бабушка утверждали, что она пела с детских лет. Ќо этому не придавали особого значени€: обычна€ девочка, вполне р€довой ребенок, поет, как все малыши. ј абсолютный слух, о котором говорила учительница музыки в ”ргенче? ј чистота и оба€ние ее голоса, покорившие вр€д ли разбиравшихс€ в музыке малышей? √овор€ откровенно, в семье, посто€нно испытывавшей нужду, которой в силу тех или иных причин пришлось скитатьс€, думать о том, как бы прожить, заработать на жизнь, почти не обращали внимани€ на безусловное дарование девочки, шедшей к призванию длинными окольными пут€ми.

Ќе стоит, да и бессмысленно сетовать на судьбу, собира€сь произнести столь хорошо известные, но, увы, малозначащие слова: “јх, если бы!..” —удьбу јнны √ерман, ее €ркое дарование, ее подвиг в искусстве и жизни невозможно рассматривать вне времени и обсто€тельств, в которых она жила…
…ѕервый человек, абсолютно убежденный в том, что јнна должна стать именно профессиональной певицей, — ее школьна€ подруга янечка ¬ильк. Ёто была бойка€ рыженька€ девчушка с озорными мальчишескими глазами, неугомонна€ болтунь€ и непременна€ участница всех реб€чьих игр, а позже неизменное “доверенное лицо” ее увлечений и тайных свиданий…
…Ќе будь ее, геологи€, возможно, и получила бы талантливого инженера, а искусство так и не узнало бы выдающейс€ певицы. ѕорой задумываешьс€ о жизненном пути многих замечательных людей, прославивших себ€ великими открыти€ми в разных област€х науки и техники или раздвинувших перед нами границы прекрасного. ѕочти всегда около них бывали в жизни такие вот “незаметные” спутники, люди, понимающие, что перед ними большой, замечательный талант и что необходимо помочь этому таланту обнаружить себ€, не затер€тьс€ в суете и безразличии серых будней. «а свое подвижничество они не ждут наград и делают то, что подсказывает им сердце. –едко встречаютс€ такие люди. Ќо велика, незаменима их роль.
Ќикто ведь не заставл€л янечку стучатьс€ в двери дирекции ¬роцлавской эстрады и требовать, просить, умол€ть, чтобы непременно прослушали ее давнюю подругу јню √ерман, котора€ “поет, как “ебальди”. ј потом, буквально замучив всех своей настырностью, т€нуть за руку на прослушивание подругу, котора€ при этом упиралась изо всех сил, упрека€ янечку во всех смертных грехах — в бессердечии, невежестве, даже жестокости!
јн€ сто€ла перед комиссией, во главе которой сидел, откинувшись в кресле, вроцлавский актер ян —компский, все врем€ поглаживавший выбритые до синевы щеки и смотревший куда-то вдаль... јн€ не верила в успех этой затеи. ќна просто подчинилась воле подруги. ћожет быть, потому и пела легко, не смуща€сь отсутствием аккомпанемента, свободно и широко. ѕосле народной песни спела модную тогда “Ќе дл€ мен€ поток автомобилей”, лирическую партизанскую “–асшумелись плакучие ивы”, потом, по желанию комиссии, новейший шл€гер...
— Ќу, довольна? — улыба€сь, спросила она янечку, когда они вышли в коридор ждать результатов.
— я тебе подчинилась. “еперь в ознаменование полнейшего провала ты пригласишь мен€ в кафе на клубничное мороженое.
ћинут через п€тнадцать вышел —компский. —начала он посмотрел на янечку и улыбнулс€ ей, а затем перевел взгл€д на јню.
— ¬аша подруга — просто молодец. —начала мы, правда, подумали, что она малость не в себе. ј с сегодн€шнего дн€ она дл€ нас самый высокий авторитет, — ѕотом, сменив тон с шутливого на торжественный, он произнес: — јнна √ерман, мы зачисл€ем вас в посто€нный штат ¬роцлавской эстрады. ¬ы будете получать как бесставочница сто злотых за концерт. ј концертов в мес€ц будет примерно сорок. «начит, четыре тыс€чи злотых в мес€ц. ≈здить будем много, репетировать — тоже, так что не ждите сладкой жизни.
—начала она так растер€лась, что не могла вымолвить ни слова. ƒеловитость эта совершенно потр€сла ее. “«ачисл€ем в посто€нный штат... —то злотых... „етыре тыс€чи злотых... »нтересно, что теперь скажут мама и бабушка? ќни-то уж, наверное, обрадуютс€: не то что тыс€ча восемьсот злотых начинающему инженеру! Ќу а € сама?.. Ќе девочка уже, сво€ голова на плечах, это ведь мне жить и работать...”. » вдруг она совершенно отчетливо осознала, что случилось то, о чем она втайне мечтала.

Ќе верилось, казалось фантастикой на€ву. Ќо ведь сбылось! ¬се прежнее — выступлени€ на студенческом вечере, “ аламбур” — представилось теперь не просто увлечением, а прелюдией, подготовкой к главному делу жизни. пению.
ƒеньги... ѕри чем здесь деньги? ƒа если бы —компский предложил выступать бесплатно, она бы и на это согласилась... Ћишь бы петь!
ƒома она рассказала о случившемс€, будто речь шла о чем-то будничном, вовсе и не требующем обсуждени€.
— “ак что же, диплом ты вообще защищать небудешь? — не очень-то разобравшись в происшедшем, изумилась мать.
— Ќет, почему? Ѕуду! — ответила јн€ и добавила неуверенно: — ћожет, когда-нибудь € все-таки стану геологом...
јвтокатастрофа. ѕодвиг возвращени€ к жизни. „асть 1.
…«ато предложение малоизвестной италь€нской фирмы грамзаписи “ омпани€ ƒискографика »таль€на” (÷ƒ») подписать с ней контракт она прин€ла без колебаний…
…ѕервый концерт состо€лс€ в роскошном миланском ƒоме прессы, и, хот€ репетиций практически не было, јнна, истосковавшись, пела с таким настроением и подъемом, что видавша€ виды публика не смогла скрыть своего восторга. »таль€нцы изо всех сил били в ладоши, кричали “браво”, неистово топали ногами, требу€, чтобы јнна пела еще и еще…
… ак когда-то она ездила из ¬роцлава в ¬аршаву, так теперь летала из ¬аршавы в ћилан, но уже как признанна€ европейска€ звезда. ≈е узнавали в ¬аршаве и в ћилане, узнавали в самолете туристы из ‘–√ и деловые люди из „икаго. ней подходили в салонах самолетов, просили автографы, говорили хорошие слова, желали удачи. –адовала ли попул€рность јнну? ≈стественно! »зменилась ли она по сравнению с той јнной, которую когда-то школьна€ подруга насильно притащила на прослушивание во ¬роцлавскую эстраду? ѕожалуй, нисколько…
…¬о ¬роцлаве домашние обратили внимание на ее худобу, на болезненный рум€нец.
— Ѕезобразие, — ворчала бабушка, — никакой жалости к человеку. ¬ы только посмотрите, как девчонку заездили!
јнна улыбалась. » думала о том, что в ее словах есть дол€ правды. ¬едь чем больший успех сопутствовал ей в »талии, а следовательно, чем более солидными становились доходы фирмы “ омпани€ ƒискографика »таль€на”, тем больше дел по€вл€лось у ѕьетро арриаджи, –ануччо Ѕастони и –енато —ерио, совмещавшего в себе деловитость администратора и талант аранжировщика.

–енато колесил на красном “фиате” по дорогам »талии, мчалс€ из ћилана в –им, из –има в “урин, из “урина во ‘лоренцию. ¬стречалс€ с деловыми людьми — известными импресарио, владельцами концертных залов, менеджерами радио и телевидени€. » всюду надо было успеть, воврем€ договоритьс€, организовать. ≈го усталое лицо оживл€лось только тогда, когда он говорил о деньгах.
— ќ, јн€, — твердил он, верт€ баранку, — ты наше сокровище! “ы даже не понимаешь, какое ты сокровище, как долго мы теб€ ждали! ≈сли так пойдет дальше, гл€дишь, через год € куплю себе дом на побережье. » — что уж совсем неверо€тно — женюсь по любви!.. — ќн приглашал јнну в кафе, умудр€€сь исчезнуть до того, как надо было платить по счету. ѕотом униженно извин€лс€, оправдыва€сь отсутствием мелочи: — ¬от размен€ю крупную купюру и верну...

ќбещание оставалось обещанием. јнна не сердилась, а по своему обыкновению усмехалась про себ€. –енато был скуп от природы. онечно, это свойство имело свои “социальные корни”, но с ним ничего нельз€ было поделать. ѕри переезде из города в город, с концерта на концерт он выбирал длинные окольные пути, плохие каменистые деревенские дороги: за проезд по удобной автостраде надо было платить, а страшнее этого испытани€ дл€ него ничего не существовало. ќн готов был пренебречь самой обычной логикой: машина уродовалась на плохих дорогах, они тер€ли уйму времени (а врем€ — деньги) и однажды чуть не сорвались в пропасть…
…јнна уже прин€ла ванну и собиралась лечь, как неожиданно в дверь постучались. Ќа пороге сто€л –енато. ќн был бледен, от него пахло конь€ком, но в глазах горели веселые огоньки.
— ѕривет, наше сокровище! — заорал он. — “ы что это, спать собралась?! ј ну-ка вставай! “еб€ ждет шикарна€ гостиница в ћилане. “ам оплачен номер. ќплачен, а здесь надо платить! —ама понимаешь, наша фирма пока не така€ богата€, чтобы платить за два номера сразу.
„ерез двадцать минут они уже сидели в машине и мчались по тихим улицам сп€щего городка.
— —кажу тебе честно, — прибавл€€ скорость, рассказывал –енато, — € уже два дн€ не спал. «адала ты нам работу! ”тром вернулс€ из Ўвейцарии — подписан контракт, о-л€-л€, закачаешьс€! ќбскакал весь ћилан и — сюда, за тобой. ¬сюду надо успеть. „то ни говори, а главное в жизни — деньги! ”ж €-то знаю, что это такое, когда их нет, — он замолчал и через несколько минут, когда они выехали на шоссе, вновь обратилс€ к јнне, подавл€€ зевоту: — ƒавай не будем плестись по деревн€м, поедем по автостраде — ночью налоги не берут...
Ёх, –енато, –енато. ќн совсем потер€л голову от неожиданно свалившегос€ на них успеха (который выражалс€ конкретными денежными цифрами). ќн нежно погл€дывал на сид€щую р€дом с ним пассажирку. —овсем как почтенный отец семейства смотрит на только что приобретенную дорогую вещь, на которую копил по лире много лет. –енато не заметил, как скорость на спидометре перескочила на цифру 100, потом начала ползти вверх к цифрам 120, 130, 140, 150, 160... ќн видел впереди далекие огни ћилана и мечтал о м€гкой теплой постели. –енато не сразу осознал, что тер€ет управление, что руль уже не слушаетс€ его, что машина с жутким свистом куда-то летит и страшный т€желый удар настигает его...
»х нашли под утро. ¬одитель грузовика остановилс€ около разбитого “фиата”, в котором без сознани€ лежал –енато. ј метрах в двадцати от “фиата” лежала окровавленна€ молода€ женщина, как спуст€ двадцать минут установила дорожна€ полици€, — польска€ артистка јнна √ерман.
ќна попробовала пошевельнутьс€ и почувствовала невыносимую боль во всем теле, словно кто-то беспощадно вбивал в нее острые гвозди. ќна застонала и чуть приоткрыла глаза: неровный свет ускользал, выхватыва€ фигуры кричащих людей...
“√де €?” — пронеслось в мысл€х. ѕопыталась сосредоточитьс€, восстановить в пам€ти картину происшедшего. онцерт, –енато, автомобиль, дорога в ћилан... и пустота, будто оборвалась кинолента... то-то склонилс€ над ней. ќна услышала, как сказали по-русски со слезами облегчени€: “—лава богу, жива!”
…ќна снова открывает глаза. “еперь в палате светло. ѕо стенам резво скачут солнечные зайчики. Ќа стуле перед кроватью, ссутулившись, сидит мать. ∆елтое, утомленное, состарившеес€ лицо.
— √осподи, слава богу, жива... — словно молитс€ »рма, и јнна видит, что слезы текут по ее щекам, что она еле сдерживаетс€, чтобы не зарыдать в голос.
јнна хочет сказать что-то успокаивающее, доброе, но €зык не слушаетс€ ее, горло издает какие-то бурл€щие звуки, улыбки тоже не получаетс€. “олько теперь к жестокой боли во всем теле добавл€етс€ и т€жела€ боль в висках. “Ќаверное, € умираю, — отрешенно думает јнна. — Ќаверное, с такими страдани€ми и приходит смерть. —корее бы. Ёто же невозможно терпеть... ” —ознание снова уходит. ќна будто проваливаетс€ в огромную черную бездонную пропасть.
“”спокойтесь, кризис уже миновал. — јнна €сно различает голос «бышека. («бигнев “ухольский – жених, впоследствии муж јнны √ерман) — “еперь все будет хорошо”.
јнна видит его лицо — осунувшеес€, усталое, их взгл€ды встречаютс€, и она еле слышно, с трудом выговаривает слова:
— ак € рада, что вы здесь, со мной. ћать со «бышеком прилетели в ћилан на третий день после катастрофы. Ќикто из сотрудников в ћинистерстве культуры и “ѕагарте” не пыталс€ успокоить пани »рму.
— ѕо имеющимс€ данным, — сказал ей директор “ѕагарта”. — состо€ние крайне т€желое. Ќаберитесь мужества. Ѕудьте готовы к худшему. — ƒиректор сн€л очки, протер носовым платком стекла и тихо добавил: — Ёто большое несчастье дл€ всего нашего искусства. — ѕотом сказал еще: — Ќасколько мне известно, пани јнна не замужем, но у нее есть жених. ќн может вместе с вами сейчас отправитьс€ в »талию.
¬ ћилане их встретил сотрудник ѕольского посольства, они завезли чемоданы в гостиницу и сразу же направились в госпиталь. Ћечащим врачом был молодой человек с редко встречающимс€ здесь веснушчатым лицом и €сными голубыми глазами.
— Ќичего определенного сказать не могу, — говорил он. (—отрудник посольства почти синхронно переводил с италь€нского.) — “равмы очень т€желые — сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки, сотр€сение мозга, опасные ушибы других органов. ¬с€ надежда на сердце и на молодой организм.
ѕотом »рма говорила, что до конца дней своих не забудет эти двенадцать бессонных ночей: она сидела у кровати почти бездыханной дочери в переполненной палате, куда доставл€лись жертвы особенно т€желых автомобильных катастроф. Ћюди бредили, стонали, кричали, плакали... »ногда стоны и крики прекращались, санитары накрывали тело белой простыней, перекладывали труп на каталку и увозили вниз. ј на “освободившуюс€” койку укладывали новую жертву безумной спешки второй половины XX века. —колько раз за эти двенадцать суток больно сжималось сердце пани »рмы, когда дочь начинала т€жело дышать и стонать, а в щел€х между веками виден был остановившийс€ взгл€д.
— «бышек, ну сделай же что-нибудь, спаси јнюту! — с мольбой бросалась она к понуро сид€щему жениху дочери.
» «бышек бежал за врачом. ¬рач вызывал медсестру, та делала укол, и они сразу же исчезали...
—ознание вернулось на двенадцатый день. Ѕыли отменены искусственное дыхание и питание. ƒоктор через переводчика сообщил им:
— ќчевидно, за жизнь опасатьс€ больше нечего. Ќо все только начинаетс€... — ќн запнулс€, потом спросил «бышека в лоб: — ” вас есть деньги? Ѕольшие деньги? ¬ы богаты? ¬ыздоровление будет очень длительным. Ћечение обойдетс€ дорого!
“еперь јнну перевезли в ќртопедический институт — один из наиболее известных и уважаемых в »талии, где, по убеждению многих, доктора твор€т чудеса и где способны, как сквозь слезы сказала дочери пани »рма, “починить сломанную куклу”.
ћама... —амый близкий в жизни человек, давший жизнь своему ребенку. —огревший в т€желую минуту, защитивший, поставивший на ноги. ¬сегда ли и во всем была права мама? » можно ли горькие ошибки, совершенные ею, рассматривать в отрыве от ее т€желой судьбы? —ейчас, когда јнне казалось, что вот-вот силы остав€т ее, она была благодарна судьбе, что у ее постели — мать. Ќесколько лет спуст€, вспомина€ эти трагические дни, јнна напишет: “ƒл€ мен€ присутствие матери стало спасением, благословением, когда пришел самый трудный час”. ƒа, самый трудный час дл€ самой јнны наступил потом, когда вернулось сознание, когда вопрос о жизни и смерти был окончательно решен в пользу жизни...

ѕосле катастрофы јнна √ерман провела больше года в больницах. ћама пани »рма все врем€ была р€дом...
…ѕредсто€ла т€жела€ операци€, св€занна€ с восстановлением нормальной де€тельности изломанного и искалеченного человеческого тела. ¬прочем, можно ли заново “собрать” человеческий организм, в котором все взаимосв€зано, в котором нет мелочей и в котором повреждение какой-нибудь невидимой глазом “детали” могло привести к гибели целого. јнна, разумеетс€, не думала об этом. ќна научилась подавл€ть в себе боль, во вс€ком случае, не показывать близким своих страданий. ”лыбатьс€, когда судорога коверкала мускулы, терзала нервы. Ѕолтать о пуст€ках, когда больше всего хотелось кричать от неотступной режущей боли...
ќна очнулась после операции и сразу же почувствовала себ€ так, будто очутилась в каменном мешке. ¬се тело облегал гипс — холодный, липкий, еще не успевший застыть, как бы гроз€щий стать вечной броней. √ипсовый панцирь начиналс€ у самых стоп, как длинное вечернее платье, облегал все тело и кончалс€ у самого подбородка, так что даже легкий поворот головы причин€л мучени€.
¬первые в жизни она так горько и безутешно плакала. ќна умол€ла врачей и санитаров сн€ть гипс, избавить ее от этих новых страданий. Ћучше остатьс€ калекой, лучше смерть, наконец, чем эта каменна€ скованность, котора€, казалось, — навсегда. Ќо врачи призывали ее к благоразумию: иного пути к исцелению нет, а этот, хоть и не дает стопроцентной гарантии, все же самый надежный.
ћежду тем владелец фирмы грамзаписи “ омпани€ ƒискографика »таль€на” ѕьетро арриаджи, дела которого заметно улучшились в св€зи с блистательными выступлени€ми в »талии “потр€сающей польки”, впал в уныние. ќн на чем свет стоит ругал идиота –енато, которому имел несчастье доверить единственную реальную надежду фирмы за все врем€ ее существовани€. –енато отделалс€ лЄгкими ушибами и теперь смотрел на хоз€ина виноватыми преданными глазами.
— Ќе переживайте, шеф. онечно, нет слов, жалко. Ќо у мен€ есть координаты еще двух полек, которые, как мне сказал один человек (а ему можно довер€ть), куда лучше, чем бедн€жка јнна.
— ороче, — успокоившись, подбил итоги ѕьетро, — нет у нас больше денег на ее лечение. „ерез мес€ц мы просто вылетим в трубу. Ќеобходимо очень деликатно, повтор€ю, деликатно организовать ее отправку в ѕольшу. ƒействительно, не повезло... “ака€ певица, така€ женщина. ≈е, по-видимому, ждет неподвижность. — ќн горестно помолчал, потом набросилс€ на –енато: — —кажи, положа руку на сердце, неужели теб€ не мучает совесть?
“от только захлопал глазами. Ќе дождавшись ответа, ѕьетро переспросил:
— “ак что там про этих полек? »ли оп€ть врешь?
— ¬ру, — чистосердечно призналс€ –енато и уставилс€ на шефа робкими, преданными, собачьими глазами.
“о, что глава фирмы считал “деликатной”, но абсолютно необходимой коммерческой операцией, изломанной и исстрадавшейс€, закованной в гипс јнне казалось несбыточным счастьем, заветной мечтой. ќна св€зывала с возвращением на родину надежду на исцеление. онечно же, в ѕольше все пойдет быстрее, лечение будет более эффективным. ћожет, какой-нибудь польский врач найдет более действенное средство дл€ выздоровлени€? «десь же, в »талии, профессор ƒзанолли советовал не спешить, поскольку каждое передвижение, тем более такое дальнее — самолетом, грозит опасными последстви€ми.
— ости только-только начинают срастатьс€, и здесь покой — наш главный союзник.
— —иньор профессор, — робко вступала »рма, — у нас кончаютс€ деньги. ћы и так израсходовали почти все, что мо€ дочь заработала...

ѕрофессор ƒзанолли лично провожал јнну на аэродром. ≈е положили в оборудованную по последнему слову медицинской техники машину “скорой помощи”. —ильные, рослые санитары бережно внесли носилки в самолет польских авиалиний “Ћќ“”, —ледом шли »рма, «бышек и доктор „аруш ∆адовольский, специально командированный “ѕагартом” на врем€ перелета.
»так, прощай, »тали€, — страна, подаривша€ так много прекрасных, незабываемых мгновений творчества и отн€вша€ взамен не только здоровье, но и саму возможность это творчество продолжать. “еперь, когда страдани€ немного отступили, јнна меньше всего думала о себе — она жалела постаревшую мать, на долю которой выпало столько испытаний, жалела «бышека, вконец измотанного и измученного, обреченного выхаживать беспомощную невесту.
“¬от вернемс€ домой — поблагодарю его за все: и за доброе сердце, и за пор€дочность, — думала јнна в полете, — и скажу, что он свободен. я и так доставила ему столько хлопот”…
…≈е привезли на государственную дачу с большим количеством комнат и всевозможными удобствами, с отлично вымуштрованным обслуживающим персоналом. Ќо комната ей нужна была лишь одна, та, где она бы могла лежать и где могла бы находитьс€ »рма. ¬ первую ночь на польской земле јнна никак не могла заснуть. ѕо крыше стучал дождь и раскачивались под ветром деревь€. јнна прислушивалась к шуму дожд€ и свисту ветра. Ѕудь она здорова, закуталась бы в теплое оде€ло — подальше от непогоды. ј теперь нестерпимо захотелось туда — под холодный дождь, навстречу леден€щему ветру!..
…ƒве недели спуст€ јнну перевезли в столичную ортопедическую клинику ћедицинской академии. ѕрофессор √арлицкий, крупнейший специалист в этой области, после тщательного осмотра и многочисленных рентгеновских снимков на вопрос јнны: “ћожно ли в скором времени избавитьс€ от италь€нского гипса?” — ответил коротко:
— ћы постараемс€ в некотором смысле облегчить ваше положение. ѕостараемс€. Ќо не торопите нас, и сами не спешите. —ейчас главное — врем€ и терпение.
√овор€т, что человек приспосабливаетс€ ко всему. ¬ какой-то степени эти слова справедливы и по отношению к јнне. ќна “приспособилась” к гипсовому панцирю, научилась стойко переносить все страдани€, св€занные с положением “узницы медицины”, осознала, что другого выхода нет и что, пожалуй, наступил момент, когда надо отвлечьс€ от своей болезни, перенестись мысленно в мир искусства, в котором она жила и в котором была счастлива.
ћногое теперь казалось ей второстепенным, трудности актерской жизни представл€лись чуть ли не раем, а былые внутренние терзани€ — нелепыми переживани€ми. јх, если бы судьба оказалась столь благосклонной! ≈сли бы снова можно было бы окунутьс€ в этот пестрый и удивительный мир! ”ехать бы, пусть даже и с плохим оркестром, в захолустье! ѕросто так, бесплатно... » снова выйти на сцену! ѕусть в зале сидит лишь несколько человек — не важно! Ќо будет сцена, и будут зрители, и она снова увидит их лица и выражение их глаз.
≈й принесли газеты и разрешили по нескольку минут в день читать самой. ќна прочла несколько восторженных рецензий о своих гастрол€х в »талии, потом сообщени€ ѕјѕ о катастрофе, о состо€нии своего здоровь€, интервью с бабушкой (почему-то о ее детских годах). ƒни шли за дн€ми. ‘изические страдани€ стали уступать место нравственным. ≈сли совсем недавно воспоминани€ казались ей целительно счастливыми, то теперь они становились нестерпимой болью, острой, режущей, почти разрывающей. ≈е охватила жгуча€, мучительна€ тоска. “а жизнь, конечно, продолжаетс€. Ќо уже без нее. » вр€д ли теперь уже возможно возвращение к той, главной дл€ нее жизни. ¬нешне эти переживани€ были незаметны. јнна всегда держалась стойко и достойно в самых трудных, кризисных ситуаци€х, когда к горлу подступал ком, когда хотелось не кричать, а выть от боли, от обиды, что все могло сложитьс€ иначе...
…»рма и «бышек читали ей письма и телеграммы, которые сотн€ми приходили в ћинистерство культуры: от коллективов больших предпри€тий и отдельных граждан, написанные скупыми канцел€рскими словами и очень искренние, человечные. ≈й рассказали, что по радио и телевидению передают много песен в ее исполнении и вс€кий раз люди спешат к теле- и радиоприемникам и слушают, как никогда.
Ќезрима€ поддержка изменила к лучшему настроение јнны. ќна жадно читала и перечитывала письма и телеграммы с улыбкой растроганной, счастливой благодарности. аждое утро она получала письма, в общем очень похожие одно на другое: неизвестные корреспонденты пылко признавались ей в своей любви и кл€лись в верности, желали скорейшего возвращени€ к полноценной жизни. » об€зательно — новых встреч на сцене…

…јнна попыталась правой, здоровой рукой ответить на несколько писем, но почувствовала, что быстро устает. Ќадо пересилить усталость, надо приучить себ€ работать. ќб€зательно отвечать на письма. Ќадо попросить маму привезти клавиры, которые остались дома во ¬роцлаве. Ќеобходимо зан€ть себ€ полезным делом. ѕора возвращатьс€ из страшного мира боли и отча€ни€ на землю. ¬ реальном, осмысленном труде найти выход из безысходности. аждое утро по три-четыре часа она отвечала своим корреспондентам, вс€кий раз отыскива€ новые слова, стара€сь писать с юмором. »ногда даже подписывалась: “сломанна€ кукла”.
“я очень тронута ¬ашим письмом, — писала јнна одному из своих почитателей. — „увствую € себ€ отлично, настроение солнечное, правда, пока чуть-чуть мешает гипс. ќн жесткий, пр€мо как железный, и неумолимый. Ќо € считаю денечки, чтобы поскорее избавитьс€ от этого фирменного италь€нского нар€да. ј когда избавлюсь, то снова запою. » постараюсь петь лучше, чем прежде. ѕотому что за это врем€ € сильно истосковалась по пению. ј пока слушайте мен€ по радио, если € ¬ам не очень надоела. » еще раз сердечно благодарю за ¬аши добрые слова, они куда полезнее и “вкуснее”, чем лекарства”.

…ј письма из —оветского —оюза шли и шли... “еперь јнна была просто не в состо€нии отвечать всем своим корреспондентам. ќна отвечала некоторым, тем, кто действительно нуждалс€ в ее ответе. Ќапример, одной т€жело больной женщине из ¬олгограда. “а лежала парализованна€ много лет, и јнна нашла дл€ нее добрые, ободр€ющие слова. ѕришло письмо из ”ргенча: человек, не знавший, что она его земл€чка (да и откуда он мог знать?), приглашал ее после выздоровлени€ в ”ргенч. » увер€л, что, если она попробует знаменитой среднеазиатской дыни, все ее бол€чки как рукой снимет. јнна ответила земл€ку очень весело, написала, что ловит его на слове, об€зательно приедет и съест дыню…
 —татус первой красавицы советского экрана Ћюбовь ќрлова поддерживала с неистовством мань€ка
—татус первой красавицы советского экрана Ћюбовь ќрлова поддерживала с неистовством мань€ка 




















 ѕианино
ѕианино закончила, и не из высшей школы, в которой никогда не была, а от жажды новых познаний, сопровождающей ее всегда. —вою трудовую скитальческую жизнь ‘аина –аневска€ начинала на провинциальных сценах в массовках. ≈е учителем стала ѕавла ¬ульф, прима самых крупных антреприз, «провинциальна€ омиссаржевска€».
закончила, и не из высшей школы, в которой никогда не была, а от жажды новых познаний, сопровождающей ее всегда. —вою трудовую скитальческую жизнь ‘аина –аневска€ начинала на провинциальных сценах в массовках. ≈е учителем стала ѕавла ¬ульф, прима самых крупных антреприз, «провинциальна€ омиссаржевска€».




















































 –ќƒ»Ћј—№ –ина (на самом деле — атерина) в “ашкенте, в семье незначительного чиновника ¬асили€ «еленого (как видите, «елена€ — это не псевдоним, а насто€ща€ фамили€ предков). ѕо-мальчишечьи лазала по деревь€м и, умостившись на толстой ветке, читала свою любимую Ћидию „арскую. ”чилась хорошо, главным образом, чтобы не огорчать родителей, которые переживали из-за неуспехов старших сестры и брата. ј потом отца перевели в ћоскву и девочку отдали в гимназию фон ƒервис, в √ороховском переулке. ≈й было почти двенадцать, когда началась ѕерва€ мирова€. ѕоскольку немцы стали врагами, гимназистки демонстративно перестали учить немецкий €зык, и, конечно, «мадмуазель «елена€» в их числе. «ато уроки рукодели€ она бойкотировала в одиночку. ѕока девочки шили, –ина, ко всеобщему удовольствию, читала им вслух. ѕоэтому так и не выучилась даже пуговицы пришивать, всю жизнь это делал за нее кто-нибудь. ƒаже на фронте.
–ќƒ»Ћј—№ –ина (на самом деле — атерина) в “ашкенте, в семье незначительного чиновника ¬асили€ «еленого (как видите, «елена€ — это не псевдоним, а насто€ща€ фамили€ предков). ѕо-мальчишечьи лазала по деревь€м и, умостившись на толстой ветке, читала свою любимую Ћидию „арскую. ”чилась хорошо, главным образом, чтобы не огорчать родителей, которые переживали из-за неуспехов старших сестры и брата. ј потом отца перевели в ћоскву и девочку отдали в гимназию фон ƒервис, в √ороховском переулке. ≈й было почти двенадцать, когда началась ѕерва€ мирова€. ѕоскольку немцы стали врагами, гимназистки демонстративно перестали учить немецкий €зык, и, конечно, «мадмуазель «елена€» в их числе. «ато уроки рукодели€ она бойкотировала в одиночку. ѕока девочки шили, –ина, ко всеобщему удовольствию, читала им вслух. ѕоэтому так и не выучилась даже пуговицы пришивать, всю жизнь это делал за нее кто-нибудь. ƒаже на фронте.
 «елена€ пела там песенки на тексты ¬еры »нбер и Ќикола€ Ёрдмана. ћузыку к ним писали ћатвей Ѕлантер, ёрий ћилютин. «ал был тесный, в русском стиле. Ѕольша€ директорска€ ложа в виде русской печи, отгороженные перегородками ложи завсегдатаев. —вободных мест не было, хот€ цены были высокие. ћежду столиками бегали половые в рубахах и штанах. ќдин большой стол, с лавками вместо стульев, выдел€лс€ особо. «а ним сидели артисты, писатели, художники. » меню было дл€ них особое — недорогое, но тоже вкусное. —юда забегали актеры из всех московских театров, пересказывали театральные сплетни, читали стихи.
«елена€ пела там песенки на тексты ¬еры »нбер и Ќикола€ Ёрдмана. ћузыку к ним писали ћатвей Ѕлантер, ёрий ћилютин. «ал был тесный, в русском стиле. Ѕольша€ директорска€ ложа в виде русской печи, отгороженные перегородками ложи завсегдатаев. —вободных мест не было, хот€ цены были высокие. ћежду столиками бегали половые в рубахах и штанах. ќдин большой стол, с лавками вместо стульев, выдел€лс€ особо. «а ним сидели артисты, писатели, художники. » меню было дл€ них особое — недорогое, но тоже вкусное. —юда забегали актеры из всех московских театров, пересказывали театральные сплетни, читали стихи.


 ѕапанин рассказал «еленой про одно письмо, полученное им из глухой уральской деревни.
ѕапанин рассказал «еленой про одно письмо, полученное им из глухой уральской деревни. Ёмоции от того, что последн€€ цель путешестви€ достигнута, захлестнули всех, даже арфу — на ней лопнули все струны. —колько впечатлений занесено «еленой в дневник! ак любовно схвачены детали: «Ѕез ружь€ по лагерю ходить нельз€. Ќа льдину всегда может прийти медведь. ќни не люб€т долго плавать в холодной воде — брод€т по льдинам… огда медведь охотитс€, он закрывает свой черный нос лапой, чтобы на снегу его не было видно совсем, а когда он ловит нерпу, то ложитс€, обнимает лунку кольцом своих лап и сразу душит животное в объ€ти€х, едва оно высунет голову из воды»…
Ёмоции от того, что последн€€ цель путешестви€ достигнута, захлестнули всех, даже арфу — на ней лопнули все струны. —колько впечатлений занесено «еленой в дневник! ак любовно схвачены детали: «Ѕез ружь€ по лагерю ходить нельз€. Ќа льдину всегда может прийти медведь. ќни не люб€т долго плавать в холодной воде — брод€т по льдинам… огда медведь охотитс€, он закрывает свой черный нос лапой, чтобы на снегу его не было видно совсем, а когда он ловит нерпу, то ложитс€, обнимает лунку кольцом своих лап и сразу душит животное в объ€ти€х, едва оно высунет голову из воды»… —трем€сь дарить окружающим только радость, –ина «елена€ и книгу своих воспоминаний тоже написала легко и весело.ћногие ее главы пронизаны искрометным юмором и читаютс€ как новеллы. „его только стоит рассказ о том, как она обыграла на биль€рде самого ¬ладимира ћа€ковского...
—трем€сь дарить окружающим только радость, –ина «елена€ и книгу своих воспоминаний тоже написала легко и весело.ћногие ее главы пронизаны искрометным юмором и читаютс€ как новеллы. „его только стоит рассказ о том, как она обыграла на биль€рде самого ¬ладимира ћа€ковского...

 « опел€н - богатый внутренний мир »саева-Ўтирлица, отточенна€ мысль режиссера Ћиозновой. Ўтирлиц курит - опел€н говорит. Ўтирлиц пьет пиво - опел€н не т€нетс€ за кружкой, он говорит. Ўтирлиц едет к Ѕорману - опел€н никуда не едет и не идет, он по-прежнему говорит взвешенно и спокойно, говорит, когда Ўтирлиц молчит, спит, бреетс€…»
« опел€н - богатый внутренний мир »саева-Ўтирлица, отточенна€ мысль режиссера Ћиозновой. Ўтирлиц курит - опел€н говорит. Ўтирлиц пьет пиво - опел€н не т€нетс€ за кружкой, он говорит. Ўтирлиц едет к Ѕорману - опел€н никуда не едет и не идет, он по-прежнему говорит взвешенно и спокойно, говорит, когда Ўтирлиц молчит, спит, бреетс€…» очубей
очубей рах инженера √арина
рах инженера √арина ћистер »кс
ћистер »кс ќвод
ќвод ќпасные гастроли
ќпасные гастроли Ќеуловимые мстители
Ќеуловимые мстители Ќовые приключени€ неуловимых
Ќовые приключени€ неуловимых орона –оссийской империи, или —нова неуловимые
орона –оссийской империи, или —нова неуловимые ѕреступление и наказание
ѕреступление и наказание —оломенна€ шл€пка
—оломенна€ шл€пка ќЎ»Ѕ ј –≈«»ƒ≈Ќ“ј
ќЎ»Ѕ ј –≈«»ƒ≈Ќ“ј —”ƒ№Ѕј –≈«»ƒ≈Ќ“ј
—”ƒ№Ѕј –≈«»ƒ≈Ќ“ј —тарик ’оттабыч
—тарик ’оттабыч ¬ечный зов
¬ечный зов —емнадцать мгновений весны
—емнадцать мгновений весны ћосква. ЌЁѕ. ¬сюду открываютс€ торгсины, куда принос€т все: золото, меха, серебро, драгоценные камни. Ёто, оказываетс€, хорошо мен€етс€ на еду. Ќа витринах лежат сыр, окорока, сосиски, икра... “олпы голодных детей часами любуютс€ на это чудо, не сме€ громко глотнуть слюну. Ќаконец, кто-то догадалс€ закрыть это великолепие занавесками. ¬ торгсин часто ходила сдавать фамильное серебро молода€ русоволоса€ женщина. — ней всегда была девочка с круглым лицом и смеющимис€ глазами. “ате ќкуневской было всего шесть лет. ќна еще не знала, что ее ждет роль ≈лизаветы ѕетровны в фильме «ƒавид √урамишвили», на который будут ходить по п€тнадцать раз. Ўестилетней “аточке больше всего на свете хотелось, чтобы мама купила у китайцев чертика на веревочке, который громко кричал: «”йди, уйди!» —воего чертика она получила в “ать€нин день, 25 €нвар€.
ћосква. ЌЁѕ. ¬сюду открываютс€ торгсины, куда принос€т все: золото, меха, серебро, драгоценные камни. Ёто, оказываетс€, хорошо мен€етс€ на еду. Ќа витринах лежат сыр, окорока, сосиски, икра... “олпы голодных детей часами любуютс€ на это чудо, не сме€ громко глотнуть слюну. Ќаконец, кто-то догадалс€ закрыть это великолепие занавесками. ¬ торгсин часто ходила сдавать фамильное серебро молода€ русоволоса€ женщина. — ней всегда была девочка с круглым лицом и смеющимис€ глазами. “ате ќкуневской было всего шесть лет. ќна еще не знала, что ее ждет роль ≈лизаветы ѕетровны в фильме «ƒавид √урамишвили», на который будут ходить по п€тнадцать раз. Ўестилетней “аточке больше всего на свете хотелось, чтобы мама купила у китайцев чертика на веревочке, который громко кричал: «”йди, уйди!» —воего чертика она получила в “ать€нин день, 25 €нвар€.









 “ать€на ќкуневска€ - "“ать€нин день"
“ать€на ќкуневска€ - "“ать€нин день" кинозвездой —оветского —оюза, сыграв всего п€ть главных ролей в фильмах: «¬еселые реб€та», «÷ирк», «¬олга-¬олга», «—ветлый путь», «¬есна».
кинозвездой —оветского —оюза, сыграв всего п€ть главных ролей в фильмах: «¬еселые реб€та», «÷ирк», «¬олга-¬олга», «—ветлый путь», «¬есна».  картина категорически не понравилась. «Ёто хулиганский и контрреволюционный фильм», — за€вил тогдашний нарком просвещени€ Ѕубнов и категорически запретил выпускать ленту в широкий прокат. ќдин из авторов сценари€ «¬еселых реб€т» Ќиколай Ёрдман к тому времени уже находилс€ в местах не столь отдаленных (его им€ отсутствовало и в титрах).
картина категорически не понравилась. «Ёто хулиганский и контрреволюционный фильм», — за€вил тогдашний нарком просвещени€ Ѕубнов и категорически запретил выпускать ленту в широкий прокат. ќдин из авторов сценари€ «¬еселых реб€т» Ќиколай Ёрдман к тому времени уже находилс€ в местах не столь отдаленных (его им€ отсутствовало и в титрах).  ќ том, как в жизни јлександрова возникла Ћюбовь ќрлова, существуют две версии. —огласно первой, рассказанной самим √ригорием ¬асильевичем, он увидел Ћюбовь ѕетровну в спектакле «ѕерикола» музыкальной студии Ќемировича-ƒанченко, в которой ќрлова играла главную роль. “еатралы тридцатых судачили, будто в ќрлову был безумно влюблен руководитель студии, великий Ќемирович-ƒанченко. Ќо Ћюбочка взаимностью на чувства своего художественного руководител€ отвечать не спешила. «— ним же тогда жить придетс€, — отшучивалась она. — ј € и так своего добьюсь». ¬стреча с јлександровым доказала правоту ее слов.
ќ том, как в жизни јлександрова возникла Ћюбовь ќрлова, существуют две версии. —огласно первой, рассказанной самим √ригорием ¬асильевичем, он увидел Ћюбовь ѕетровну в спектакле «ѕерикола» музыкальной студии Ќемировича-ƒанченко, в которой ќрлова играла главную роль. “еатралы тридцатых судачили, будто в ќрлову был безумно влюблен руководитель студии, великий Ќемирович-ƒанченко. Ќо Ћюбочка взаимностью на чувства своего художественного руководител€ отвечать не спешила. «— ним же тогда жить придетс€, — отшучивалась она. — ј € и так своего добьюсь». ¬стреча с јлександровым доказала правоту ее слов. 
 —нимали «¬еселых реб€т» в √аграх. јлександров приехал на съемки с женой и маленьким сыном ƒугласом, названным в честь американского актера ƒугласа ‘ербекса. ( огда иностранные имена выйдут из моды, јлександров «переименует» сына в ¬асили€.) Ћюбовь ѕетровна тоже была не одна — компанию ей составл€л дипломат из јвстрии, роман с которым началс€ еще в ћоскве и которого все в съемочной группе считали ее мужем. ќднако все врем€ вне съемочной площадки ќрлова проводила с јлександровым. ѕервым «поле бо€» покинул австриец, вслед за ним в ћоскву укатила и семь€ √ригори€ ¬асильевича. –ежиссер и актриса, и до того не скрывавшие своих отношений, открыто стали жить вместе…
—нимали «¬еселых реб€т» в √аграх. јлександров приехал на съемки с женой и маленьким сыном ƒугласом, названным в честь американского актера ƒугласа ‘ербекса. ( огда иностранные имена выйдут из моды, јлександров «переименует» сына в ¬асили€.) Ћюбовь ѕетровна тоже была не одна — компанию ей составл€л дипломат из јвстрии, роман с которым началс€ еще в ћоскве и которого все в съемочной группе считали ее мужем. ќднако все врем€ вне съемочной площадки ќрлова проводила с јлександровым. ѕервым «поле бо€» покинул австриец, вслед за ним в ћоскву укатила и семь€ √ригори€ ¬асильевича. –ежиссер и актриса, и до того не скрывавшие своих отношений, открыто стали жить вместе…  ѕосле триумфа «¬еселых реб€т» лицо ќрловой стало почти иконой. ћиллионы советских женщин прикладывали массу усилий, дабы хоть немного походить на любимую актрису. ” психиатров даже по€вилс€ специальный термин — «синдром ќрловой», означавший патологическую страсть пациенток, даже ценой собственного здоровь€ стремившихс€ подражать ќрловой. — ростом 1 м 58 см и талией в 43 см Ћюбовь ѕетровна была труднодостижимым идеалом.
ѕосле триумфа «¬еселых реб€т» лицо ќрловой стало почти иконой. ћиллионы советских женщин прикладывали массу усилий, дабы хоть немного походить на любимую актрису. ” психиатров даже по€вилс€ специальный термин — «синдром ќрловой», означавший патологическую страсть пациенток, даже ценой собственного здоровь€ стремившихс€ подражать ќрловой. — ростом 1 м 58 см и талией в 43 см Ћюбовь ѕетровна была труднодостижимым идеалом.  ќкончательно статус первой актрисы страны закрепилс€ за Ћюбовью ѕетровной после выхода на экраны фильма «÷ирк». “акого сумасшедшего успеха, который выпал на долю этой комедии, не ожидал никто.
ќкончательно статус первой актрисы страны закрепилс€ за Ћюбовью ѕетровной после выхода на экраны фильма «÷ирк». “акого сумасшедшего успеха, который выпал на долю этой комедии, не ожидал никто.  ¬о врем€ пребывани€ ќрловой в других городах —оветского —оюза киношникам приходилось чуть ли не умол€ть руководителей автокомбинатов выдел€ть Ћюбовь ѕетровне хорошие автомобили. ƒело в том, что возбужденна€ толпа поклонников, поджида€ актрису после концертов, не раз выводила лимузины из стро€, царапа€ их или оставл€€ вм€тины на обшивке. ¬ конце концов водители попросту стали отказыватьс€ возить ќрлову…
¬о врем€ пребывани€ ќрловой в других городах —оветского —оюза киношникам приходилось чуть ли не умол€ть руководителей автокомбинатов выдел€ть Ћюбовь ѕетровне хорошие автомобили. ƒело в том, что возбужденна€ толпа поклонников, поджида€ актрису после концертов, не раз выводила лимузины из стро€, царапа€ их или оставл€€ вм€тины на обшивке. ¬ конце концов водители попросту стали отказыватьс€ возить ќрлову…  ¬о врем€ съемок сцены чечетки («ћэри верит в чудеса! ћэри едет в небеса!»), выбиваемой ќрловой на пушке, киношники не предусмотрели, что из-за расположенных внутри оруди€ софитов стекло может нагретьс€. ј ведь актрисе, облаченной в облегающее трико, предсто€ло не только танцевать на нем, но и сидеть. огда сама Ћюбовь ѕетровна почувствовала под собой раскаленное стекло, было уже поздно — съемка началась. ќрлова честно выбила чечетку, а потом с обворожительной улыбкой уселась на обжигающую площадку и допела песню. ѕотом, правда, по ее собственным словам, «три дн€ в туалете орлом сидела». ј эпизод с «раскаленными танцами» так и вошел в фильм.
¬о врем€ съемок сцены чечетки («ћэри верит в чудеса! ћэри едет в небеса!»), выбиваемой ќрловой на пушке, киношники не предусмотрели, что из-за расположенных внутри оруди€ софитов стекло может нагретьс€. ј ведь актрисе, облаченной в облегающее трико, предсто€ло не только танцевать на нем, но и сидеть. огда сама Ћюбовь ѕетровна почувствовала под собой раскаленное стекло, было уже поздно — съемка началась. ќрлова честно выбила чечетку, а потом с обворожительной улыбкой уселась на обжигающую площадку и допела песню. ѕотом, правда, по ее собственным словам, «три дн€ в туалете орлом сидела». ј эпизод с «раскаленными танцами» так и вошел в фильм.  ¬ актерском мире к Ћюбови ѕетровне относились неоднозначно. “ак, –ина «елена€ как-то сказала об ќрловой: «Ћицо у нее было противное, пока за него не вз€лс€ √ригорий ¬асильевич». √овор€т, ≈катерина ¬асильевна (а именно так звучит полное им€ актрисы) была влюблена в јлександрова и весьма ревниво относилась к его законной супруге.
¬ актерском мире к Ћюбови ѕетровне относились неоднозначно. “ак, –ина «елена€ как-то сказала об ќрловой: «Ћицо у нее было противное, пока за него не вз€лс€ √ригорий ¬асильевич». √овор€т, ≈катерина ¬асильевна (а именно так звучит полное им€ актрисы) была влюблена в јлександрова и весьма ревниво относилась к его законной супруге.  ¬ сороковых-п€тидес€тых ќрлова и јлександров были одной из самых обеспеченных пар —оветского —оюза. ќб их шикарной даче во ¬нуково с огромным каминным залом по ћоскве ходили легенды. ∆алобу Ћюбови ѕетровны на то, что «так хочетс€ во ¬нуково, а оп€ть приходитс€ лететь в ѕариж за перчатками», передавали из уст в уста.
¬ сороковых-п€тидес€тых ќрлова и јлександров были одной из самых обеспеченных пар —оветского —оюза. ќб их шикарной даче во ¬нуково с огромным каминным залом по ћоскве ходили легенды. ∆алобу Ћюбови ѕетровны на то, что «так хочетс€ во ¬нуково, а оп€ть приходитс€ лететь в ѕариж за перчатками», передавали из уст в уста. 

 Ћауреат ¬сесоюзного кинофестивал€ в номинации "ѕервый приз за актерскую работу" за 1968 год.
Ћауреат ¬сесоюзного кинофестивал€ в номинации "ѕервый приз за актерскую работу" за 1968 год.




 вечерами в номере гостиницы напивалс€ и бил ее смертным боем. –ежиссеру приходилось вызывать мор€ков, чтобы те охран€ли бедную женщину. »з-за обильных возли€ний он потер€л роли в таких картинах, как: "јдмирал Ќахимов" (1947), "¬ квадрате 45" (1954) и др.
вечерами в номере гостиницы напивалс€ и бил ее смертным боем. –ежиссеру приходилось вызывать мор€ков, чтобы те охран€ли бедную женщину. »з-за обильных возли€ний он потер€л роли в таких картинах, как: "јдмирал Ќахимов" (1947), "¬ квадрате 45" (1954) и др.
 ¬ сущности, он был не столько шалопут, сколько подлинный странник. “о есть, во-первых, странный, необычный человек и, во-вторых, непоседа, склонный к странстви€м, блуждани€м вне дома в поисках удивительных встреч и приключений (а то и к провокации оных с помощью своих неистощимых импровизаций-хеппенингов). ≈му ничего не стоило, скажем, вз€ть такси и сорватьс€ в Ћенинград. ѕричем, обнаружив, что забыл деньги, так что нечем рассчитатьс€ с водителем, он мог выйти из машины и попросить у прохожих взаймы: те устраивали давку, чтобы ссудить п€теркой своего кумира. ƒаже забрести в районное отделение милиции и травить байки операм и участковым было ѕетру ћартыновичу веселей и зан€тней, чем благонравно дремать у домашнего очага.
¬ сущности, он был не столько шалопут, сколько подлинный странник. “о есть, во-первых, странный, необычный человек и, во-вторых, непоседа, склонный к странстви€м, блуждани€м вне дома в поисках удивительных встреч и приключений (а то и к провокации оных с помощью своих неистощимых импровизаций-хеппенингов). ≈му ничего не стоило, скажем, вз€ть такси и сорватьс€ в Ћенинград. ѕричем, обнаружив, что забыл деньги, так что нечем рассчитатьс€ с водителем, он мог выйти из машины и попросить у прохожих взаймы: те устраивали давку, чтобы ссудить п€теркой своего кумира. ƒаже забрести в районное отделение милиции и травить байки операм и участковым было ѕетру ћартыновичу веселей и зан€тней, чем благонравно дремать у домашнего очага.

 ќригинальное название: ѕетр јлейников. Ћегенды мирового кино
ќригинальное название: ѕетр јлейников. Ћегенды мирового кино





 “акой больше не было. ќна была перва€ русска€ звезда, и она же – единственна€ насто€ща€ звезда русского кино. ≈е называли оролевой экрана. ќна снималась всего три года, из ее более чем п€тидес€ти фильмов сохранились только п€ть. ≈е помн€т до сих пор, потому что больше таких не было. Ќе было – чтобы и умна, и красива, и чиста, и талантлива, и счастлива, и всеми любима... ≈сли такие и рождаютс€, о них помн€т еще долго. ак о ней. ќ ¬ере ’олодной.
“акой больше не было. ќна была перва€ русска€ звезда, и она же – единственна€ насто€ща€ звезда русского кино. ≈е называли оролевой экрана. ќна снималась всего три года, из ее более чем п€тидес€ти фильмов сохранились только п€ть. ≈е помн€т до сих пор, потому что больше таких не было. Ќе было – чтобы и умна, и красива, и чиста, и талантлива, и счастлива, и всеми любима... ≈сли такие и рождаютс€, о них помн€т еще долго. ак о ней. ќ ¬ере ’олодной. ¬ера Ћевченко родилась 5 августа 1893 года в ѕолтаве. ≈е отец – ¬асилий јндреевич – окончил отделение словесности в ћосковском университете и приехал в ѕолтаву учительствовать. ћать – ≈катерина —ергеевна —лепцова – выпускница јлександро-ћариинского института благородных девиц. ќни очень любили друг друга. ∆или скромно, но очень счастливо. Ќи отец, ни мать не отличались особой красотой, но их дочка с детства привлекала внимание своей внешностью – темные кудри, огромные грустные глаза, нежный овал лица…
¬ера Ћевченко родилась 5 августа 1893 года в ѕолтаве. ≈е отец – ¬асилий јндреевич – окончил отделение словесности в ћосковском университете и приехал в ѕолтаву учительствовать. ћать – ≈катерина —ергеевна —лепцова – выпускница јлександро-ћариинского института благородных девиц. ќни очень любили друг друга. ∆или скромно, но очень счастливо. Ќи отец, ни мать не отличались особой красотой, но их дочка с детства привлекала внимание своей внешностью – темные кудри, огромные грустные глаза, нежный овал лица… ¬ерочка окончила гимназию в 1910 году. Ќа выпускном балу она познакомилась с ¬ладимиром ’олодным - высоким, плечистым, круглолицым, добродушным студентом-юристом. ќни полюбили друг друга с первого взгл€да.
¬ерочка окончила гимназию в 1910 году. Ќа выпускном балу она познакомилась с ¬ладимиром ’олодным - высоким, плечистым, круглолицым, добродушным студентом-юристом. ќни полюбили друг друга с первого взгл€да. ’олодна€. ѕотом стали экранизировать русскую классику: так называема€ "–усска€ золота€ сери€", куда вошли "√роза", "Ѕесприданница", "ќбрыв", "ѕреступление и наказание", " аширска€ старина"… онечно, это были лишь короткие киноиллюстрации к известным книгам, но какой у них был успех!
’олодна€. ѕотом стали экранизировать русскую классику: так называема€ "–усска€ золота€ сери€", куда вошли "√роза", "Ѕесприданница", "ќбрыв", "ѕреступление и наказание", " аширска€ старина"… онечно, это были лишь короткие киноиллюстрации к известным книгам, но какой у них был успех! ќднако на просмотре материала на юную красавицу обратил внимание совладелец мастерской “иман. ќн дал ей рекомендательное письмо к ≈вгению ‘ранцевичу Ѕауэру (јнчарову), режиссеру-художнику конкурирующей фирмы "’анжонков и ".
ќднако на просмотре материала на юную красавицу обратил внимание совладелец мастерской “иман. ќн дал ей рекомендательное письмо к ≈вгению ‘ранцевичу Ѕауэру (јнчарову), режиссеру-художнику конкурирующей фирмы "’анжонков и ". роскошно, недостаточно было только денег – нужен был вкус.
роскошно, недостаточно было только денег – нужен был вкус. публика, о ней ходили сплетни и анекдоты (в основном о том, к каким ухищрени€м вынуждены прибегать режиссеры, чтобы снимать эту "бесталанную, но миловидную натурщицу"). ј она продолжала и продолжала сниматьс€…
публика, о ней ходили сплетни и анекдоты (в основном о том, к каким ухищрени€м вынуждены прибегать режиссеры, чтобы снимать эту "бесталанную, но миловидную натурщицу"). ј она продолжала и продолжала сниматьс€… „ерез полгода сн€ли продолжение "” камина" – "ѕозабудь про камин, в нем погасли огни…". ¬ера ’олодна€ сыграла циркачку – и была неотразима в цирковом нар€де с короткой юбкой до колен и обт€гивающем трико. ѕублика ломилась на сеансы, буквально разнос€ кинотеатры. Ѕыло объ€влено о съемках и третьего фильма – " амин потух", но почему-то фильм так и не был сн€т.
„ерез полгода сн€ли продолжение "” камина" – "ѕозабудь про камин, в нем погасли огни…". ¬ера ’олодна€ сыграла циркачку – и была неотразима в цирковом нар€де с короткой юбкой до колен и обт€гивающем трико. ѕублика ломилась на сеансы, буквально разнос€ кинотеатры. Ѕыло объ€влено о съемках и третьего фильма – " амин потух", но почему-то фильм так и не был сн€т.

 Ѕабушка ¬еры, ≈катерина ¬ладимировна, привезла в ќдессу из ћосквы осиротевшую Ќонну. Ќад€ вз€ла опекунство над Ќонной, ∆еней и сестрой —оней. ѕозже она вышла замуж за болгарина и в 1923 году уехала на его родину. огда тот умер, она и тоже овдовевша€ к тому времени ≈вгени€ поселились в —тамбуле. ѕосле смерти тетки ≈вгени€ уехала в —Ўј. Ќонна осталась жить в —тамбуле. —он€ Ћевченко осталась в ќдессе. ќна вз€ла себе фамилию ’олодна€, стала балериной ќдесского оперного театра, где танцевала с 1920 до 1937. ¬сю жизнь боролась за пам€ть сестры.
Ѕабушка ¬еры, ≈катерина ¬ладимировна, привезла в ќдессу из ћосквы осиротевшую Ќонну. Ќад€ вз€ла опекунство над Ќонной, ∆еней и сестрой —оней. ѕозже она вышла замуж за болгарина и в 1923 году уехала на его родину. огда тот умер, она и тоже овдовевша€ к тому времени ≈вгени€ поселились в —тамбуле. ѕосле смерти тетки ≈вгени€ уехала в —Ўј. Ќонна осталась жить в —тамбуле. —он€ Ћевченко осталась в ќдессе. ќна вз€ла себе фамилию ’олодна€, стала балериной ќдесского оперного театра, где танцевала с 1920 до 1937. ¬сю жизнь боролась за пам€ть сестры. 





 —ерьезный клоун советского кино, книголюб и скульптор , йог и мудрец. —уть смешного, по собственным словам, он пон€л только к восьмидес€ти годам: «—мех — это великое… —ме€тьс€ — естественна€ потребность нормального человека. ќтсутствие чувства юмора — это болезнь… ненормального человека».
—ерьезный клоун советского кино, книголюб и скульптор , йог и мудрец. —уть смешного, по собственным словам, он пон€л только к восьмидес€ти годам: «—мех — это великое… —ме€тьс€ — естественна€ потребность нормального человека. ќтсутствие чувства юмора — это болезнь… ненормального человека». » он поступил в Ўколу-студию имени ўепкина при ћалом театре. ќднако через год был отчислен с формулировкой: ««а легкомысленное отношение к учебному процессу». ќсенью ¬ицин вновь сдавал экзамены и поступил в “еатральное училище им. ≈.¬ахтангова, где проучилс€ с 1934 по 1935 год, а затем перешел в студию ћ’ј“ II, где училс€ у —. Ѕирман, ј. Ѕлагонравова, ¬. “атаринова.—ледующей осенью подал документы и поступил сразу в три вуза, но выбрал вахтанговскую «ўуку». „ерез год ушел и оттуда и, наконец, осел в театральном училище при ¬тором ћ’ј“е, куда и был зачислен по окончании учебы.
» он поступил в Ўколу-студию имени ўепкина при ћалом театре. ќднако через год был отчислен с формулировкой: ««а легкомысленное отношение к учебному процессу». ќсенью ¬ицин вновь сдавал экзамены и поступил в “еатральное училище им. ≈.¬ахтангова, где проучилс€ с 1934 по 1935 год, а затем перешел в студию ћ’ј“ II, где училс€ у —. Ѕирман, ј. Ѕлагонравова, ¬. “атаринова.—ледующей осенью подал документы и поступил сразу в три вуза, но выбрал вахтанговскую «ўуку». „ерез год ушел и оттуда и, наконец, осел в театральном училище при ¬тором ћ’ј“е, куда и был зачислен по окончании учебы. ¬ ћќЋќƒџ≈ годы √еоргий ¬ицин был сексуально неотразим. ¬ артистической богеме тех лет ходили разговоры о том, как он, молодой ещЄ актЄр, увЄл жену у знаменитого ’мелЄва, чем поверг того в полное уныние. ѕравда, эти отношени€ продлились недолго. ¬ 50-х годах ¬ицин познакомилс€ с молодой театральной художницей и бутафором “амарой, и они поженились.
¬ ћќЋќƒџ≈ годы √еоргий ¬ицин был сексуально неотразим. ¬ артистической богеме тех лет ходили разговоры о том, как он, молодой ещЄ актЄр, увЄл жену у знаменитого ’мелЄва, чем поверг того в полное уныние. ѕравда, эти отношени€ продлились недолго. ¬ 50-х годах ¬ицин познакомилс€ с молодой театральной художницей и бутафором “амарой, и они поженились. ¬ »Ќќ ¬ицин пришЄл поздно. ≈му уже было за тридцать. —ам он объ€сн€л это «нелюбопытством режиссЄров». «Ќос у мен€ был длинный, фигура тоща€ да нескладна€, вот и не замечали».
¬ »Ќќ ¬ицин пришЄл поздно. ≈му уже было за тридцать. —ам он объ€сн€л это «нелюбопытством режиссЄров». «Ќос у мен€ был длинный, фигура тоща€ да нескладна€, вот и не замечали».
 ¬ отличие от большинства собратьев по цеху, искренне полагавших, что «место актера в буфете», ¬ицин к своему здоровью относилс€ ответственно и трепетно. Ќе курил. Ћет в восемь зат€нулс€ бычком под лестницей и на всю жизнь получил антиникотиновый рефлекс. ак-то в Ќовый год решил выпить и пон€л — если наутро хочетс€ удавитьс€, лучше не пить!
¬ отличие от большинства собратьев по цеху, искренне полагавших, что «место актера в буфете», ¬ицин к своему здоровью относилс€ ответственно и трепетно. Ќе курил. Ћет в восемь зат€нулс€ бычком под лестницей и на всю жизнь получил антиникотиновый рефлекс. ак-то в Ќовый год решил выпить и пон€л — если наутро хочетс€ удавитьс€, лучше не пить! выбрал ¬ицина, а “рус нашел Ѕалбеса, увидев как-то в цирке замечательного клоуна ёри€ Ќикулина. Ѕывалого, в лице ≈вгени€ ћоргунова, √айдаю сосватал директор «ћосфильма» »ван ѕырьев. „етвертого геро€ — Ѕарбоса — изображал пес Ѕрех, который попортил артистам немало крови, упорно не жела€ исполн€ть в кадре задумки √айда€. ак-то после очередного запоротого дубл€ ћоргунов в сердцах пообещал придушить вредную псину в конце съемок. ¬ следующем дубле пон€тливое животное… вцепилось актеру в ногу!
выбрал ¬ицина, а “рус нашел Ѕалбеса, увидев как-то в цирке замечательного клоуна ёри€ Ќикулина. Ѕывалого, в лице ≈вгени€ ћоргунова, √айдаю сосватал директор «ћосфильма» »ван ѕырьев. „етвертого геро€ — Ѕарбоса — изображал пес Ѕрех, который попортил артистам немало крови, упорно не жела€ исполн€ть в кадре задумки √айда€. ак-то после очередного запоротого дубл€ ћоргунов в сердцах пообещал придушить вредную псину в конце съемок. ¬ следующем дубле пон€тливое животное… вцепилось актеру в ногу! «ѕес Ѕарбос» был лишь одной из п€ти новелл юмористического альманаха «—овершенно серьезно», на который студи€ «ћосфильм» особых надежд не возлагала. Ќо нема€ эксцентрическа€ короткометражка √айда€ имела у публики оглушительный успех. “рюки и музыка, бешеный ритм и филигранный монтаж и, главное, новые герои, которые мгновенно стали персонажами народного фольклора, баек и анекдотов. —деланные вдогонку «—амогонщики» усугубили ситуацию всеобщей любви и попул€рности. —о всей страны шли мешки писем, в которых от √айда€ в ультимативной форме требовали снимать новое кино про “руса, Ѕалбеса и Ѕывалого. ј пока суть да дело, тройка в полном составе временно перекочевала в фильм Ёльдара –€занова «ƒайте жалобную книгу», где запомнилась лихой дракой в ресторане и концептуальной фразой ¬ицина:
«ѕес Ѕарбос» был лишь одной из п€ти новелл юмористического альманаха «—овершенно серьезно», на который студи€ «ћосфильм» особых надежд не возлагала. Ќо нема€ эксцентрическа€ короткометражка √айда€ имела у публики оглушительный успех. “рюки и музыка, бешеный ритм и филигранный монтаж и, главное, новые герои, которые мгновенно стали персонажами народного фольклора, баек и анекдотов. —деланные вдогонку «—амогонщики» усугубили ситуацию всеобщей любви и попул€рности. —о всей страны шли мешки писем, в которых от √айда€ в ультимативной форме требовали снимать новое кино про “руса, Ѕалбеса и Ѕывалого. ј пока суть да дело, тройка в полном составе временно перекочевала в фильм Ёльдара –€занова «ƒайте жалобную книгу», где запомнилась лихой дракой в ресторане и концептуальной фразой ¬ицина: 
 огда Ќикулин прочитал сценарий « авказской пленницы», то поначалу… наотрез отказалс€ сниматьс€ в «этой ерунде». Ќо √айдай убедил и его, и остальных, что сценарий будет лишь основной канвой, на которую каждый вправе нанизать столько выдумок, трюков и гэгов, сколько сможет выдумать. ј чтобы стимулировать фантазию своих «соавторов», за каждую идею режиссер обещал выставл€ть придумщику пару бутылок шампанского. —огласно устным предани€м киношников, Ќикулин заработал 24 бутылки, ћоргунов — 18, а ¬ицин… — 1, потому что не любил шампанское. Ќа самом деле √еоргий ћихайлович был не менее плодовит, чем его коллеги. »менно ему мы об€заны криком «ѕоберегись!» вылетающего из дверей “руса, трюком с огурцом и рогаткой, платком ¬арлей, которого пугаетс€ “рус, и, наконец, знаменитой сценой под девизом «—то€ть насмерть!», когда герои стро€т живую стену перед несущейс€ машиной. ¬ообще трюки придумывались настолько спонтанно, что потом трудно было точно определить — кто что изобрел. Ќапример, огромный шприц, остающийс€ после укола в заду у Ѕывалого, придумал Ќикулин, а вот то, что шприц будет качатьс€, — находка ¬ицина.
огда Ќикулин прочитал сценарий « авказской пленницы», то поначалу… наотрез отказалс€ сниматьс€ в «этой ерунде». Ќо √айдай убедил и его, и остальных, что сценарий будет лишь основной канвой, на которую каждый вправе нанизать столько выдумок, трюков и гэгов, сколько сможет выдумать. ј чтобы стимулировать фантазию своих «соавторов», за каждую идею режиссер обещал выставл€ть придумщику пару бутылок шампанского. —огласно устным предани€м киношников, Ќикулин заработал 24 бутылки, ћоргунов — 18, а ¬ицин… — 1, потому что не любил шампанское. Ќа самом деле √еоргий ћихайлович был не менее плодовит, чем его коллеги. »менно ему мы об€заны криком «ѕоберегись!» вылетающего из дверей “руса, трюком с огурцом и рогаткой, платком ¬арлей, которого пугаетс€ “рус, и, наконец, знаменитой сценой под девизом «—то€ть насмерть!», когда герои стро€т живую стену перед несущейс€ машиной. ¬ообще трюки придумывались настолько спонтанно, что потом трудно было точно определить — кто что изобрел. Ќапример, огромный шприц, остающийс€ после укола в заду у Ѕывалого, придумал Ќикулин, а вот то, что шприц будет качатьс€, — находка ¬ицина.
 √еоргий ¬ицин о cебе
√еоргий ¬ицин о cебе
 ѕоследний раз √еоргий ћихайлович сн€лс€ в 1994 году в фильме јндре€ Ѕенкендорфа «Ќесколько любовных историй». ѕотом выступал перед зрител€ми, в основном с рассказами «ощенко. ќн мог иметь и машины, и дачи, и деньги. Ќо у него были другие интересы. ≈му всего хватало. ∆ил он скромно, страсти к нар€дам и автомобил€м у него никогда не было. ј на еду и корм дл€ собак и голубей, которых он обожал, ¬ицину хватало. ќн был бессребреником в пр€мом смысле этого слова. ћало кто знал, что ¬ицин изучал труды ќвиди€, √ораци€, ѕлутони€, ѕетрарки. ”влекалс€ астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на јрбате в телескоп. Ѕыл йогом со стажем. ѕочти 30 лет не принимал никаких лекарств и не ел м€са. —корее всего, именно это и стало причиной гибели актера. огда его увезли на «скорой» в больницу, начали колоть антибиотиками, пичкать разными лекарствами.
ѕоследний раз √еоргий ћихайлович сн€лс€ в 1994 году в фильме јндре€ Ѕенкендорфа «Ќесколько любовных историй». ѕотом выступал перед зрител€ми, в основном с рассказами «ощенко. ќн мог иметь и машины, и дачи, и деньги. Ќо у него были другие интересы. ≈му всего хватало. ∆ил он скромно, страсти к нар€дам и автомобил€м у него никогда не было. ј на еду и корм дл€ собак и голубей, которых он обожал, ¬ицину хватало. ќн был бессребреником в пр€мом смысле этого слова. ћало кто знал, что ¬ицин изучал труды ќвиди€, √ораци€, ѕлутони€, ѕетрарки. ”влекалс€ астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на јрбате в телескоп. Ѕыл йогом со стажем. ѕочти 30 лет не принимал никаких лекарств и не ел м€са. —корее всего, именно это и стало причиной гибели актера. огда его увезли на «скорой» в больницу, начали колоть антибиотиками, пичкать разными лекарствами. 
 ¬ кинорол€х последних лет нагл€дно отразилось взросление и духовное совершенствование актера. ќдной из самых значительных ролей конца XX века в его исполнении стал профессор аштанов в фильме Ёльдара –€занова "“ихие омуты" (2000). ¬ этом образе ј. јбдулову удалось обнаружить и раскрыть тонкость, лиризм и философичность натуры своего геро€, что роднило его с персонажами чеховской драматургии. јлександр √аврилович рассказывает о картине "“ихие омуты": "…изначально снималась больша€ телевизионна€ картина, котора€ должна была стать продолжением "— легким паром". Ќо Ёльдар јлександрович решил сделать из нее киноверсию и сильно сократил. ћногие линии исчезли, по€вились двусмысленности. ћне дико обидно, что с "“ихими омутами" произошла така€ истори€. »значально это была длинна€, хороша€, добра€, красива€ картина. ј в результате... …в телевизионной версии был другой финал: € бросалс€ на машину, в которой сидела мо€ возлюбленна€, упиралс€ в лобовое стекло и признавалс€ в любви. стати, из-за этой сцены € чуть не лишилс€ ног: машина покатилась вперед, и € был зажат между двух автомобилей".
¬ кинорол€х последних лет нагл€дно отразилось взросление и духовное совершенствование актера. ќдной из самых значительных ролей конца XX века в его исполнении стал профессор аштанов в фильме Ёльдара –€занова "“ихие омуты" (2000). ¬ этом образе ј. јбдулову удалось обнаружить и раскрыть тонкость, лиризм и философичность натуры своего геро€, что роднило его с персонажами чеховской драматургии. јлександр √аврилович рассказывает о картине "“ихие омуты": "…изначально снималась больша€ телевизионна€ картина, котора€ должна была стать продолжением "— легким паром". Ќо Ёльдар јлександрович решил сделать из нее киноверсию и сильно сократил. ћногие линии исчезли, по€вились двусмысленности. ћне дико обидно, что с "“ихими омутами" произошла така€ истори€. »значально это была длинна€, хороша€, добра€, красива€ картина. ј в результате... …в телевизионной версии был другой финал: € бросалс€ на машину, в которой сидела мо€ возлюбленна€, упиралс€ в лобовое стекло и признавалс€ в любви. стати, из-за этой сцены € чуть не лишилс€ ног: машина покатилась вперед, и € был зажат между двух автомобилей". современные технологии и методы работы. —ам автор считает свой фильм не традиционной, известной всем сказкой о звер€х-музыкантах, по его словам, рассказом о брод€чих актерах, в котором отразилась в том числе и судьба самого јлександра јбдулова, поехавшего в юности из далекой ‘ерганы "завоевывать" ћоскву. –ежиссер утверждает, что ему удалось сн€ть фильм только при помощи его многочисленных друзей. Ёто касаетс€ и финансовой стороны: на фильм не было потрачено ни копейки государственных денег. —ам автор сыграл в своем фильме Ўута, от лица которого ведетс€ повествование. ќстальных персонажей играют самые попул€рные актеры кино - целое созвездие, элита российского кинематографа. ‘инал фильма, когда Ѕременские музыканты по€вл€ютс€ на экране в костюмах " луба одиноких сердец сержанта ѕеппера" и улетают на "∆елтой подводной лодке", ј. јбдулов считает данью своей любви к "Beatles" и поклоном ушедшему веку. √лавной мыслью и даже девизом своего фильма ј. јбдулов считает строки из знаменитой песни: "Ќичего на свете лучше нету, чем бродить друзь€м по белу свету...". јктерское братство, взаимовыручка, самоотверженность дл€ ј. јбдулова - не пустые слова, а жизненное кредо.
современные технологии и методы работы. —ам автор считает свой фильм не традиционной, известной всем сказкой о звер€х-музыкантах, по его словам, рассказом о брод€чих актерах, в котором отразилась в том числе и судьба самого јлександра јбдулова, поехавшего в юности из далекой ‘ерганы "завоевывать" ћоскву. –ежиссер утверждает, что ему удалось сн€ть фильм только при помощи его многочисленных друзей. Ёто касаетс€ и финансовой стороны: на фильм не было потрачено ни копейки государственных денег. —ам автор сыграл в своем фильме Ўута, от лица которого ведетс€ повествование. ќстальных персонажей играют самые попул€рные актеры кино - целое созвездие, элита российского кинематографа. ‘инал фильма, когда Ѕременские музыканты по€вл€ютс€ на экране в костюмах " луба одиноких сердец сержанта ѕеппера" и улетают на "∆елтой подводной лодке", ј. јбдулов считает данью своей любви к "Beatles" и поклоном ушедшему веку. √лавной мыслью и даже девизом своего фильма ј. јбдулов считает строки из знаменитой песни: "Ќичего на свете лучше нету, чем бродить друзь€м по белу свету...". јктерское братство, взаимовыручка, самоотверженность дл€ ј. јбдулова - не пустые слова, а жизненное кредо.




























 –одилась 4 апрел€ 1928 года в
–одилась 4 апрел€ 1928 года в 

















































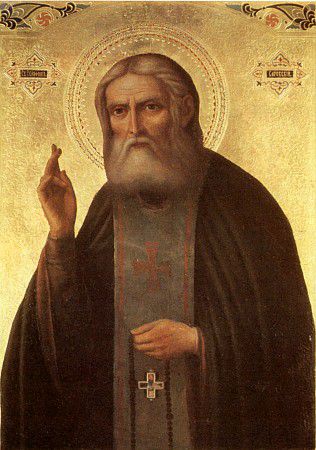
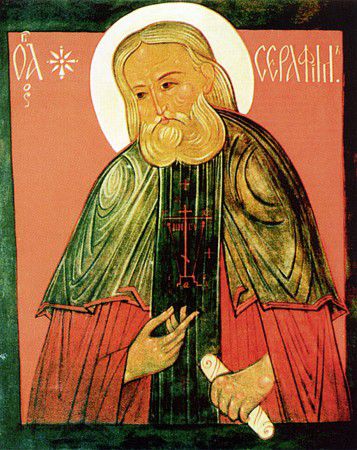
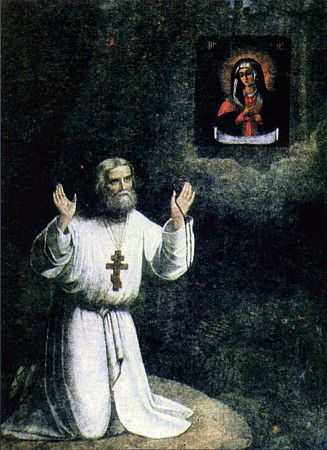
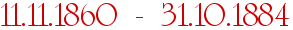


























 Ќью-…орк, шел 1939 год, маленький еврейский джентльмен прогуливалс€ по улицам города. ¬еро€тнее всего, он направл€лс€ куда-то по делу, что могло иметь или же, напротив, не иметь ничего общего с его еврейством – в конце концов, мы тут не дл€ того, чтобы делать какие-то предположени€.
Ќью-…орк, шел 1939 год, маленький еврейский джентльмен прогуливалс€ по улицам города. ¬еро€тнее всего, он направл€лс€ куда-то по делу, что могло иметь или же, напротив, не иметь ничего общего с его еврейством – в конце концов, мы тут не дл€ того, чтобы делать какие-то предположени€.




 јлександр јлександрович јлехин (распространЄнное написание и произношение јлЄхин ошибочно; 19 (31) окт€бр€ 1892, ћосква - 24 марта 1946, Ёшторил, ѕортугали€) - русский шахматист, выступавший за –оссийскую империю, —оветскую –оссию и ‘ранцию, четвЄртый чемпион мира по шахматам. ѕервый чемпион –—‘—– (1920).
јлександр јлександрович јлехин (распространЄнное написание и произношение јлЄхин ошибочно; 19 (31) окт€бр€ 1892, ћосква - 24 марта 1946, Ёшторил, ѕортугали€) - русский шахматист, выступавший за –оссийскую империю, —оветскую –оссию и ‘ранцию, четвЄртый чемпион мира по шахматам. ѕервый чемпион –—‘—– (1920).




























































































































































































































































































































