-Метки
-Приложения
 Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов
-Резюме
кедров константин Александрович
- Профессия поэт философ
-Цитатник
Зря девчёнки группы Пусси-Райт Вы задумали в неё играйт Это ваше нежное устройство Вызывает нервн...
Без заголовка - (0)константин кедров lavina iove Лавина лав Лав-ина love 1999 Константин Кедров http://video....
нобелевская номинация - (0)К.Кедров :метаметафора доос метакод Кедров, Константин Александрович Материал из Русской Викисла...
Без заголовка - (0)доос кедров кедров доос
Без заголовка - (0)вознесенский кедров стрекозавр и стихозавр
-Ссылки
-Видео

- дуэт кедров и вознесенский
- Смотрели: 331 (0)

- ткаченко о кедрове
- Смотрели: 32 (0)

- кедров сапгир холин вознесенский кацюба
- Смотрели: 47 (0)

- презентация Анталогии ПО ДООС
- Смотрели: 10 (0)
-Фотоальбом

- нобелевская
- 17:08 23.04.2008
- Фотографий: 5
- константин кедров и андрей вознесенский
- 03:00 01.01.1970
- Фотографий: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Записи с меткой хлебников
(и еще 419 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
афины бессмертие бог вознесенский время выворачивание доос известия или инсайдаут к.кедров капица кацюба кгб кедров компьютер_любви константин кедров константин_кедров космос культура лауреат любимов любовь маяковский метакод метаметафора мистерия ненасилие нобель павич палиндром париж парщиков пастернак поэзия пушкин россия сапгир свобода сократ сталин таганка толстой хвост хвостенко хлебников христос челищев эйнштейн юнеско
Первый сборник Константина Кедрова-Челищева "Компьютер любви" |
Дневник |


|
Метки: бессмертие хлебников константин_кедров |
Звездная азбука Велимира Хлебникова Литературная учеба |
Дневник |
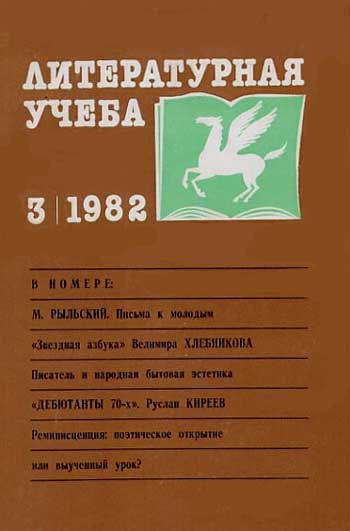
Звездная азбука Велимира Хлебникова
Кедров-Челищев
Константин Кедров Литературная учеба №31982
Поэзия Велимира Хлебникова не каждому открывает свои заветные тайны. Сюда закрыт вход человеку «ленивому и нелюбопытному», тому, кто навсегда довольствуется знакомыми ярлыками: «заумная поэзия»», «футуризм», «голый эксперимент». Некоторые выбирают другой, легкий путь — ищут в стихах поэта то, что им понятнее, ближе. Остальное искусственно отсекается. Вот почему и до сегодняшнего дня слава его «неизмеримо меньше его значения». Под этим высказыванием о Хлебникове стоит подпись Маяковского. Здесь могли бы подписаться и многие другие поэты. У Хлебникова нет незначительных, маловажных вещей, но даже друзья часто не понимали цельности и единства его поэзии. Им казалось, что он носил свои рукописи в мешке из чистого чудачества, не подчиняя их единому плану с нумерацией страниц. Между тем пятитомник Хлебникова с хронологическим расположением страниц в гораздо большей степени неудобен для понимания единой композиции всех вещей поэта, чем знаменитая наволочка, набитая рукописями. Пора представить поэзию Хлебникова как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу. Взглянуть на Хлебникова глазами самого Хлебникова? Заманчивая задача. Она была бы неосуществима, если бы Хлебников сам не оставил нам ключа к пониманию своей поэзии. «Я — Разин со знаменем Лобачевского», — писал о себе поэт. Что стоит за этими словами? Какая связь между творчеством Хлебникова и геометрией Лобачевского? Ответить на эти вопросы — значит приблизиться к сокровенному смыслу поэтики Хлебникова. Поэт никогда не скрывал его, как не скрывал Лобачевский свою «воображаемую геометрию», но и Лобачевский и Хлебников не избежали при жизни и после смерти обвинения в безумии, даже в сознательном шарлатанстве. И в поэзии, и в науке таков порой бывает удел первооткрывателя.
Прочитаем юношеское «Завещание» Велимира Хлебникова, кстати сказать, первый дошедший до нас прозаический отрывок из его рукописей. Девятнадцатилетний студент, планируя итог всей своей будущей жизни, начертал такие слова: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Не торопитесь проскользнуть мимо его слов. Что это значит: «связал время с пространством»?
Пройдет несколько лет, и в 1908 году догадка Хлебникова станет научным открытием сразу трех великих ученых; Анри Пуанкаре, Альберта Эйнштейна и Германа Минковского. На языке науки оно формулируется так: «Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность» (Г.Минковский).
Это открытие стало основой общей теории относительности Эйнштейна. Хлебников незадолго до смерти напишет в своем последнем прозаическом отрывке «засохшей веткой вербы» такие слова: «...Самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это вера 4-х измерений».
«Вера 4-х измерений» — так определяет Хлебников общую теорию относительности Эйнштейна, как бы подтвердившую догадку поэта о существовании единого пространства-времени. Четвертое измерение — это и есть четвертая, пространственно-временная координата, открытие которой поэт предчувствовал в своем «Завещании». Как видим, и первые и последние слова поэта, дошедшие до нас, об этом.
Но пока, в «Завещании», в самом начале века, Хлебников еще не знает, что будет поэтом. Он учится в Казанском университете на первом курсе физико-математического факультета, слушает лекции по геометрии Лобачевского и пристально вглядывается в каменный лик великого математика:
«...Я помню лик суровый и угрюмый
Запрятан в воротник.
То Лобачевский — ты
— Суровый Числоводск!..
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят...»
Поднимем же и мы «занавес» думы Хлебникова. Ведь за этим занавесом — мир его поэзии. На первый взгляд нет и не может быть никакой связи между открытием четвертой координаты пространства-времени и поэзией. Но она возникает, когда об этом задумывается поэт. Догадка Хлебникова вскоре стала превращаться в поэтический манифест. Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к синтезу пяти чувств человека: «Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?» Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. «...Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия». И «есть... независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов — например: слуховое и зрительное или обонятельное — переходит одно в другое. Так есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им». Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, где голубизна василька сольется с кукованием кукушки. Хлебников ошибся лишь в абсолютизации своего восприятия звукоцвета. Однако не следует преувеличивать степень субъективности поэта. Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук был также связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. У Хлебникова: М — темно-синий, 3 — отражение луча от зеркала (золотой), С — выход точек из одной точки (сияние, свет), Д — дневной свет, Н — розовый, нежно-красный. Вот песня, звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то красный, если взглянуть глазами Хлебникова:
«Вэо-вэя — зелень дерева, Нижеоты — темный ствол, Мам-эами — это небо, Пучь и чали — черный грач. Лели-лили — снег черемух, Заслоняющих винтовку... Мивеаа — небеса».
Реакция слушателей на эти слова в драме «Зангези» довольно однозначна:
«Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Зангези!..»
Но мы не будем уподобляться этим слушателям, а попробуем проверить, так ли субъективны цветозвуковые образы Хлебникова. Сравним цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников. (Иванова-Лукьянова Г. Н. О восприятии звуков.— В сб.: Развитие фонетики современного русского языка. Л„ «Наука», 1966). Школьники, как и Хлебников, окрасили звуки 3, С, Д, Н в легкие, пронзительные тона. Звук С у них желтый, у Хлебникова этот звук — свет солнечного луча. Звук 3 одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой цвет. Многие, подобно Хлебникову, наделили звук М синим цветом, хотя большая часть считает его красным. Как видим, цветовые ассоциации Хлебникова не столь субъективны, как принято было считать. Они свойственны и многим другим людям.
«Слышите ли вы меня?» — восклицает Зангези. «Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи-здания из глыб пространства... Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру».
Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени, окаменевшим звуком. Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли у Хлебникова в одном направлении: придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную изобразительность. Звук у него — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет. Поэт чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук все очертания пространства, и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы. Много говорилось о заумности стихотворения «Бобэоби». Но так ли оно заумно?
«Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо».
Произнося слово «бобэоби», человек трижды делает движение губами, напоминающее поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: «пелись губы». Слова «лиэээй» и «гзи-гзи-гзэо» сами рождают ассоциацию со словом «лилейный» и со звоном ювелирной цепи. Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом, как и музыка, считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: «связать пространство и время», звуками написать портрет. Вот почему в конце стоят две строки — ключ ко всему стихотворению в целом:
«Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо».
«Протяжение» — важнейшее свойство пространства. Протяженное, зримое, видимое... Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета, из звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, как бы обволакивающее женский образ. Этот портрет «пелся»: пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством. Хлебников постоянно размышляет о пространственной природе звука. Вот, например, пространственные ассоциации, связанные у поэта со звуком Л. Они бесконечно разнообразны, однако все подчинены одному образу в последних строках стихотворения «Слово об Эль»:
«Сила движения, уменьшенная Площадью приложения,— это Эль. Таков силовой прибор, Скрытый за Эль».
Конечно, только поэт может увидеть в звуке Л «судов широкий вес», пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению — «люд», действительно ставший первой победой человека над силами тяготения, сравнимой только с выходом человека в космос. В одной из записей Хлебникова говорится, что если язык Пушкина можно уподобить «доломерию» Эвклида, не следует ли в современном языке искать «доломерие» Лобачевского? («Доломерие»— славянская калька Хлебникова со слова «геометрия»: от «дол» — земля и мера»). Хлебников как бы воочию видел объемный рисунок звука. Итогом его исканий стала «Звездная азбука» в драме «Зангези». На сцене — дерево, прорастающее плоскостями разных измерении пространства. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в n-мерном пространстве-времени. Образ такого дерева, прорастающего в иные измерения, есть и в стихах поэта:
«Казалось, в поисках пространства Лобачевского Здесь Ермаки ведут полки зеленые На завоевание Сибирей голубых, Воюя за объем, веткою ночь проколов...»
Человечество, считает Хлебников, должно «прорасти» из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки (В недавно опубликованных трудах академика В. И. Вернадского высказана сходная мысль. Крупнейший ученый считает, что именно пространство живого вещества обладает неэвклидовыми геометрическими свойствами). Первая плоскость в драме «Зангези» — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:
«Пеночка с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко: Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!.. Дубровник. Вьер-вьёр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-вйру сек-сек-сек! Сойка. Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!..»
Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал «язык птиц». Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с пустым формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками. Вторая плоскость — «язык богов». Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, дававшие название вещам. Значение звуков еще непонятно, но оно как бы соответствует облику богов. Суровый Белее урчит и гремит рычащими глухими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:
«Рапр, грапр, апр! жай. Каф! Взуй! Каф! Жраб, габ, бокв — кук ртупт! тупт!»
И язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает ремарки такого рода: «Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи». Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится на глубоком знании «исходного материала». Боги говорят теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языка всех «ареалов» культуры, в которых они возникли. Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек — Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное, четвертое измерение, и ему открывается «звездный язык» вселенной. Опьяненный своим открытием, Зангези радостно несет весть о нем людям, зверям и богам: «Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами».
«Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового языка. Он точно свет. Слушайте Песни «з в е з д н о г о яз ы к а».
«Звездная азбука» дает наглядное представление о том, как из первоатома звука в сознании поэта рождается вся вселенная. Каждое определение звука в «Звездной азбуке» — это формула-образ. С — силы, расходящиеся из одной точки. Это как возникновение вселенной из первоатома — сияние, свет. Модель расширяющейся вселенной. М — наоборот — распыление объема на бесконечно малые части — масса... И так каждый звук таит в себе всю историю мироздания. Азбука в «Зангези» не случайно названа «звездным языком». Ход рассуждений Хлебникова здесь вполне логичен. Если для него в каждом звуке сокрыта пространственная модель мира, как, скажем, в «Слове об Эль», значит, в нашей азбуке зашифрована картина нашей вселенной. Попробуем увидеть эту вселенную, вернее, услышать ее, как Хлебников. Итак, мировое n-мерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого, но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами, и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки», а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства. Тогда «узор точек» заполнит «пустующие пространства», и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной. Звук С будет точкой, из которой исходит сияние. Звук 3 будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это «зигзица» — молния, это зеркало, это зрачок, это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук П будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет парить в пространстве, как парашют. В каждом звуке мы увидим пространственную структуру, окрашенную в разные цвета. Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучныеимена. Тогда человек был пуст, как звук Ч — как череп, чаша. В черной пустоте этого звука уже рождается свет С, а луч преломляется в зрение, как звук 3. Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал «прямостоящее двуногое», «его назвали через люд», ибо Л — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук Л — модель победы над весом. В момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и камни заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:
«Времыши-камыши На озере бреге, Где каменья временем, Где время каменьем».
Да, текущее время будет выглядеть неподвижным и объемным, как камень. На нем прочтем письмена прошлого и будущего человечества. Тогда мы сможем входить во время, как ныне входим в комнату. У времени тоже есть объем. Так же, как в бинокль, можно увидеть отдаленные пространства, мы можем заглянуть в отдаленное прошлое и будущее человечества. Когда откроется пространственно-временное зрение, каждый человек увидит себя в прошлом, будущем и настоящем одновременно. «Звездная азбука» звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое вселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:
«Вы видите умный череп вселенной И темные косы Млечного Пути, Батыевой дорогой зовут их иногда. Поставим лестницы К замку звезд, Прибьем, как воины, свои щиты...»
Но это произойдет в будущем, а сейчас надо устремить во вселенную лавину звуков, «звездную азбуку», несущую весть миру о нашей цивилизации.
«Мы дикие кони, Приручите нас: Мы понесем вас В другие миры, Верные дикому Всаднику Звука. Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав, Конницу звука взнуздай!»
Передавая в иные галактики геометрические модели звуков нашего языка, мы передадим всю информацию о нашей вселенной, ибо эти звуки создали мы, в них отпечатался на всех уровнях облик нашего мира. Ход этих рассуждений глубоко поэтичен, но сегодняшнему читателю далеко не безразличны и мысли Хлебникова о возможностях межкосмических связей, поиски которых ведутся ныне во всех крупных странах, и его попытка создать «звездный язык», над разработкой которого трудятся во' многих космических лабораториях, и, наконец, вполне сбыв- шееся предсказание поэта о том, что к иным цивилизациям мы направим известные нам геометрические структуры. Так, для трансляции в космос сигналов с Земли была выбрана теорема Пифагора. Однако не только во вселенной, но даже здесь, на земле, никто не понимает Зангези. Его покидают все, и он шепчет древнеславянское заклинание, глядя вслед улетающей стае богов и птиц:
«Они голубой тихославль, Они голубой окопад. Они в никуда улетавль, Их крылья шумят невпопад...»
«Звездная азбука» звучит в пустоте, ее не хотят понимать, как нередко не хотели понимать самого Хлебникова. А ведь он был не футуристом, а «будетлянином». И действительно, до зримости и осязаемости предвидел будущее. Многие вдохновенные поэтические пророчества поэта для нас стали бытом. Вот одно из таких предвидений: «...Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы... Если раньше радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния». Это же цветное телевидение — так предчувствовал его Хлебников. Для нас это что-то давно привычное, а для многих современников поэта — футуристический бред безумца. Предвидение поэтов — дело вполне обычное, но иногда оно становится до такой степени реально зримым, точным до мельчайших деталей, что хочется говорить о чуде. Строки Хлебникова читаются в архитектуре сегодняшней Москвы: «Дом-тополь состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминающую высокую колокольню». Разве это не похоже на Останкинскую башню Москвы?! Идя по Калининскому проспекту к зданию СЭВ, как не вспомнить другой отрывок из Хлебникова: «Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен». Есть еще у поэта «дом-пленка», «дом-волос», «дом-корабль» — все очертания современной архитектуры. Есть предвидение «искрописьма» — цветовое табло с бегущими «огненными письменами». Это сбывшиеся пророчества. Как бедны рядом со стихами и творческими замыслами поэта футуристические манифесты, под которыми стоит подпись Хлебникова. Здесь следует ясно осознать, что футуризм давал грубое истолкование хлебниковских идей. Футуристы просто провозгласили самоценность звука как такового. Хлебников открывал в звуке новую поэтическую семантику. Удивимся грандиозности поэтической фантазии Хлебникова, космичности его мировоззрения, его способности проникать в тысячелетние слои культуры на поэтичном до интимности уровне детского лепета древнегреческого Эрота и бранчливого урчания Белеса. Удивимся красоте и возвышенности его «звездной азбуки», древнеславянской вязи корней: улетавль, тихославль, окопад... и откажемся, наконец, от футуристических отмычек к его поэзии. «Мозг людей, — писал поэт в воззвании «Труба Марсиан»,—и поныне скачет на трех ногах». Надо приделать этому «неуклюжему щенку» четвертую лапу — «ось времени». Конечно, такие пророчества звучали тогда почти в пустоте. Их поэтический .смысл и сегодня понятен лишь тем, кто знаком с теорией относительности Эйнштейна, но не будем забывать, что наступит время, когда с теорией относительности будут знакомы все. Главное сейчас — понять, что Хлебникову была глубоко чужда бездумная игра словами и звуками. Глубина его замысла была скрыта от большинства современников. Даже Маяковский, видевший в Хлебникове «честнейшего рыцаря поэзии», назвал однажды «сознательным штукарством» его небольшую поэму о Разине — «Перевертень»:
«Кони, топот, инок, Но не речь, а черен он. Идем молод, долом меди. Чин зван мечем навзничь».
Казалось бы, обыкновенный перевертыш, где каждая строка одинаково читается слева направо и справа налево. Но Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого к будущему и обратно. То, что для других — лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова — поиск новых возможностей в человеческом мировидении. Вопрос об обратимости времени пока остается открытым. Попытки найти математическое доказательство необратимости времени не привели к желаемым результатам. Гипотеза Хлебникова о возможности двигаться из настоящего в прошлое остается вполне актуальной, хотя и фантастичной. В поэтическом мире создателя «звездной азбуки» прошлое и будущее — как бы два измерения времени, создающие вместе с настоящим единый трехмерный объем. «Мы тоже сидим в окопе и отвоевываем не клочок пространства, а время». Хлебников считал время четвертой координатой пространства, не. видимой человеческим глазом и ничем не отличающейся от трех других измерений. Если можно двигаться взад и вперед в пространстве, то почему нельзя так же двигаться во времени? Поэт с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства и времени. Сквозь камень у Хлебникова пролетает птица, оставив на нем отпечаток своего полета. В очертаниях зверей в зоопарке проступают письмена Корана и древних индуистских текстов. В зверях «погибают неслыханные возможности, как в записанном в часослов «Слове о полку Игореве». «Слово» прочли впервые в XVIII веке и читают до настоящего дня, но еще не прочитан тайный язык зверей, птиц, рыб, камней, звезд и растений. Ветви деревьев тянутся к поэту и шепчут: «Не надо делений, не надо меток, мы были вами, мы вами будем». Что-то языческое, древнее проступает в таком поэтическом таинозрении. Здесь действительно все во всем: в очертаниях человеческого лица — звездное небо, в рисунке звездного неба — человеческое лицо. Разин идет со знаменем Лобачевского, и даже утренняя роса на каменном скифском изваянии довершает скульптуру древнего мастера:
«Стоит спокойна и недвижна, Забытая неведомым отцом, И на груди ее булыжной Дрожит роса серебряным сосцом».
Такие метафоры не придумывают — их видят, их прозревают. После Хлебникова трудно иначе видеть росу на каменном изваянии. Кажется, что это не Хлебников создал, а так и задумал мастер. Хлебников писал о «звездном парусе», эту же мысль в Калуге разрабатывал Циолковский, а сегодня такая возможность рассматривается даже на уровне научно-популярного молодежного журнала. «Представим себе,— пишут два инженера,— что солнечная система накрыта громадным экраном — полусферой, удерживаемой на постоянном расстоянии от солнца и перекрывающей половину его излучения. При этом другая половина излучения, подобно лучам фотонного двигателя, создает тягу, под воздействием которой система экран-солнце начнет ускоряться, увлекая за собой всю солнечную систему» (Боровишки В., Сизенцев Г. К звездам на... солнечной системе.— «Техника — молодежи», 1979, № 12, с. 28). Вот, оказывается, какой смысл кроется в хлебниковской метафоре:
«Ты прикрепишь к созвездью парус, Чтобы сильнее и мятежнее Земля неслась в надмирный ярус, А птица звезд осталась прежнею... «Птица звезд» — очертание нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, «фотонная ракета», двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. О «фотонном парусе» поговаривают ныне всерьез. Хлебников мечтал всю галактику превратить в такую «фотонную ракету». Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорит о превращении в корабль всей галактики. Для новых явлений поэт всегда искал и часто находил и новые образы» и новые слова. Эти образы были так же необычны, как зримые очертания будущего мира, открытые в поэзии Хлебникова. Многие его предсказания сбылись, и уже одно это должно заставить сегодняшнего читателя перечитать Хлебникова другими глазами. В своей стройности пространственно-временной миф поэта охватывает все слои его поэтики — от звука до композиции произведения в целом. Даже хлебниковская метафора прежде всего подчинялась этой закономерности. Метафора для Хлебникова есть не что иное, как прорыв пространства во время и времени в пространство, то есть умение видеть вещи, застывшие в настоящем, движущиеся в прошлом и будущем, а вещи, движущиеся и разрозненные в пространстве, увидеть объединенными во времени. В хлебниковской метафоре меньшие предметы часто вмещают в себя большие:
«В этот день голубых медведей, Пробежавших по тихим ресницам... На серебряной ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем буревестник».
Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки; малая вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам. В математических моделях микромира меньшее, вмещающее в себя большее, довольно обычное представление. В поэзии Хлебникова предметы, люди, государства, народы, травы», цветы, животные, живой и неживой миры только кажутся разрозненными. На самом деле они едины. В прошлом — будущее, в мертвом — живое, в растениях — люди, в малом — большое. Прическа таит в себе оленье стадо:
«О девушка, рада ли, Что волосы падали Оленей взбесившимся стадом...»
«Хлебников,— писал Ю. Тынянов,— был новым зрением — новое зрение падает одновременно на все предметы». В своем словотворчестве Хлебников воскрешает первозданный смысл слова. Соединив «могущество» и «богатырь» в «могатырь», он словно вылепил живую скульптуру былинного богатыря. Соединив слова «мечта» и «ничто» в «мечтоги», поэт обнажил первозданную сущность слова «мечта», где есть и «ничто» и «нечто». Метафоричное словотворчество Хлебникова опять же непридуманно, органично. Его «нечтоги-мечтоги», «богатыри-могатыри», «негодяи-нехотяи», его журчащие «нетурные зовы», его словотворчество от корня «люб» — неистовое любовное заклинание: «любхо», «любленея», «любвея»...— воспринимаются так, словно это выписки из словаря «Живого великорусского языка». Иногда созданные Хлебниковым поэтические слова слетали со страниц и облекались плотью живой жизни. Так случилось со словом «летчик», сотворенным поэтом от корня «лет». Слово взлетело в небо, облеклось в голубую форму, стало человеком, летящим в небе. Этому невозможно подражать — это надо чувствовать, чтобы давно знакомые слова звучали в тексте первозданно метафорически. «Сыновеет ночей синева, веет во все любимое...» Можно ли после этих строк написать «дочереет ночь» или что-то подобное? Это будет грубая копия, посмертная маска с живого лица. В слове «сыновеет» уже заключены два последующих слова: синь и веет. Слово вылетает из слова, как маленькая матрешка из большой, а из одного слова, как из сказочного клубка, разматывается волшебная строка. Как в причудливом орнаменте, из птичьего клюва выходит зверь, а из пасти зверя вылетает птица, так у Хлебникова слово порождает другое слово и поглощается им. Все во всем. Идее «все во всем» в поэзии Хлебникова дана соответствующая ритмическая основа. Размеры его поэтических произведений — сознательное смешение музыкальных ритмов Пушкина, Державина, разговорной речи, «Слова о полку Игореве», древних заговоров и заклинаний. Ритмические пространственно-временные «сдвиги» — как бы органический пульс мирового пространства-времени, где все вторгается во все самым неожиданным образом.
«Русь зеленая в месяце Ай, Ой, гори-гори пень. Хочу девку — Исповедь пня.,.»
Эта языческая скороговорка древнеславянского праздника, где слышны все интонации от классического стиха в первой строке, славянской скороговорки во второй до пьяного бормотания парня в третьей. Многообразны ритмы, определяющие движение стихов Хлебникова. В таких его произведениях, как «Дети выдры», «Журавль», «Зангези», они создают ощущение скачков из одной эпохи в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Поэт передает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя. Именно прерывистый пульс. Это не случайно. В записных книжках Хлебникова, хранящихся в ЦГАЛИ, задолго до квантовой механики высказывается мысль о прерывной структуре времени и пространства. Привожу эти записи в моей расшифровке (сохраняю пунктуацию оригинала): «Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно) не имеют строения сетей. Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, опровергнуть меня никто не может, так как прорывы ячейки могут быть сделаны менее какой угодно малой величины. Это [неразборчиво] для общих суждений о природе пространства и о связи величин природы с делом и художественными мелочами. Измерение одной мирка другой величины». Мысль о прерывности пространства и времени стала важной особенностью в композиционном построении многих произведений Хлебникова. Знаменитый «сдвиг», широко пропагандировавшийся футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Для него это скачок из одного измерения пространства в другое через прерывистый барьер времени. И каждый временной «срез» находит в стихах Хлебникова свое ритмическое выражение. Как единый залихватский посвист читаются строки;
«Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачевском тулупчике Я иду по Москве!..»
И рядом прозрачное, как дыхание, славянское заклинание, сотканное из света и воздуха:
«А я из вздохов дань Сплетаю в духов день...»
Хлебников может писать плавно и мелодично:
«Ручей, играя пеной, пел, И в чаще голубь пролетел. И на земле и в вышине Творилась слава тишине».
Но:
«На чертеж российских дорог Дерево осени звонко похоже»,—
а значит, иной, грохочущий ритм:
«Ты город мыслящих печей И город звукоедов, Где бревна грохота, Крыши нежных свистов И ужин из зару и шума бабочкиных крыл...»
Его стихи сохраняют первозданное значение, из которого возникло само название поэтического жанра: «стихи» — стихия. Неукротимая звуковая стихия хлебниковского стиха переполняет слух, как его зримая метафора переполняет зрение. Ощущение полноты жизни здесь таково, что неопытному слушателю можно захлебнуться звуком и образом. Здесь нужен опытный пловец и опытный кормщик. Об этом говорит сам поэт:
«Еще раз, еще раз Я для вас Звезда. Горе моряку, взявшему Неверный угол своей ладьи По звездам: Он разобьется о камни, О подводные мели. Горе и вам, взявшим Неверный угол сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни...»
«Угол сердца» к поэзии Хлебникова один: его «звездная азбука», его пространственно-временное зрение.
Добавил : fly-1
Теги работы: кедров хлебников звезднаяазбука
Новости:
«Классика. Лучшее из великого» во Франкфурте
Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction пройдет в Москве
Японцы провели реформу языка
Сергей Миронов: «Россиянам не нужно стесняться своей истории»
2-й Международный конкурс иллюстраций (графики) «Гоголь-фэнтези»2010
Дети, рисуйте свою сказку!
Саакашвили приложился лбом, а грузинская делегация развлекалась с проститутками
По итогам переписи потерялся миллион россиян
Интервью с Владимиром Мединским
Любите читать? Заработайте на своем хобби!
HDD накопители дисководы 3.5" Western Digital 23687
3 184 p.
Мониторы Телевизоры Проекторы BenQ 24086
6 430 p.
HDD накопители дисководы 3.5" Western Digital 17968
3 137 p.
комментировать / написать рецензию
Путь:
Название:
Автор(если не Вы): Выбрать
Изображение (если есть):
Текст:
Путь:
|
Метки: азбука хлебников |
Кубофутуристы ДООС Хлебникову 11ноября 2010 |
Дневник |
|
Метки: хлебников маяковский кубофутуристы доос |
Вселенная Велимира Хлебникова к 125-летию |
Дневник |
|
Метки: кедров хлебников лобачевский |
Остров Хлебников Философская драма к125летию |
Дневник |

http://www.gogol.ru/literatura/knigi/_k_125letiyu_velimira_hlebni/
Остров Хлебников
У поэта нет биографии – только вечность.
Вечность Хлебникова начиналась или, правильнее, продолжалась в 28-ми древнекитайских иероглифах, изображающих зодиак в течение месяца. Каждую ночь месяц в том или ином созвездии или в части созвездия. Где-то в середине он станет круглой луной. Круглой, как буква «О», а потом начнет убывать и исчезнет из поля зрения в виде тающей и таящей буковке «С».
Азбука Хлебникова древнее, чем любой зодиак. Она начинается не с буквы «А», похожей на созвездие Тельца, а с возникновения мира. С точки, из которой во все стороны брызжет свет. «С» – первая буква в азбуке. Свет. Солнце. Сияние. Для темной массы сгущающихся планет и галактик Хлебников выбрал букву-звук эМ. Нечто незримое, но массивное. Масса. Музыка. Молчание.
Для разлетающейся вселенной буква-звук Пэ. Порох. Пламя. Пар.
Для луча, преломленного в зрачке, в линзе, в зеркале, конечно же, Зэ.
Сам Хлебников об этом достаточно написал. Он ушел намного дальше Ломоносова, Рембо, Андрея Белого, которые, так или иначе, догадывались о вселенской природе всех звукобукв.
Буквы только кони. Алфавит – конница. С ней предстоит вломиться в костенеющую вселенную и переозвучить всю космологию и историю. Проект Пифагора – подчинение людей мировой гармонии. Проект Хлебникова – создание своей гармонии и полное переподчинение мироздания. Человек не часть, а движущаяся часть космоса. Не часть космоса, а больше, чем космос.
Если это все сформулировано невнятно, наспех, то лишь из-за отсутствия земного времени. Объявив войну времени, Хлебников отвоевал вечность. Но вечности всегда не хватает.
Добросовестный Ромка Якобсон написал «Грамматику поэзии». Он так ничего и не понял. Добросовестное описание грамматических сдвигов лишено у Якобсона главного смысла. Грамматика – это время и пространство, запечатленные в звуке. Хлебников провозглашает победу не только над солнцем – символом космической данности, но и над временем. А, следовательно, нужна совсем другая грамматика. Правда, ее футуристы создать не успели, забуксовав на азбуке.
Архитектурные планы космического Чингисхана и звездного Батыя лишь отчасти приоткрыты в мистерии «Зангези», в отрывке «Любхо», в «Ка» и в «13-й танке Чао». Нам достались только развалины и обломки пушкинско-гомерической Трои. К сТРОИтельству футуристы только-только приступали в конструктивизме.
Поэзия Хлебникова – троянский конь внутри пушкинской Трои. Но самому поэту-будетлянину отнюдь не безразличны обломки и осколки колонн от разграбленных и поверженных святилищ. По сути дела вся его поэтика состоит из таких обломков. Он разрушал, созидая, и созидал, разрушая.
Задолго до «Герники» Пикассо была создана словесная Герника Хлебникова. Но не спешите обвинять будетлян в разрушении. Они не сожгли ни одной картины. Не взорвали и не свергли ни одну статую. Рушился мир, и они это увидели раньше, чем с неба посыпались бомбы. Раньше, чем утонул «Титаник». Но они этот мир нисколько не жалели. Как ранние христиане, они радовались падению вещного Рима. Но нисходить до революционного бомбометательства Хлебников не собирался.
Его метафизическая война с пространством Евклида и временем Ньютона началась еще в студенческие годы.
Пока студенты университета, основанного автором «Воображаемой геометрии» Лобачевским, воевали с конной полицией, Хлебников воевал с Ньютоном и Евклидом в союзе с Лобачевским и Эйнштейном.
Смешно до колик, когда Хлебниковым занимаются специалисты, ничего не смыслящие ни в «Воображаемой геометрии», ни в специальной теории относительности. Суровый Числоводск – первый наставник Хлебникова во всем. Геометрия Лобачевского – это всего лишь геометрия Евклида, спроецированная на вогнутую седловинную поверхность. Но из этого «всего лишь» проистекают самые неожиданные последствия.
«Воображаемая геометрия» натолкнула меня на мысль устроить воображаемую беседу с Хлебниковым и Лобачевским. В этот разговор время от времени могут вторгаться и другие лица, а при желании может включиться каждый читатель. Назовем эту беседу «Новый Альмагест».
Новый Альмагест
Лобачевский. Мы неправильно видим мир. Он состоит вовсе не из ровных идеальных евклидовых плоскостей и объемов. На самом деле, в мире пространство вогнуто, а на вогнутой поверхности все по-другому.
Хлебников. Я понял. Есть доломерие (геометрия) Евклида – это Пушкин. И есть доломерие Лобачевского – это я.
Я. Значит «Бобэоби пелись губы» – это под влиянием Лобачевского?
Хлебников. Несомненно. Звук в изогнутом пространстве совсем не тот, что в прямом, стало быть, там и слова, и звуки, и сама грамматика должны изменяться и не походить на нашу земную речь.
Лобачевский. Я встречался с Пушкиным однажды, и мы бродили с ним по ночной Казани всю ночь. Я объяснял ему «Воображаемую геометрию».
Я. После этой встречи Пушкин записал в своем дневнике, что «воображение в геометрии нужно не менее чем в поэзии».
Хлебников. Лели-лили – снег черемух.
Лобачевский. В моем пространстве взгляд, брошенный в любую, самую отдаленную даль, рано или поздно искривится и вернется к себе как бы изнутри.
Я.
Я вышел к себе
через-навстречу-от
и ушел под
воздвигая над
Хлебников.
И пусть пространство Лобачевского
летит с знамен ночного Невского.
Эйнштейн. На самом деле геометрия вселенной оказалась Римановой. Пространство-время изогнуто, но не внутрь, а наружу. Образно говоря, Лобачевский думал, что мы внутри шара, а мы на его поверхности.
Я. Поверхность – это условно сказано. Речь идет о четырехмерном пространстве-времени.
Хлебников. Самое великое событие – это вера четырех измерений.
Я. Смешно, что эта запись Хлебникова, сделанная после знакомства с общей теорией относительности, истолковывается А.Парнисом, как упоминание о четырехконечном приспособлении для изготовления пасхи. Хлебников, кстати, был убежденным буддистом. Он родился в столице буддизма, в Ставке под Астраханью и придавал этому нешуточное значение.
Хлебников. Я соединил учение о переселении душ с древнеегипетским учением о трех двойниках человека: Ха, Ка, Ба.
Я. Об этом и «Ка», и «Зангези», и «Дети выдры».
Минковский. Но вы обогатили буддизм и Древний Египет теорией относительности Эйнштейна.
Лобачевский. И «Воображаемой геометрией».
Хлебников. Три двойника – это я в прошлом, я в будущем и я в настоящем. Все трое мы существуем всегда.
Я. Ну да, в прошлом вы – Омар Хайям, в настоящем – Лобачевский, а в будущем – Хлебников. Вы твердо верили, что это одно лицо. И еще это напоминает Троицу. Каждый человек, как отражение Божие, тоже един в трех лицах. Отец – Сын – Дух Свят. Отец – прошлое, Сын – будущее, Дух Свят – сейчас, и все едины в Вечности. Это я немного с вами домыслил.
Хлебников. Храм выстрела в руке!
Я. Это «Смерть будущего». Там вы жмете руку своему убийце, поскольку это приближает вас к будущему.
Хлебников. Никто не понял, о чем идет речь. И с ужасом я понял, что надо сеять очи. Что должен сеятель очей идти.
Тынянов. Хлебников был новым зрением. Новое зрение падает одновременно на все предметы.
Павел Челищев, Павел Флоренский. Это сферическая обратная перспектива, которую мы открыли в иконах. Сферический зеркальный шар отражает все со всех сторон сразу. Тут нет верха и низа. Правого и левого, внутреннего и внешнего. Здесь все во всем.
Хлебников.
И когда знамена оптом
понесет толпа ликуя
я проснуся в землю втоптан
пыльным черепом тоскуя.
Я. Хорошо вы сказали про Маркса и Дарвина:
«Завелись два бородатых,
все слушают бород лохматых».
Хлебников. Это мой Ганнибал говорит:
Итак, причина у войны,
что многие весьма жирны.
Я. И еще:
«На острове вы,
зовется он Хлебников.
Среди разъяренных учебников…»
Лобачевский. Но настоящую науку я любил. Все-таки сын профессора орнитологии.
Я. Вы, Николай Гаврилович, немного сбились – говорите от лица Хлебникова.
Хлебников. Но Лобачевский – это ведь и есть я в настоящем.
Омар Хайям. А я Хлебников и Лобачевский в прошлом.
Я. Тут самый сложный момент гипотезы Велимира. Относительность понятий прошлое, будущее и настоящее.
Эйнштейн. Не путайте это с теорией относительности.
Хлебников. Я все понял правильно:
Итак, время относится к весу,
как бремя к бесу.
Эйнштейн. Это уже не специальная, а общая теория относительности и переход к теории гравитации, как следствие искривления пространства-времени.
Я. Хлебников это сразу понял. Искривление пространства-времени проистекает из геометрии Лобачевского, а он – Лобачевский в настоящем.
Эйнштейн. Но кривизна оказалась не отрицательной, как в седловине, а положительной, как на шаре. Не по Лобачевскому, а по Риману.
Я. Геометрия Лобачевского – частный случай геометрии Римана. Вы, господа, просто еще не дошли до теории выворачивания, которую я создал в 1978 году под вашим влиянием:
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека.
Первая строка – Лобачевский, вторая – Риман.
Риман. Или наоборот.
Я. Любопытствующих отсылаем в раздел топологии (не путать с патологией). Там есть терема выворачивания.
Хлебников. Но до выворачивания я не дошел ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.
Я. А, может, и дошли. Может, я – это Хлебников в будущем, а Риман – я в прошлом.
Читатель. Голова кр?гом, господа, от ваших построений.
Я. Это не построения, а реальность.
Лобачевский. Все думают, что моя геометрия нечто непредставимое. На самом деле, войдите в комнату смеха с вогнутыми зеркалами. На их поверхности моя геометрия и ваши лица, спроецированные по ее законам.
Флоренский. Это закон обратной перспективы. Точка проекции позади вас, а вы внутри изображения. Внутри своего лица. Оно вас обхватывает.
Риман. А в комнате смеха с выпукло-вогнутыми зеркалами моя геометрия. Вы обнимаете всё. Всё обнимает вас.
Тютчев.
Час тоски невыразимой,
все во мне и я во всем.
Маяковский.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Риман и Лобачевский. Мы вывернули!
Маяковский. Выворачивайтесь в марше!
Я. Не в марше, а в любви. Женско-мужская геометрия тел сама моделирует выворачивание. И на телесном, и на духовном уровне.
Женщина-математик из фильма «17 мгновений весны». В любви я Эйнштейн!
Эйнштейн. Получается, что в науке я Шекспир, автор «Ромео и Джульетты». Чтобы отразить геометрически их любовь, нужны Риман и Лобачевский.
Я. Без меня не обойдетесь. Нужно еще и выворачивание.
Хлебников.
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
Я.
Невеста лохматая светом
невесомые лестницы скачут
она плавную дрожь удочеряет
она петли дверные вяжет
она пальчики человечит
стругает свое отраженье
на червивом батуте пляшет
ширеет ширмой мерцает медом
под бедром топора ночного
рубит скорбную скрипку
тонет в дыре деревянной
голос сорванный с древа
держит горлом вкушает либо
белую плаху глотает
Саркофаг щебечущий вихрем
хор бедреющий саркофагом
что ты дочь обнаженная
или ты ничья
или звеня сосками месит сирень
турбобур непролазного света
дивным ладаном захлебнется
голодающий жернов – 8
перемалывающий храмы
В холеный футляр двоебедрой
секиры можно вкладывать
только себя
Пикассо. «Рубит скорбную скрипку» – это под влиянием моей скрипки.
Я.Конечно. Скрипку как ни разруби, она все равно скрипка. Лекало лекал.
Хлебников. Это есть в моем первом прозаическом отрывке. Голубизна василька должна слиться с кукованием кукушки. Слух и зрение – это время и пространство, они должны слиться. Пусть на моей могиле напишут: «он связал пространство и время».
Я. Ну да, вы тогда только что узнали о докладе Минковского.
Минковский. Отныне время само по себе и пространство само по себе становятся пустой фикцией.
Я. Многие до сих пор не понимают, что такое пространство-время или время-пространство Минковского.
Минковский. Многие до сих пор не поняли, что я открыл. Время и пространство зависели друг от друга и у Ньютона. У меня же любая точка в пространстве тотчас растягивалась во времени, и любая точка во времени тотчас растягивалась в пространстве. Никакой точки времени или точки пространства. Есть только отрезки прост-времени. Они сливаются в линию мировых событий.
Я. Лимис.
Минковский. Что?
Я. Линия Мировых Событий – Лимис.
Минковский. А как обозначим пространство-время?
Я. Таймраум. Тайм по-английски – время. Раум по-немецки – пространство.
Бахтин. Я предлагал хронотоп. Хронос – время, топос – пространство.
Эйнштейн. А я предлагал пространственно-временной континуум.
Я. Проврекон.
Хлебников. Новые слова редко прививаются. Я придумал слово «летчик» и «льтица». До этого был авиатор. Летчик привился, а льтица отлетела.
Я. Я придумал слово «метаметафора» для выворачивания в поэзии, и еще «инсайдаут». Метаметафора привилась, инсайдаут выпал.
Крученых. Дыр бул щил убещур скум.
Я и Хлебников. Привилось!
Щерба. Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка.
Я, Хлебников, Крученых. Привилось!
Лобачевский. Воображаемая геометрия.
Все. Привилось!
Эйнштейн. Пространственно-временной континуум.
Все. Не привилось!
Минковский. Линия мировых событий.
Все. Привилось, но длинно.
Сергей Капица. Я говорю просто: мировая линия.
Я. Может все-таки лимис и раумтайм?
Все. Посмотрим.
Я.
Раумтайм, раумтайм, улыбнитесь,
ведь улыбка – это флаг корабля.
Раумтайм, раумтайм, подтянитесь,
только смелым покоряются моря.
Хлебников.
Времыши-камыши
На озера береге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
На берега озере
Времыши, камыши,
На озера береге
Священно шумите.
Эйнштейн. Это уже ОТО.
Все. Что?
Эйнштейн. Это уже не специальная, а общая теория относительности – ОТО.
Хлебников.
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!
Раумтайм
Хлебников рассуждал так: если год – это оборот земли вокруг солнца за 365 дней, значит через каждые 365 лет должны повторяться одни и те же события, как повторяются времена года.
Если месяц за 28 дней превращается в луну и снова в месяц, значит через каждые 28 лет события должны повторяться.
Но если есть повторы событий, значит должны быть и противоположные – контрсобытия.
Дальше шел Пифагор. Повторы через 2n – четные. Контрсобытие через 3n – нечетные.
Введя коэффициенты v2n и v3n , умножив на них 365, Хлебников получил число 317 для событий противоположных.
Так в 1912 году в статье «Учитель и ученик» он предсказывает, что в 1917 следует ждать падения империи. Он не знал, какая это будет империя: Британская, Австро-венгерская, Французская. Пала Российская империя.
Вычисления Хлебникова на уровне школьной математики пестрят ошибками. Его «Доски Судьбы» проверялись в лаборатории академика Колмогорова. Результат отрицательный. Дело не в математике.
Хлебников понял главное: прошлое, будущее и настоящее никуда не исчезают. Они существуют всегда.
Он озвучил свою модель бессмертия своими стихами и заселил ее вечными двойниками себя по имени Ка и Зангези.
Теломерие
Я. Единственное, в чем я не согласен с Хлебниковым, – это в названии. Он заменил геометрию Лобачевского доломерием. Но почему мы должны измерять мир каким-то гео или доло. Я предлагаю вместо геометрии и топологии «теломерие».
Тело – это лекало неба
Небо – это лекало тела
Если вы посмотрите на звездное небо в обратной перспективе, оно окажется все внутри вас.
Хлебников.
Я, тать небесных прав для человека,
Запрятал мысль под слов туманных веко.
Но, может быть, не умертвил,—
взор подарит свой Вий
Тому, кто на языке понятном молвит:
« Главу-дерзавицу овей!»
Мы полетим в космос, не сходя со стульев земного шара!
Я. Да, да. Был еще и такой план:
«Ты прикрепишь к созвездью парус
чтобы сильнее и мятежней
земля неслась в надмирный ярус
а птица звезд осталась прежней».
Разумеется, футуризм устарел. Переделывать космос, минуя законы Творца, начертанные в человеческом сердце, – это в высшей степени аморально. Расплата была ужасной:
«И на путь из звезд морозных
Полечу я не с молитвой.
Полечу я мертвый, грозный
С окровавленною бритвой».
За все надо платить. За свою «Воображаемую геометрию» Лобачевский расплатился слепотой. За свою звездную азбуку Хлебников расплатился параличом и классически ранней смертью в каноническом возрасте 37 лет. До такого же возраста дожил Маяковский не то застреленный, не то застрелившийся.
Маяковский. В ночи Млечпуть серебряной Окою…
Хлебников.
Кто меня кличет из Млечного пути?
А? Вова!
В звезды стучится!
Друг! Дай пожму твое благородное копытце!
Маяковский.
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданью
Хлебников.
Мы устали звездам выкать
Мы желаем звездам тыкать!
Маяковский.
Прямо
перед мордой
пролетает вечность –
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
и в белье, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.
Впречь бы это
время
в приводной бы ремень, –
спустят
с холостого –
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.
Я. Гениальная мысль, проговоренная как бы шутя. Грандиозный переворот предлагает Маяковский как истинный футурист. Пусть время двигает нам часы, чтобы мы жили вечно. Вот что за этим кроется. Индустриальное освоение времени уже началось. Пока на уровне квантовых процессов микромира. Эффект Эйнштейна – Подольского подтвердился. Машина времени на квантово-информационном уровне возможна.
Хлебников. Я же говорил о лучах времени, преломляемых в наших линзах.
Я. Вы говорили еще о звуках.
Хлебников. Пусть мглу времен развеют звуки азбуки мирового языка.
Я. Помню, помню. С – сияние, исходящее из одной точки (свет, солнце, снег). П – разлетающийся объем (пар, порох, пух). М – уплотняемый объем (масса, мир, мозг). Ч – полая пустота (чаша, череп, челн). В – вращение вокруг центра (время, веревка, вихрь). З – луч преломленный и отраженный. Честно говоря, конкретика меня здесь мало волнует. Важен принцип. Конница звуков врывается в мироздание, как Батый: «лавой беги, человечество, конницу звуков взнуздав». Я горлом чувствую вашу высшую правоту. И сегодня космологи говорят, что в основе возникновения мира некая вибрация, мировой звук.
Хлебников. Это уа – ау. В нем весь объем мира. Уа – начало, брошенное вдаль. Ау – отклик. Эхо возвращается обратно, измерив и воссоздав весь мир.
Я. Кстати, ОМ или АУМ – священный санскритский слог, очень похожий на это уа-ау.
Хлебников.
Стоит Бешту,
как А и У,
начертанные иглой фонографа.
Я. Мир был для вас большой граммофонной пластинкой. Пластинку можно разбить. Музыка останется.
Хлебников. Я говорил о звукоряде событий. Катастрофа событий.
Я. Да, вы в нее попали.
Хлебников. Манч, манч, эхамчи, Нефертити, помогай (падает, зажимая рану рукой).
Я. Нет, это падает Маяковский.
v-1
Хлебников. Я всего лишь корень из нет единицы.
Я. Гениальная идея. Если я занимаю место в раумтайме, значит, я вытесняю некое не-я или анти-я.
Хлебников. Есть мнимые числа, стало быть, есть...
Флоренский. …мнимости в геометрии. Потусторонняя сверхсветовая реальность.
Я. Мне удалось домыслить эти идеи. Если предельная скорость света 300000 км/сек – барьер физической реальности, значит за этим барьером реальность духа. Скорость мысли больше скорости света. Проще говоря, информационный мир подчиняется сверхсветовым моделям.
Гёдель. Я смоделировал, что будет за световым барьером. Время устремится из будущего к прошлому.
Хлебников. Я это уже знал в мистерии «Мирсконца». Мертвый встает из могилы, выходит из гроба и так от гроба до детской колыбели.
Я. Это мир, лишенный трагизма. Если бы мы начинали жизнь в могиле, потом воскресали, жили, а заканчивали жизнь в материнской утробе… Есть поговорка: «Мама, выроди меня обратно!» Начать жизнь старцем и плавно закончить ее младенцем. Может, так и выглядит наша смерть там, за световым барьером?
Хлебников. Я в чистом неведении писал свой «Перевертень», пока вдруг не почувствовал, что в строке, читаемой в обратную сторону, время движется из будущего в прошлое.
Я. Вот вам и футуризм. Не переименовать ли его в перфектизм? Называли вы себя будетлянином, а сами туда, к Аменхотепу, Эхнатону и Нефертити. «Ка» – самая гениальная вещь, шедевр шедевров, да и в «Зангези» Юнона очищает свое мраморное тело от ржавчины напильником. А там Перун, Велес, Улункулулу, мавки, лешие. Все логично, как в поэме «Шаман и Венера», где античная богиня приходит к сибирскому шаману.
«Венера:
Меня забыл ваять художник
Мной не клянется больше витязь.
Народ-безумец, народ-безбожник,
куда идете? Оглянитесь!»
Хлебников. Я вижу конские свободы и равноправие коров.
Я. Вы и это видели! Будущее было вам нужно, как тетива для полета в прошлое – туда.
Маяковский. В простое, как мычание.
Крученых. Дыр бул щил убещур скум.
Я. Недавно антропологи реконструировали глотку первочеловека. Получается, что легче всего и чаще всего произносился в праречи звук «ы». По-абхазски человек – аоуы. Я этого не знал, когда создавал в 1980 году свою «Мелодию для зурны».
А Дюляра
О Дюляра
У Дюляра
Ы Дюляра
АОУЫ Дюляра
Хлебников, Маяковский, Крученых, я. Дыр бул щил убещур скум, м-м-м-м-м, п-п-п-п-п, аоуы, уа-ау, бобэоби, бо-бо.
Я. Туфато артифи фируль парайя пилла.
Хлебников.
Ра-ум
Пра-ум
При-ум
Вы-ум
За-ум
Бейте в благовест ума
Крученых. Пращур ящур убещур скум
Хлебников.
Они голубой тихославль,
Они голубой окопад.
Они в никогда улетавль,
Их крылья шумят невпопад.
Мы, низари, летели Разиным. Чувствуете божественную нет-пустоту, v-1 при движении строки туда и обратно?
Я. От колыбели к гробу, от гроба к колыбели. Это и есть формула бессмертия Велимира Хлебникова, спроецированная в мировую историю. Тут есть нечто весьма знакомое. То самое воспоминание о будущем. Да, наша мысль и душа живут в вечности. Мы все уже умерли в будущем и родились в прошлом.
Эйнштейн. Но прошлое и будущее – это человеческая иллюзия, не имеющая физического смысла. Я об этом своему сыну написал незадолго до своей смерти.
Хлебников. А я это понял даже раньше вас лет на 30. Если и то, и другое – иллюзия, почему не поменять их местами?
Я. Так Хлебников с помощью рокировки будущего и прошлого духовно победил смерть.
Часы для вечности
Лично мне все стало ясно где-то в 15 лет. Вернее, я даже точно помню, когда это было. 30 августа 1958 года в полночь в Измайловском парке недалеко от метро.
Я вдруг почувствовал всю полноту времени и пространства. Исчезла граница между внешним и внутренним. Во времени произошла рокировка прошлого с будущим. И то, и другое сошлось в настоящем. Уже тогда я мог бы начертать модель часов вечности.
Это объемная лента Мебиуса, закрученная двойной спиралью.
Стрелки на двух циферблатах справа и слева вращаются по направлению к центру. К настоящему. При этом сам центр тоже перемещается. Упрощенно можно сказать, что время на двух циферблатах из прошлого и будущего движется всегда к настоящему. Настоящее – условный центр, где спиральная лента Мебиуса перекручивается и таким образом проецирует ход в обратном направлении из настоящего в будущее и прошлое.
На таких часах и прошлое, и будущее, и настоящее постоянно меняются, воздействуя друг на друга. Например, времена религиозных реформаторов Эхнатона и Нефертити стали совсем другими, когда мы увидели их глазами людей 21-го века. Надо ли говорить, как будущее воздействует на настоящее и прошлое, и как прошлое с настоящим меняют будущее.
Тогда смерть и рождение видятся в проекциях. Одна привычно житейская. Сначала родился, потом умер. Другая – сначала умер, потом родился. Так же меняется и пространство, рокируя внутреннее (я) и внешнее (мир). При этом человек становится больше вселенной.
И, может быть, гора кровавых тел
не может быть горю никогда,
поскольку тело больше, чем гора любая.
Хлебников. Ну и я так мыслил:
И пусть невеста , не желая
Любить узоры из черных ногтей,
И вычищая пыль из-под зеркального щита
У пальца тонкого и нежного,
Промолвит: солнца, может, кружатся, пылая,
В пыли под ногтем?
Там Сириус и Альдебаран блестят,
И много солнечных миров…
А во времени я в прошлом – Омар Хайям, в будущем Хлебников, а настоящем Лобачевский.
Омар Хайям и Генрих Сапгир.
Поскольку все, что в мире существует,
уйдет, исчезнет, а куда – бог весть,
все сущее, считай, не существует,
а все несуществующее есть!
Хлебников. Ну да. Я есть v-1, корень из нет-единицы.
Флоренский. И я об этом пишу в своем главном труде «Мнимости в геометрии».
Я. Да ведь и христианство считает смерть жизнью вечной. Христос вокресе из мертвых, смертию смерть поправ. Смерть попирается только смертью. Этот переход к весной жизни на часах вечности выглядит как точка выворачивания объемной ленты Мебиуса в четырехмерность раумтайма Минковского.
Лобачевский. В моей геометрии это выглядит как смена отрицательной кривизны на положительную или наоборот.
Риман. Нет, это уже в моей геометрии. Ваша – только для отрицательной кривизны.
Лентулов. Выходит, что когда я изобразил внутреннее пространство Иверской часовни снаружи, а часовню поместил внутри ее «внутреннего» пространства, я это сделал по Риману и Лобачевскому?
Я. Пожалуй, это единственный случай в мировой живописи рокировки внутреннего и внешнего, но только мне это удалось проделать не с предметом, а с человеком. Я просто это сам пережил и увидел и ни у кого не нахожу ничего подобного. Я обозначил это четырьмя терминами: выворачивание, инсайдаут, метаметафора и еще антропная инверсия. Посмотрим, что более приживется. Сегодня лидирует метаметафора.
Мета-мета
Я.Это мой друг Генрих Сапгир придумал так обозначить все, что я делаю. Мета-мета. Я долго рассказывал ему в Париже о метаметафоре. Когда мы подошли к мосту через Сену возле замка в центре Парижа, он сказал: «Я понял. То, что близко и внутри, то на самом деле далеко в космосе. А то, что в космосе, далеко, на самом деле внутри и близко». Это было в мае 1991 года.
Николай Кузанский. Бог не на небе. Бог ближе, чем вы думаете. Он ближе к нам, чем мы сами близки к себе.
Игорь Холин.
Небо уходит вглубь
Звезды уходят вглубь
Море уходит вглубь
Глубь
Ты меня приголубь
Костя! Никого не слушайте, делайте, что хотите!
Роман Якобсон. Я так и не понял в связи с грамматикой. Что получится, если подвергнуть выворачиванию грамматику?
Я. Читайте мой «Верфьлием»:
Всему тихо их постепенно
потому что исповедально хотеть люблю…–
или «Партант».
Мне чашельно и немного чайно
Сатурно юпитериально
И молнит в над
Всемирно-ближне отклоненный
Коронарно-югенд партант
Партант оповещант
Юго-радостно
Восточно-печально
Парашютно и вне губнея
Простирательно в ничтоже сумняшеся
Ты пес и тебе псово
И псу тебейно
И я тебе песнь тобойно псово
Итака атака Киото и таково
Холин. Да, мы двигались в этом направлении, но почему-то забуксовали. Да и вы «Партант» и «Верфьлием» создали в 88-ом году, а что дальше?
Я. Потом было квантование смысла в «Гамме тел Гамлета». Квантование до одной буквы.
Офелия вошла буквой А
села буквой В…
Могильщик роющий могилу буквой М
выбрасывает прах наверх буквой Г
ГМ-ГМ-ГМ…
Сошлись в поединке
Сомкнулись шпаги – Х
Гамлет выбивает шпагу у Лаэрта – У
Лаэрт занес клинок над Гамлетом – Й
Теперь вся сцена в движении
Х Й У
У Й Х
Й У Х
Бенедикт Лифшиц. Вначале мы думали, что нашим союзником станет потомок Бурбонов, профессор Казанского университета Бодуэн де Куртене.
Де Куртене. Я учил, что слово состоит не из звуков, а из минимальных смысловых единиц – фонем.
Я. Никто толком не знает, что такое фонема. Например, если слово «корова» написать «карова», смысл не изменится. Значит «а», «и», «о» не фонемы. Если сказать «каова», все равно все поймут, о чем идет речь. Значит и «р» не фонема в этом слове. А вот если вместо «серп» сказать «сеп», смысл пропадет. Вот в этом контексте «р» – фонема».
Немы
фонемы
не мы
Мы не-
мы
Я пишу не звуками, а фонемами.
Хлебников. Фонемы это и есть нет-единицы звуков, v-звука.
Я.
Йа лавлю
Ай лав ю
Ай лав’юга
Ай lavина
Хлебников.
Умрутные голуби
Ужасокрыл смирился улетая
Нежеоты темный ствол
Нильс Бор. Ваши фонемы похожи на кванты. То ли звуки-частицы, то ли волны-фонемы. Все зависит от контекста.
Альберт Эйнштейн. А как же парадокс Розена-Подольского?
Я. Сегодня выяснилось, что это не парадокс, а реальность. Суть примерно в том, что если на одной части земного шара вы определили или, если хотите, вызвали квант как частицу, то в другом отдаленном месте этот же квант определится как волна. Получается, что кванты на расстоянии телепатируют и сигналят своему двойнику, чем ему быть – частицей или волной.
Эйнштейн. Получается, что сигнал передается мгновенно со сверхсветовой скоростью, но это физически невозможно.
Я. Физически невозможно, а духовно – информационно – возможно. Скорость сигнала или, если хотите, мысли на квантовом уровне больше скорости света. Там метаметафора.
Эйнштейн. Я так и не смог смириться с этим при жизни.
Я. Зато ваши возражения и сам этот мысленный эксперимент стали прорывом в науке и в поэзии.
Эйнштейн. В поэзии?
Я. Да. Смысл в поэзии всегда за пределом смысла. Вот Пушкин все рассказал, и поэзия улетучилась, хотя он гений. Вот Хлебников что-то лепетал. Ничего непонятно, и все – поэзия.
Бор. Нет, тут принцип дополнительности между высказанным и невысказанным. Там и прячется поэзия.
Хлебников. Крылышкуя золотописьмом тончайших жил…
Я. Да, да, «крылышкуя»! Потом я узнал, что кузнечик, о котором вы пишете, на самом деле – название птички, и поэзия улетучилась. Крылатый кузнечик – поэзия. Крылатая птичка – проза.
Борис Пастернак. За стаканчиком купороса ничего не бывало и нет.
Я. Я-то думал, что вы купорос хотели выпить, как Радищев, а потом выяснилось, что стакан с купоросом ставили между рамами, чтобы стекла не покрывались морозным узором.
Гавриил Романович Державин. В звездах не превращусь во прах!
Я. Все думали, что речь идет о звездах на небе, а вы имели в виду ордена на мундире. Прощай, поэзия.
Эйнштейн. Так что же в таком случае поэзия?
Я. Стоит дать определение, и она тотчас же улетучится.
Курт Гёдель. Да, да, это в моей теореме о неполноте языка. Если высказывание верно, оно неполно. Высказывание полно, оно неверно.
Я. Чистейшая поэзия.
Машина времени
Хлебников. Лучи ума из прошлого и будущего будут спроецированы в специальные линзы. А потом мы научимся проецировать в прошлое и будущее свое Я. так я отправил себя во времена Эхнатона и Нефертити с помощью «Ка».
Я. Это я за вас слегка все домыслил. И позволю себе заметить, что линза времен уже создана. Это наш мозг.
Лобачевский. Ясно, что оптика этих линз строится по законам Воображаемой геометрии.
Я. Раз мир подчиняется геометрии Римана, то его нет-единица v-мир подчиняется геометрии Лобачевского с обратной перспективой и отрицательной кривизной.
Павел Челищев. Спасибо тебе, двоюродный внучек. Ты стал мне родным уже в тот момент, когда я спроецировал тебе оттуда свое послание, и ты все понял и написал:
«Я взглянул вокруг и удивился:
где-то в бесконечной глубине
бесконечный взор мой преломился
и вернулся изнутри ко мне»
Семен Кирсанов (молодой футурист, ученик Маяковского).
Как, разве оптика глазная
была неточной и неверной,
туманно зренью представляя
наш ясный мир четырехмерный
Я. Четырехмерность Минковского-Эйнштейна не следует путать с четырехмерностью пространства, что и сделал Хлебников.
Хлебников. Люди, мозг людей и доныне скачет на 3-х ногах. Мы приделываем этому щенку четвертую лапу – время.
Я. Да, великий Велимир не понял, что речь идет не о времени и пространстве, а о раумтайме. Но это не помешало ему создать гениальные феерии на тему: время – это четвертая координата пространства. Он вывел нас из вселенной Ньютона на ничейную полосу между Ньютоном и Эйнштейном. Мне предстояло совершить следующий шаг.
Эйнштейн-Минковский. Добро пожаловать в нашу вселенную раумтайма и метаметафоры.
Я. Ба, да здесь уже и без меня народу полно: Кандинский, Малевич, Пикассо, Лентулов. А где же друзья поэты?
Минковский. Как ни странно, художники обогнали. Зрение опередило слух. Глаз обогнал ухо. Живопись увидела то, что еще не обозначено словом.
Эсхер. А мою графику вы забыли?
Я. Нет, не забыли. Просто это где-то на грани между геометрией и поэзией.
Эсхер. Но ведь и у вас такие же переходы:
«Я – язычник языка
Я янычар чар
Язык мой немой
Не мой»
Хлебников. А мы не слишком далеко ушли от машины времени7
Я. Наоборот. Только сейчас мы к ней и приблизились. Вы придали времени все свойства пространства. В том числе возможность двигаться в нем туда и обратно. Космологи говорят, что есть области вселенной, где время «опространствливается». Что это такое, никто не знает. Читайте Велимира Хлебникова – «Ка», «Зангези», «Дети выдры», и вы все поймете. Информация не подчиняется ограничениям на сверхсветовую скорость передачи сигнала. Стало быть, любой мысленный полет с такой скоростью моделирует не фантазию, а сверхреальность. «Зангези» называется сверхповесть, состоящая из «плоскостей» многих миров, где первая плоскость – звук, вторая – боги или символы, третья – слова и смыслы. Все это вы сами нам объяснили.
Хлебников. Значит я действительно создал из звуков и заумного языка машину времени.
Я. Скорее машину вечности.
Как в грамматике где нет правил
«не» с глаголами не отдельно
но вместе
в каждой памяти есть провал
где живые с мертвыми вместе
Свод небесный слегка надтреснут
как надломленная печать
Надо вспомнить чтобы воскреснуть
Воскресать – значит вспоминать
Поэзия как воспоминание
Хлебников. Я вспомнил себя, когда я был Хайямом, Лобачевским и Эхнатоном.
Я. Оказавшись в Казани в 15 лет, я понял, что был Хлебниковым и Лобачевским. Более того, я понял, что они и привели меня в свой Университет. Я в точности повторил судьбу Велимира – был отчислен с первого курса журналистики. Однако, посетив могилу Лобачевского, я выпросил у него чудо. Меня восстановили вольнослушателем истфилфака. Главным чудом стала защита диплома «Влияние геометрии Лобачевского и теории относительности Эйнштейна на художественное мышление В.Хлебникова» на отлично. Защита состоялась в 1967 году, когда имя Хлебникова упоминалось крайне неохотно и фактически было под запретом.
Хлебников.
Я помню лик суровый и угрюмый
запрятан в воротник
То, Лобачевский, ты
суровый числоводск
Во дни давно и весел
сел в первые ряды кресел
думы моей, чей занавес уже поднят
Я. В 1958 году я мог подписаться под каждой строкой этого стиха Хлебникова. Мое сознание поразили три вещи.
1. Через точку вне прямой можно провести не одну (как утверждал Евклид), а бесконечное множество прямых, параллельных данной. Надо только чтобы поверхность была вогнута седловиной.
2. Кратчайшее расстояние между двумя точками не прямая, а дуга.
3. Сумма углов треугольника не равна 2d.
Какое дело мне, восьмикласснику было до Воображаемой геометрии. О которой рассказал мне пьяный математик Владимир Потапов? Самое прямое. Интуитивно я чувствовал, что мое переживание 30 августа 1958 года, когда я вместил в себя все пространство и все время, можно изобразить только с помощью этих вогнутых линз. Такой живописи еще не было и нет до сих пор, а такую поэзию я начал создавать уже тогда. Все увенчалось строками:
Нуль миров вращается в небе звезд
Это взгляд возвращается к своему истоку
Словом:
Я вышел к себе
через навстречу от
и ушел под
воздвигая над
Хлебников. Но с моей поэзией вы тоже познакомились где-то в 1963-64 годах.
Я. Да! В библиотеке Казанского университета, основанного Лобачевским, я запоем прочел все пять томов под редакцией Ю.Тынянова. запомнились навсегда слова из его гениального предисловия: «Хлебников был новым зрением. Новое зрение падает одновременно на все предметы». Теперь бы мы назвали это зрение голографическим.
Лобачевский. Кстати, для голограммы нужна моя геометрия.
Я. Да, но я решил пойти еще дальше и создать голографический стих. Задача была поставлена в 1968 году, и уже через десять лет я написал «До-потоп-Ноя Ев-Ангел-и-Я» – «Допотопное Евангелие». Вот он голографический стих:
Атон Эхнатон
ноты пел в тон
тенет нет
теней нет
тонет Эхнатон
в лете теней тенет
Смерть мертва
атома немота
Тот стал Этот
Смысловая нить понятна. Эхнатон отменил всех богов, кроме солнца – Атона. В Атоне «тон нот» (палиндром) – движение времени туда и обратно. Там же «тень – нет» и выворачивание на уровне звука, когда бог смерти Тот , отмененный Эхнатоном, стал Этот. Потусторонний мир через звук Э вывернулся сюда. Подобным же образом сплошь зарифмована река смерти Стикс.
Стикс стих
Стих стих
Кит тик-так
Червя время – чрево
Время во чреве скит
Рек киту Иона
Во время оно
Голограмма «кит – тик», она же палиндром. Голограмма «Стикс – скит», голограмма «стих (стихотворение) и стих (глагол)», голограмма «червь – чрево» и время – чрево. Еще явственнее на уровне звука и смысла голограммное выворачивание в «Адамовом яблоке».
Червонный червь заката
Тьма путей прочерченных червем
путь проточил в воздушном яблоке
и яблоко упало
все поглотила
То яблоко, вкусившее Адама
теперь внутри себя содержит древо
а дерево, вкусившее Адама
горчит плодами – их вкусил Адам
Но для червя одно –
Адам и яблоко и древо
На их скрещенье червь восьмерки пишет
Червь, вывернувшись наизнанку чревом
в себе содержит яблоко и древо.
Голограмма «червь – чрево», голограмма «червь – червонный» не самоцель. Ведь речь идет о черве Державина: «Я царь – я раб – я червь – я бог». Я решил показать, как червь. Извиваясь в объеме знака бесконечности ? – горизонтальной восьмерки, обретает все мироздание. Воздушное яблоко мира становится его чревом. Голограмма «чрево» и древо» тоже об этом.
Хлебников. У вас в «Допотопном Евангелии» есть еще голограмма: Озирис – озарение.
«Зырит зенки Озирис – озарись». И еще «нуль – лунь», «луна – лоно», «Астарта – истерто».
Я. Стара Астарта
истерла лоно
оно ль стало
лунь – нуль
Почти все рифмы голограммны и палиндромны. Время закручивается в обратную сторону из прошлого и из будущего в настоящее. То есть от начала и конца строки или слова к их сердцевине, середине звукосмысловой ленты Мебиуса – восьмерки. Потому и в «Невесте» – «дивным ладаном захлебнется голодающий жернов 8». В «Невесте» геометрия и доломерие заменены теломерием невесты, все стягивается к ее лону, как все звуки исходят из середины скрипки. «Рубит скорбную скрипку, тонет в дыре деревянной».
Хлебников. Самое время объяснить, почему Пушкин – Евклид, а мы – Лобачевские.
Я. У Пушкина, как у Евклида, строка со строкой рифмуются ровно и параллельно. Вспомним аксиому Евклида, опровергнутую Хайямом, Лобачевским и Яношем Бояи, убитым на дуэли. Через точку вне прямой можно провести только одну прямую линию, параллельную данной. Стих Пушкина – ряды параллельных строк, всегда рифмуемые в конце. Только одна точка – только одна рифма. У меня зарифмованы почти все звуки по принципу «свет – весть». Иногда это называют анаграммой, но я называю это голограммой стиха. Рифмуется все со всем, не по Евклиду, а по Лобачевскому – Хайяму – Бояи – Хлебникову. Через точку вне прямой можно провести бесконечное количество прямых, параллельных данной. Голографический стих только внешне похож на верлибр. На самом деле он весь зарифмован и преломлен в двояковыпуклой линзе обратной перспективы Павла Флоренского – Павла Челищева.
Спиноза. Как шлифователь линз и алмазов я не могу не вспомнить тут ваше «зеркало – лекало звука», где звуки уподоблены лучам и нотам. При этом стих от начала и финала стягивается выпукло-вогнуто к середине линзы-стиха.
Я.
Зеркало
лекало
звука
в высь
застынь
стань
тон
нет тебя
ты весь
высь
вынь себя
сам собой бейся босой
осой
ссс – ззз
озеро разреза
лекало лика
о плоскость лица
разбейся
то пол потолка
без зрака
а мрак
мерк
и рек
ре
до
си
ля
соль
фа
ми
ре
и рек
мерк
а мрак
без зрака
то пол потолка
разбейся
о плоскость лица
лекало лика
озеро разреза
ссс – ззз
осой
сам собой бейся босой
вынь себя
высь
ты весь
нет тебя
тон
стань
застынь
в высь
звука
лекало
зеркало
Эйнштейн. Вы создали звукосмысловой образ знаменитого ныне светового конуса мировых событий. В верхней части конуса абсолютное будущее, в нижней абсолютное прошлое. Место их встречи – ноты «до-си-ля-соль-фа-ми» – обрамляемы сверху и снизу верхним и нижнем «ре».
Я. Если у кого-то голова пошла кругом, считайте ноты «до-си-ля-соль-фа-ми» поверхностью звуко-свето-зеркала или свето-звуко-зеркала. Важно, что раумтайм из прошлого и будущего движется к этой заветной середине.
Хлебников. Я понимаю, что это не просто стих, а некая звуко-световая машина времени, вернее, вечности.
Лобачевский. Кроме «Воображаемой геометрии» есть еще «Воображаемая поэзия». Вы с Хлебниковым в течение ХХ века создали другую поэзию.
Я. Это метапоэзия.
Есенин. Все живое особой метой особой метой отмечается с давних пор.
Я. Не следует зацикливаться лишь на Эйнштейне и Лобачевском. Не менее важны сравнительно молодая математическая дисциплина топология и теория фракталов. Мои стихи и образы – это фракталы и топологические преобразования тел. Я об этом не думал, когда создавал «Зеркальный паровоз» или моделировал выворачивание своего Я в мироздание до полного охвата всей бесконечности. В топологии, как я узнал позднее, есть теорема выворачивания. Например, шар, вывернувшись на изнанку, превратится в тор – баранку. Но не геометрия, а теломерие меня волновало. И даже не тело, а мыслечувство. В теле нет геометрии Евклида, она там разве что на уровне кристаллов присутствует. Все остальное – неевклидова геометрия с положительной или отрицательной кривизной.
Риман. Создавая живое, Бог пользовался моей геометрией.
Клейн. И моей бутылкой Клейна.
Мебиус. И моей лентой Мебиуса.
Я. Вот все эти геометрии и стали раумтаймом моего стиха «Адамово яблоко».
Адам. Поясните.
Я.
Червонный червь заката
путь проточил в воздушном яблоке
и яблоко упало
Тьма путей
прочерченных червем
все поглотила
как яблоко Адам
Сначала мир дан, как яблоко – сфера Римана с положительной кривизной. Но «тьма путей прочерченных червем» все поглотила. Свет связан с положительной кривизной – взгляд на сферу-яблоко снаружи. Тьма – отрицательная кривизна, которую «червь» Лобачевский-Державин протачивает внутри яблока («я – царь, я – раб»). Но только после выворачивания из отрицательной кривизны в положительную и совместив их, как Риман в своей геометрии, мой червь сможет закончить строку Державина: «я – червь, я – бог».
Адам.
«Тьма путей
прочерченных червем
все поглотила
как яблоко Адам»
Я. Дальше происходит мерцание геометрий от Лобачевского к Риману, от Римана к Лобачевскому.
То яблоко
вкусившее Адама
теперь внутри себя содержит древо
а дерево
вкусившее Адама
горчит плодами -
их вкусил Адам
И, наконец, совмещение всех геометрий. Человек внутри вселенной, вселенная внутри человека. Внутренне-внешнее и внешне-внутреннее пространство обретено:
Червь
вывернувшись наизнанку чревом
в себя вмещает яблоко и древо
Червь – чрево, яблоко – древо. Это Лобачевский – Риман, Риман – Лобачевский. Человек – вселенная, вселенная – человек.
Олег Чухонцев. Ну вот, я же говори, что Кедров – это что-то выпукло-вогнутое.
Я. И это все, что вы поняли?
Ева. Получается, что мужчина – это женщина наизнанку?
Я. Да!
Женщина – это нутро неба
Мужчина – это небо нутра.
|
Метки: хлебников лобачевский кедров |
К 125-летию Велимира Хлебникова |
Дневник |
авторы / произведения / рецензии / поиск / кабинет / ваша страница / о сервере
сделать стартовой / добавить в закладки
К. Кедров Первая статья о Хлебникове
К. Кедров Первая статья о Хлебникове
Кедров-Челищев
ЗВЕЗДНАЯ АЗБУКА ВЕЛИМИРА
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/
К.А. Кедров
http://www.nesterova.ru/apif/kedroff.shtml
http://metapoetry.narod.ru
Еще в XIX веке возник спор: в какой вселенной мы живем? Видим ли мы своими глазами мир реальный, или очи обманывают, и мир отнюдь не очевиден. Первый камень в хрустально ясный образ бросил Лобачевский. Его "воображаемая геометрия" вызвала гнев и возмущение ученого мира. Лобачевского высмеяли, об открытии позабыли.
Когда сын Н.Г. Чернышевского заинтересовался геометрией Лобачевского, Николай Гаврилович из ссылки прислал письмо, где всячески отговаривал его от вздорной затеи. Даже Чернышевский считал геометрию Лобачевского безумной.
Бунт против неевклидовой геометрии слышен в пламенном монологе Ивана Карамазова, под которым и сегодня могли бы многие подписаться:
"Но вот, однако, что надо заметить: если Бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже теперь геометры и философы, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее, — все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Евклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если даже этого не понять, то где же мне про Бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум евклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Пусть даже параллельные линии сойдутся, и я это сам увижу; увижу, что сошлись, и все-таки не приму".
Позиция В. Хлебникова совершенно иная, антикарамазовская. Вслед за Достоевским он пристально всматривался в ту отдаленную, а может быть, и очень близкую точку вселенной, где параллельные прямые, образно говоря, "пересекаются в бесконечности".
После открытий Минковского и Эйнштейна "воображаемая геометрия" оказалась физической и космической реальностью. К ней устремились взоры многих писателей и поэтов XX века.
"Я — Разин со знаменем Лобачевского", — писал о себе Велимир Хлебников. Если сегодня окинуть взором многочисленные статьи о нем, мы не найдем в них разгадки этих слов. Главные мысли Хлебникова так и остались погребенными.
В 1916 году в своем воззвании «Труба марсиан» поэт писал:
"Что больше: "при" или "из"? Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями.
Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи. Лобачевский отсылался вами в приходские учителя.
Вот ваши подвиги! Ими можно исписать толстые книги!..
Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой природы, других народов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени".
Для современников было непонятно обращение к Лобачевскому. Поэт может быть певцом восстаний и революций, но при чем здесь воображаемая геометрия? Каждый год выходят статьи о Хлебникове, но его неевклидово зрение по-прежнему не интересует исследователей. Пора восполнить пробел.
Девятнадцатилетним студентом В. Хлебников прослушал в Казанском университете курс геометрии Лобачевского, и уже тогда он начертал свое «Завещание»: "Пусть на могильной плите прочтут: он связал время с пространством, он создал геометрию чисел". Не пугайтесь, читатели: "числа" Хлебникова это совсем не та скучная цифирь, которой потчевали в школе. У поэта они поют, как птицы, и разговаривают человеческими голосами. Они имеют свой вкус, цвет и запах, а время и пространство не похожи на некую безликую массу — они сливаются в человеке. Хлебников был уверен, что человеческие чувства не ограничиваются пятью известными (осязание, зрение, вкус, слух, обоняние), а простираются в бесконечность.
"Он был, — пишет поэт, — настолько ребенок, что полагал, что после пяти стоит шесть, а после шести семь. Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одно и еще одно, там имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность".
Но это опять же иная бесконечность. У Хлебникова она вся заполнена нашими чувствами. Только открывается это человеку лишь в кульминационный, предсмертный миг.
"Может быть, в предсмертный миг, когда все торопится, все в паническом страхе спасается бегством, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого со страшной быстротой происходит такое заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ".
"Разрывы" и "рвы" не позволяют нам в обычных условиях видеть все бесконечное эн-мерное пространство-время вселенной.
"Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувные тучи, соединив два ряда переживаний в воспаленном сознании больного мозга?"
"Два ряда переживаний" — это чувства пространства (зрение) и времени (слух).
Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к соединению пяти чувств человека: "Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно, но велико..."
На смену разрозненным в пространстве и времени пяти чувствам должно прийти единое пространственно-временное видение мира. Поэт сравнивает разрозненные чувства с беспорядочными точками в пространстве. Слияние этих точек будет восприятием всего эн-мерного пространства в целом, без дробления его на слуховые и зрительные образы.
"Узор точек, когда ты заполнишь белеющие пространства, когда населишь пустующие пустыри?..
Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части единой плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки великого протяженного многообразия".
И есть независимые переменные, с изменением которых ощущение разных рядов — например: слуховые и зрительные или обонятельные — переходят одно в другое.
Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в кукование кукушки или в плач ребенка, станет им".
Хлебников предсказывает, что "единое", протяженное многообразие пространства-времени, ныне воспринимаемое человеком разрозненно, рано или поздно будет восприниматься в целом. Это приведет к слиянию пяти чувств, к новому видению мира, ради которого должна сегодня работать поэзия.
Эта вера была незыблемой на протяжении всей его жизни. В одном из последних прозаических отрывков незадолго до смерти поэт писал:
"Я пишу засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив ее черный сухой прут со всех сторон.
Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной...
За это время пронеслась река событий...
Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это "вера 4-х измерений" ‹...›
3.IV.1922".
"Вера 4-х измерений" — это теория относительности Эйнштейна, в которой как бы подтвердилась догадка поэта о существовании единого пространства-времени.
Свое юношеское «Завещание» Хлебников писал в предчувствии великого открытия, которое спустя пять лет было сформулировано на основе теории относительности Альберта Эйнштейна математиком Германом Минковским в 1908 году:
(Неизданный Хлебников. Л., 1940, с. 318, 319)
"Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность".
Слова эти ясно перекликаются с «Завещанием» юного студента, еще не известного в литературных кругах. Хлебников прослушал курс геометрии Лобачевского и, размышляя о ней, поставил перед собой задачу связать пространство со временем.
Эйнштейн и Минковский пришли к выводу о существовании четвертой пространственно-временной координаты, исходя косвенным образом из тех же идей Лобачевского.
Однако Хлебников шел иными путями, и его понимание пространства и времени было и остается до настоящего времени совершенно феноменальным.
Отрывок «Завещания» дает ясно почувствовать, как преломились в сознании поэта идеи Лобачевского. В отличие от Минковского и Эйнштейна, он считал, что пространство и время соединяются в человеке. Здесь, в сфере живого мыслящего существа, образуется тот узел, где пересекаются параллельные прямые. Здесь готовится гигантский скачок не только сквозь бездны космического пространства, но и сквозь бездны времени. Человечество должно "прорасти" из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки, "воюя за объем, веткою ночь проколов".
Как уже говорилось ранее, в трудах академика В.И. Вернадского высказана сходная мысль: крупнейший ученый считал, что именно пространство живого вещества обладает неевклидовыми геометрическими свойствами.
Когда-то Ломоносов увидел в гласных звуках образ пространства. Так, звук "а" указывал направление ввысь:
Открылась безднА звезд полнА;
ЗвездАм числа нет, бездне днА.
Хлебников спустя двести лет продолжал мысли Ломоносова о пространственной природе звука, распространив ее не только на гласные, но и на согласные звуки. Возникла "звездная азбука", о которой речь в дальнейшем.
В одной из его записей говорится, что, если язык Пушкина можно уподобить "доломерию" Евклида, не следует ли в современном языке искать "доломерие" Лобачевского. Расшифровка этой мысли проста и высоко поэтична. Евклидова геометрия основывается на обычном опыте человечества. "Доломерие" Лобачевского иного рода, оно основывается на необыденном. Для того чтобы представить его, нужно оторваться от повседневности и очевидности. Таков неожиданный отрыв Хлебникова от привычных значений звука.
Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли в одном направлении: придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную изобразительность. Звук у Хлебникова — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет.
Если читать звуковые стихи Хлебникова, пользуясь данным поэтом ключом к их пониманию, то каждый звук приобретает сияющую цветовую бездонность, перед глазами возникают величественные пространственные структуры, изменяющиеся, превращающиеся друг в друга, творящие из себя зримые очертания неочевидного мира.
Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени. Он чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук очертания пространства и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы.
Он действительно опространствливал время и придавал пространству текучесть времени.
«Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового языка. Он точно свет. Слушайте Песни "звездного языка"».
"Доломерие" — славянская калька со слова "геометрия": "гео" — доле, го есть пространство.
Итак, вот видимое звучание "звездной азбуки". Мировое эн-мерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого. Но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами, и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки, а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства, тогда "узор точек" (чувств) заполнит "пустующие пространства" и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной.
Звук "с" будет точкой, из которой исходит сияние. Звук "з" будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это "зигзица" — молния, это зеркало, это зрачок это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук "п" будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет "парить" в пространстве, как парашют.
Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучные имена. Тогда человек был пуст, как звук "ч", как череп, как чаша. В темной черноте этого звука уже рождается свет "с", уже луч преломляется в зрение, как звук "з".
Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал "прямостоящее двуногое" — "его назвали через люд", ибо "л" — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук "л" — модель победы над весом.
Ныне звуки в языке выглядят как "стершиеся пятаки", их первоначальное пространственно-временное значение, интуитивно воспринятое в детстве человечеством, забыто. О нем должны напомнить поэты. Но древние слова, как древние монеты, хранят в начале слова звук — ключ к их пониманию.
Так, в начале слова "время" стоит звук "в", означающий движение массы вокруг центра. Этим же знаком обозначен "вес" — нечто прикованное к своей орбите, но стремящееся разбежаться и улететь. В результате получается "вращение". Вес, время, вращение — вот модель попытки вырваться за пределы тяготения. В результате получается движение планет по кругу, по орбите вокруг центра тяготения.
В противоположность этому стремлению вырваться за пределы тяготения есть центростремительная сила вселенной, выраженная в структуре звука "б". Это тяжкое бремя веса. Чем больше сила тяжести, тем медленнее течет время (это предположение Хлебникова подтвердилось в общей теории относительности, которую Хлебников справедливо назвал — "вера 4-х измерений").
Итак, в момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и камни заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:
Времыши-камыши
На озера бреге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
Пространственно осязаем звук в «Слове об Эль»:
Когда судов широкий вес
Был пролит на груди,
Мы говорили: видишь, лямка
На шее бурлака. ‹...›
Когда зимой снега хранили
Шаги ночные зверолова,
Мы говорили — это лыжи. ‹...›
Он одинок, он выскочка зверей,
Его хребет стоит как тополь,
А не лежит хребтом зверей,
Прямостоячее двуногое
Тебя назвали через люд.
Где лужей пролилися пальцы,
Мы говорили — то ладонь. ‹...›
Эль — путь точки с высоты,
Оставленный широкой Плоскостью. ‹...›
Если шириною площади остановлена точка — это Эль.
Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения, — это Эль.
Таков силовой прибор,
Скрытый за Эль.
"Формула-образ" — иного определения и не придумаешь для последних строк этого стиха. Может ли формула быть иллюзией? Конечно, только поэт может увидеть в этой формуле "судов широкий вес", пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы действительно расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению, действительно ставшему первой победой человека над силами тяготения, — победой, которая сравнима только с выходом человека в космос в XX веке. Пожалуй, даже большей. Ведь не было для этого каких-то технических приспособлений.
Рядом со "звездным языком" и «Словом об Эль» стоит в поэзии Хлебникова гораздо более известное, но, пожалуй, гораздо менее понятое непосредственным читателем стихотворение «Бобэоби»:
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
В отличие от "звездной азбуки" и от «Слова об Эль», это стихотворение строится не просто на пространственной структуре звука, но и на тех ассоциативных ощущениях, которые вполне закономерно могут возникнуть у большинства читающих. Произнося слово "бобэоби", человек трижды делает движение губами, напоминающими поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: "пелись губы". Слово "лиэээй" само рождает ассоциацию со словом "лилейный", "гзи-гзи-гзэо" — изящный звон ювелирной цепи.
Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом как музыка и считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: "связать пространство и время", звуками написать портрет. Вот почему две последние строки — ключ ко всему стихотворению в целом: "Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо".
"Протяжение" — важнейшее свойство самого пространства. Протяженное, зримое, видимое. Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета и звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, воссоздающее женский образ. Этот портрет "пелся": пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством.
Соединить пространство и время значило также добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, "где голубизна василька сольется с кукованием кукушки". Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук тоже был связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. Он считал, что звук "м" — темно-синий, "з" — золотой, "в" — зеленый.
Звукопись
Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — темный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пучь и чапи — черный грач. ‹...›
Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку. ‹...›
Мивеаа — небеса.
Реакция окружающих на эти слова в драме «Зангези» вполне определенна:
Слушающие. Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Зангези!
Но мы прислушаемся к словам поэта. Несомненно, что звуковые ассоциации Хлебникова, связанные с окраской звука, так же субъективны, как ассоциация, скажем, Рембо, но есть здесь и нечто объективное.
В 1967 году я сравнил цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников, приведенными в статье Г.Н. Ивановой-Лукьяновой.
У Хлебникова:
З — отражение луча от зеркала (золотой);
С — выход точек из одной точки (свет, сияние);
Д — дневной свет;
Н — розовый, нежно-красный.
Большинство школьников окрасили звук "с" в желтый цвет. У Хлебникова этот звук — свет солнечного луча.
Звук "з" одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой цвет.
Многие, как и Хлебников, окрасили "м" в синий цвет, хотя большая часть считает "м" красным.
Эти данные тем более ценны, что лингвист-фонетик никак не соотносил свои исследования с поэзией Хлебникова.
Видимо, цветозвуковые фонемы Хлебникова и его "звездная азбука" глубоко уходят корнями в пространственно-временные свойства.
Подтверждение правоты В. Хлебникова еще раз пришло несколько неожиданно для меня в 1981 году. В это время вышла книга калининградского лингвиста А. П. Журавлева «Звук и смысл». Там сообщалось, что многие поэты, подчас неосознанно, видят цвет звука. Звуки "а" и "я" передают красный цвет, а звук "о" — желтый и т. д.
Спустя два года А.П. Журавлев перебрался в Москву, и мы совместно повторили опыт с окраской звука по телевидению в передаче "Русская речь".
Перед школьниками лежали разноцветные карточки и буквы русского алфавита. На глазах у зрителей они должны были выбрать для каждой буквы свой цвет.
Теперь уже не по книгам, а в реальности я как ведущий телепередачи убедился в правоте Велимира Хлебникова. Многие школьники выбрали хлебниковские цвета. Для них, как и для поэта, "м" был синим звуком.
Конечно, здесь существуют тонкости. Даже в обычном опыте один и тот же цвет люди видят по-разному. Для дальтоников, например, красный и зеленый неразличимы, так сказать, на одно лицо. Есть люди, которые видят мир черно-белым. Что уж говорить о высоте восприятия Хлебникова или Рембо.
Цветозвук Велимира Хлебникова — весть из другого, как говорили древние, "горнего" мира. Горний мир высоко, как хрустальная небесная гора, но в душе человека эта высота есть. "Горе имеем в сердцах", — восклицали древние поэты. Это слово стало исчезать из нашего языка. Только у Цветаевой в «Поэме горы»:
Вздрогнешь — и горы с плеч, и душа — горе.
Дай мне, о горе, спеть о моей горе...
Цветозвуковая небесная гора Хлебникова как бы опрокинута в человека. Он смотрит с ее вершины и видит: "Стоит Бештау, как А и У, начертанные иглой фонографа". При таком взгляде звучат любые контуры предмета. А ныне появились переложения рельефа Альпийских гор на музыку — нечто величественное, похожее на фуги Баха, хотя выполнял эту работу компьютер.
Я представляю, как трудно было поэту жить в мире сияющих слов, в пространстве звучащих облаков и гор. Бештау аукался очертанием своих вершин, одновременно поэт слышал здесь древнеиндийский мировой звук "аум".
Хлебников утверждал, что в звучании "ау" содержится 365 колебаний (подсчитывал на фонографе), одновременно 365 дней в году и еще 365 разновидностей основных мышц у человека, и отсюда мысль о повторяемости каждого мирового цикла событий через каждые 365 ± 48 лет. К этому открытию мы еще вернемся, а пока прислушаемся к "звездной азбуке".
Она похожа на современную космологическую модель метавселенной, где мифы переплетены, взаимопроникаемы и в то же время невидимы друг для друга.
Иные вселенные могут валяться в пыли у наших ног, могут пролететь сквозь нас, не оставляя следа.
Я вспоминаю стихотворение Велимира Хлебникова, где Сириус и Альдебаран блестят в пыли под ногтем.
Это так близко к нашему восприятию метавселенной.
Выходит, что поэт интуитивно видел метавселенную, жил в ней уже в 20-х годах нашего столетия, хотя, конечно, не надо отождествлять его мир со строго научной космогонией. Мета-вселенную можно представить как дерево с множеством веток, вторые не соприкасаются между собой. Каждая ветвь — вселенная, либо подобная нашей, либо отличная от нее. Именно такую модель предложил И.С. Шкловский.
В космической драме «Зангези» Хлебников воздвигает "колоду плоскостей слова", которые вполне можно уподобить листве на древе метавселенной. Их единый образ — утес среди гор соединенный мостом "случайного обвала основной породою" гор.
Мост случайного обвала — это символ поэтического прорыва к единой метавселенной. Сам утес, "похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом", одновременно — на "посох рядом со стеной", — символ нашей вселенной, одиноко возвышающейся среди "основных" пород других миров.
Метавселенная здесь похожа еще на книгу с каменными страницами: "Порою из-за корней выступают каменные листы основной породы. Узлами вьются корни, там, где высунулись углы каменных книг подземного читателя".
Плоскости-вселенные отданы людям, птицам, числам, богам, поэтам, но главное действие разворачивается на восьмой плоскости, где Зангези сообщает миру свою "звездную азбуку".
Она состоит из тех же звуков, которыми изъясняются боги, птицы и люди, но значения этих звуков совсем иные. Это "речи здание из глыб пространства".
Хлебников создает здесь свой вселенский метаязык. Не будем смешивать его в дальнейшем с метаязыком лингвистов, хотя у Хлебникова есть и это значение.
"Слова — нет, есть движение в пространстве и его части — точек, площадей ‹...› Плоскости, прямые, площади, удары точек, божественный угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык, и вы увидите пространство и его шкуру".
В каждом звуке нашего языка таится модель одной из многочисленных вселенных. Легко воспроизвести эти модели графически. "Вэ — вращение одной точки около другой".
Это модель нашей галактики, где все планеты и звезды вращаются вокруг центра. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце — вокруг оси галактики.
"Эль — остановка падения или вообще движения плоскостью, поперечной падающей точке ‹...›".
Это модель "двухмерного мира", растекающегося на плоскости. Мир поверхностей населял воображаемыми "плоскатиками" еще Эйнштейн в книге «Эволюция физики». "Плоскатики" не видят объема, для них третье измерение — такая же математическая абстракция, как для нас четвертое. Гусеница, ползущая по листу и не ведающая о дереве, — вот наилучший образ плоскатика. Так мы не видим древа метавселенной и даже не различаем четвертую пространственно-временную координату своей вселенной.
"Эр — точка, просекающая насквозь поперечную площадь".
Это одномерная вселенная. Ее "точечные" обитатели не подозревают о существовании линии или плоскости. Их мир — сплошной дискретный мир точек. Мир квантовый. Они "скачут", как фотоны, из ничего в ничто.
"Пэ — беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объема ‹...›".
Это наилучший образ нашей разбегающейся, расширяющейся вселенной.
"Эм — распыление объема на бесконечно малые части".
Образ сжимающейся вселенной, скажем, в областях черных дыр.
"Эс — выход точек из одной неподвижной точки (сияние)".
Наилучший образ нашей вселенной в первый момент "творения" — взрыва.
"Ка — встреча и отсюда остановка многих движущихся точек в одной неподвижной. Отсюда конечное значение Ка — покой, закованность".
Это опять же в районе черных дыр и максимального гравитационного уплотнения массы.
"Ха — преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней ‹...›".
Это может быть стена уплотнения в области подлета к черной дыре. Между "нами" и "ними" образуется плотная стена. Уплотняется вся вселенная, пока не перейдет в стадию "Эль" — растекание по плоскости до бесконечности.
"Че — полый объем, пустота ‹...›" —
Это наша вселенная в будущем на стадии максимального расширения. Находясь внутри ее, мы окажемся как бы в полом объеме.
"Зэ — отражение луча от зеркала. — Угол падения равен углу отражения".
Это зримый образ нашей встречи с антимиром, частицы с античастицей. Зеркальное отражение без соприкосновения.
"Гэ — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда вышина".
Это антигравитация, полет, невесомость и сингулярность, есть область преодоленного тяготения.
С — свет, расходящийся от точки.
П — разлетающийся объем.
Модели Хлебникова многослойны: это просто звуки (язык птиц), это звуки-знаки (язык богов), звуки-речи (язык людей) звуки — модели пространства, звуки — модели пространства-времени нашей вселенной на разных стадиях существования — то, что мы только что рассматривали, и, наконец, седьмой уровень — "знаки звездного языка" метавселенной. На этом уровне они звучат для нас просто как "заумный язык", поскольку вселенные метавселенной на уровне привычного языка непередаваемы, ибо говорит поэт: "У нас три осады: осада времени, слова и множества".
Осада времени — это разобщенность вселенных, в каждой свое время и свое пространство, не совпадающее с нашим.
Осада множества — множественность вселенных в метавселенной и принципиальная невозможность сведения их к ОДНОМУ знаменателю.
Осада слова — это ясно выражено в теореме Геделя о неполноте, где доказано, что любой язык, любая знаковая система зиждется на противоречивых утверждениях, то есть язык в принципе не может быть полным описанием реальности.
У языковедов появился термин "метаязык", то есть язык из другой знаковой системы, который восполняет неполноту другого. Каждый язык неполон, и в то же время он выступает как абсолют, как метаязык по отношению к другому.
Так "звездная азбука" Хлебникова размыкается на всех уровнях. Язык птиц переходит в язык богов, язык богов становится языком людей, язык людей превращается в систему геометрических символов, в космогонические модели, а космогонические модели размыкаются в "заумный язык" невнятного для человека лепета метавселенной:
Боги великие звука,
Пластину волнуя земли,
Собрали пыль человечества,
Пыль рода людей.
Мы — дикие звуки,
Мы — дикие кони,
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры...
Хлебников приоткрыл тайну своего метаязыка в записных книжках: в этом языке семь слоев. Это:
1) звукопись — птичий язык;
2) язык богов;
3) звездный язык;
4) заумный язык — "плоскость мысли";
5) разложение слов;
6) звукопись;
7) безумный язык.
Их комбинации в разных сочетаниях дают множество звуковых вселенных.
Поскольку сам Хлебников объяснял, что звук в его драме «Зангези» — это модель пространства, мы можем вычертить контуры каждой вселенной.
Птичий язык соответствует одномерной вселенной — движение точек на плоскости.
Язык богов — двухмерная вселенная — плоскости разных культур.
Звездный язык — трехмерные модели знакомых нам объемов, движущихся в пространстве.
Заумный язык, или плоскость мысли, — это четырехмерное пространство, то есть то, что нельзя охватить обыденным зрением.
Разложение слова — это пространство микромира, опять же ускользающее от обычного видения.
Звукопись — язык четвертой, пространственно-временной координаты, где звуку-времени соответствует пространственная окраска и форма.
И, наконец, так называемый безумный язык иных вселенных, которые мы в принципе не можем представить, ибо еще Фрэнсис Бэкон писал, что "вселенную нельзя низводить до уровня человеческого разумения, но следует расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринять образ вселенной по мере ее открытия".
Прочитав "звездную азбуку", легко понять смысл имени Зангези: "з" — луч света, преломленный и отраженный в косной преграде "н"; преодолев эту преграду, свет знания устремляется ввысь, как возвышенный звук "г", и, преломившись в лесной сфере, луч истины снова возвращается на землю молнией звука "з" — ЗаНГеЗи.
В имени Зангези — композиция и сюжет всего произведения. Имя Зангези похоже на щебет птиц — это "первая плоскость звука" и первое действие драмы. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в эн-мерном пространстве-времени.
Первая плоскость — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:
Пеночка (с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко).
Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!
‹...›
Дубровник. Вьер-вь;р виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-виру сек-сек-сек!
‹...›
Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк, пьяк, пьяк!
Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал язык птиц. Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками. Вторая плоскость — язык богов. Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, давшие им названия. Значение звуков еще непонятно, но оно интуитивно соответствует облику богов. В этой "плоскости богов" было создано стихотворение «Бобэоби».
Суровый Велес урчит и гремит глухими рычащими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:
Рапр, грапр, апр! Жай!
Каф! Бзуй! Каф!
Жраб, габ, бокв — кук!
Ртупт! Тупт!
Конечно, и язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает такого рода ремарки:
Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи.
Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языков их ареалов культуры.
Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное — четвертое измерение, и ему открывается звездный язык вселенной. Опьяненный своим открытием Зангези радостно несет весть о нем людям, елям и богам: "Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок".
Реакция окружающих банальна. Одни видят в его азбуке "когти льва", но не стремятся его понять, другие просто называют Зангези безумцем. Тогда Зангези опрокидывает свой звездный язык с небес на землю, проецируя небо звуков и сферу неба на сферу мозга. Звучит опьяняюще возвышенный "благовест ума":
Проум
Праум
Приум
Ниум
Вэум
Роум
Заум
Выум
Воум
Боум
Быум
Бом
Сразу же после этого дается разгадка каждого образа:
‹...›
Проум — предвидение.
‹...›
Выум — слетающий обруч глупости.
Раум — не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. ‹...›
В "заумном языке" Хлебников моделирует состояние вселенной, где наши представления о пространстве и времени в принципе дают сбой. И.С. Шкловский писал, что здесь язык ceгодняшней науки немеет. В самом деле, как смоделировать такие понятия, стоящие на пороге сингулярности, как нуль-пространство, нуль-время? Наша вселенная возникла восемнадцать миллиардов лет назад, а что до этого? Нельзя сказать "до этого", ведь "до" подразумевает время. Говоря словами И. Шкловского: "Что было, когда ничего не было?" Вот абсурдная и тем менее реальная постановка вопроса.
Первые три слоя нашей вселенной — язык птиц, язык богов и язык людей — нам знакомы. О чем же говорит слой четвертый — язык заумный? Это еще сфера нашей вселенной, но в той ее области, где смыкаются пространство и время в четвертую пространственно-временную координату.
Пятый и шестой слой метаязыка Хлебникова — разложение слова и звукопись — в принципе понятны. Каков же последний, седьмой слой — язык "безумный"? Его в драме нет и не может быть, он подразумевается как некая разомкнутость всех слоев языка в невыразимое, то, что сами мы именуем областью разрыва, отделяющей вселенные друг от друга.
К сожалению, мы не можем перелетать, как птицы Хлебникова, от одной ветви вселенной к другой. Равномерные вселенные, возможно, в принципе неконтактны. Хлебников догадывался и об этом. В его записных книжках есть такие слова:
"Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно), не имеют строения сетей. Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, измерение одного мирка другой величиной".
Вот вам и проблема не межгалактических, а межвселенских контактов. Как измерить мерой нашего мира миры другой величины, мысленно перепрыгнуть из одной ячейки в другую?
Знаменитый "сдвиг", широко пропагандируемый футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Теория "сдвига" требовала фактически смешения разновременных и разнопространственных планов изображения. Для Хлебникова "сдвиг" — это скачок из одной вселенной в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Вместо плавного чередования эпох, предлагаемого учебником истории, Хлебников дает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя.
Зачем же вам глупый ученик?
Скорее учитесь играть на ладах
Войны без дикого визга смерти —
Мы — звуколюди!
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече!
Поэт призывал человечество "вломиться" во вселенную:
Прибьем, как воин, свои щиты, пробьем
Стены умного черепа вселенной,
Ворвемся бурно, как муравьи в гнилой пень,
С песней смерти к рычагам мозга,
И ее, божественную куклу, с сияющими по ночам глазами,
Заставим двигать руками
И подымать глаза.
Свою трагическую гибель в этой битве Хлебников предвидел вполне, но это не могло поколебать его решимость отвоевать небо.
И на пути меж звезд морозных
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мертвый, грозный,
С окровавленною бритвой...
Если "физический" контакт с отдельными ветвями метавселенной невозможен, то можем ли мы соприкоснуться на уровне мысли с обитателями иновселенной? Хлебников отвечает на этот вопрос положительно. В стихах эта встреча выглядит так:
Раз и два, один, другой,
Тот и тот идут толпой,
Нагибая звездный шлем,
Всяк приходит сюда нем.
Облечен в звезду шишак,
Он, усталый, теневой,
Невесомый, но живой,
Опустил на остров шаг.
Остров Хлебникова в метавселенной — это поэтический порыв мысли первых десятилетий нашего века.
С мыслью о принципиальной невозможности физического контакта с иными вселенными человечество смириться может, труднее представить невозможность контакта на уровне языка, на уровне мысли, воображения, представления. Хлебников все же дает нам некоторую надежду. Его "звездная азбука" адресована всей метавселенной, всем мирам. Правда, мы не подозреваем о многих ее космических слоях, как птицы не подозревают о языке людей, хотя в принципе в "языке птиц" и "языке людей" у Хлебникова те же звуки.
Размышляя традиционно, мы все же должны предположить, что если есть метавселенная, значит, множество вселенных представляет некое материальное единство, а если так, то должен существовать некий единый код всей материи — метакод. Здесь понятие о нем расширяется по сравнению с первое главой. Уже не просто астрономический код, а более насыщенное понятие, о котором речь еще впереди. В таком случае, говоря на "разных языках" и космологически не общаясь друг с другом, вселенные в принципе могут воссоздать семантику отдаленных миров в системе своих языков, но теорема Геделя с неполноте велит нам предположить, что и в этом случае останутся вселенные, не охваченные единым кодом. Правда, тут есть некоторое утешение: ведь язык поэзии в принципе всегда разомкнут, открыт в другие миры и потому в житейском смысле заумен или даже "безумен", говоря словами Хлебникова. Поговорим о метавселенной поэта просто на языке поэзии.
И Мировичей — дух надзвездный, зазвездил и
Синим лоном неба; он обитаем
Последний и одинокий.
Миров иных изведал жажду,
Мирейные целины просек оралом звездным,
Разгреб за валом бездны мировинные целины.
"Звездная азбука" звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое метавселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:
Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути,
Батыевой дорогой зовут их иногда.
К замку звезд
Прибьем, как воины, свои щиты.
Так же, как сейчас мы путешествуем в пространстве, мы сможем передвигаться во времени. Путешествие во времени будет выглядеть неподвижным в пространстве.
Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею.
"Птица звезд" — очертания нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, "фотонная ракета", двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорил о превращении в космический корабль всей галактики.
"Звездная азбука" Хлебникова — космический ориентир для плавания по океану поэзии. Об этом лучше всего говорит сам поэт:
Еще раз, еще раз
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни ‹...›
Возвращаясь к модели метавселенского древа, вспомним, что корни и ствол у вселенского мысленного древа едины, и тогда разобщенность ветвей вселенных не покажется столь абсолютной. Во всяком случае, Хлебников это древо видел и оставил нам его образ, где, как в голограмме, каждая часть содержит информацию о целом.
Изломан сук на старом дереве,
Как Гоголь, вдруг сожегший рукописи ‹...›
Казалось, в поисках пространства Лобачевского,
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем, веткою ночь проколов ‹...›
Ты тянешь кислород ночей могучим неводом,
В ячеях невода сверкает рыбой синева ночей,
Где звезды — предание о белокуром скоте.
Это дерево — настоящая поэтическая модель метавселенной. Здесь листва, прорываясь в небо, повторяет путь воинов Ермака и одновременно вычерчивает кривые Лобачевского, выходя в четвертое измерение пространства-времени.
Так мы вычерчиваем древо метавселенной, хотя наши сегодняшние представления о ней со временем могут показаться не более достоверными, чем мифологические предания о звездах как о "белокуром скоте". И все же, как приятно "растекаться" поэтической мыслью по метавселенскому древу Хлебникова.
Здесь самые разные, будто бы созданные разными поэтами строки складываются в единую голограмму вселенной. В этом сказочном замке можно, спустившись в подземелье египетской гробницы, выйти навстречу будущему. Можно в самолетном "шуме Сикорского" уловить стрекотание кузнечика и трепет прозрачных крыльев. Стихи Хлебникова и его поэмы удивительно похожи на очертания "умных машин", переливы жидких кристаллов; его образы перекликаются своей необычностью с математическими законами, открытыми научной мыслью XX века. Он воочию видел "стеклянные соты" современных зданий, он видел и то, что, возможно, еще предстоит совершить человечеству, "прикрепив к созвездию парус".
Математический ум поэта с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства, при этом большее пространство часто оказывается заключенным в меньшее:
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам ‹...›
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник ‹...›
Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки: меньшая матрешка вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам.
Для нас гипотеза о человеческом хронотопе, назовем ее так, есть, прежде всего, яркий художественный миф Хлебникова. Этот миф строился на новейших научных представлениях и в то же время из древнейших блоков всей мифологии культур Востока и Запада.
В своей стройности пространственно-временной мир поэта хватывает все слои языка, от звука до композиции произведения в целом.
Здесь уместно вспомнить разъяснение к новой космологии мира, данное самим Эйнштейном: "Программа теории поля обладает огромным преимуществом, заключающимся в том, что отдельное понятие пространства (обособленного от пространства-времени) становится излишним. В этой теории пространство — это не что иное, как четырехмерность поля, а не что-то существующее само по себе. В этом состоит одно из достижений общей теории относительности, ускользнувшее, насколько нам известно, от внимания физиков". (То, что ускользнуло от физиков, "не ускользнуло" от Хлебникова еще в 1904 году.) Эйнштейн считал, что четырехмерность мира вообще нельзя увидеть человеческим взором:
"Я смотрю на картину, но мое воображение не может воссоздать внешность ее творца. Я смотрю на часы, но не могу представить себе, как выглядит создавший их часовой мастер. Человеческий разум не способен воспринимать четыре измерения". Он не знал, что еще до выхода в свет специальной теории относительности Хлебников создавал свою четырехмерную поэтику, полностью подчиненную задаче открыть четырехмерное зрение:
"Люди! Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси пространства). Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, этому щенку четвертую лапу — время".
О четырехмерном мире Эйнштейна-Минковского хорошо сказано в книге астронома Ф. Зигеля «Неисчерпаемая бесконечность»:
"В 1909 году немецкий математик Герман Минковский предложил оригинальную модель реального мира. К трем обычным его измерениям он прибавил четвертое измерение — время. В самом деле, всякое событие происходит не только где-нибудь (для этого нужно знать три измерения, точнее, три координаты), но и когда-нибудь. Поэтому наш пространственно-временной мир Минковский предложил представить по аналогии с железнодорожным графиком. Тогда каждому объекту, в том числе и человеку, в четырехмерном мире Минковского будет соответствовать некоторая кривая, которую он предложил назвать мировой линией.
Конечно, мировая линия может быть лишь в том случае если речь идет о математической точке, существующей во времени. Что же касается протяженных тел, то их четырехмерные изображения в мире Минковского скорее можно сравнить со змеями или червями. Так, например, всякий человек в мире Минковского сразу представлен всей своей жизнью от момента появления на свет до смерти. То же, что мы видим вокруг себя есть сечение в данный момент времени странных четырехмерных образований".
Правда, Зигель, в отличие от Эйнштейна, считает четырехмерность лишь удобной математической абстракцией. Хлебников, как и Эйнштейн, четырехмерность пространства-времени считал реальностью всей вселенной. Его поэзию можно назвать эстетическим обживанием вселенной Эйнштейна.
Теория относительности дает две космологические модели пространства-времени нашей вселенной: замкнутую расширяющуюся (сферу) и открытую вселенную с отрицательной кривизной (гиперсферой). Любое событие в такой вселенной изображается не точкой, а мировой линией, проходящей по всей поверхности пространства-времени. С вселенской точки зрения любое точечное событие в нашем мире растягивается, как веер, в четырехмерном континууме. Получается, что роковая пуля Дантеса, столь молниеносно пролетевшая в нашем трехмерном пространстве, в четырехмерном вселенском пространстве-времени продолжает свой путь сейчас и летела там еще до того, как Дантес спустил курок. Хотя понятия "до" и "после" вполне реальны в нашем пространстве, они не имеют никакого смысла во вселенском четырехмерном мире.
На сферической поверхности мира линия мировых событий рано или поздно должна сомкнуться, как всякая искривленная линия и, стало быть, повториться. Это приводит к несколько странному выводу. Выстрел Дантеса, прозвучавший в нашем реальном пространстве в 1837 году, в четырехмерном континууме должен периодически повторяться каждый раз, если кончатся искривленная линия мировых событий. При этом нелььзя сказать, который из выстрелов следует считать повтором. Во вселенной Эйнштейна понятия "раньше" и "позже" не имеют никакого реального смысла.
Хлебников смотрел на время таким, космическим взором. Он считал, что "вселенские" повторы одного и того же события имеют отношение и к нашему трехмерному пространству. Во вселенском пространстве-времени "раньше" и "позже" не существует. Там все, что было — будет, и все, что есть — было. А что, если спроецировать такое вселенское видение на наш, земной мир?
Воспроизведено с согласия автора по: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kedrov/ogl.shtml
________________________________________
(o) Хлебникова поле. HTML, 2005 содержание раздела на главную страницу
© Copyright: Кедров-Челищев, 2008
Свидетельство о публикации №1802124207
Список читателей /

|
Метки: хлебников кедров |
К 125-летию Велимира Хлебникова |
Дневник |
К 125-летию Велимира Хлебникова Звездная азбука

ВСЕЛЕННАЯ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
К.А. Кедров
Еще в XIX веке возник спор: в какой вселенной мы живем? Видим ли мы своими глазами мир реальный, или очи обманывают, и мир отнюдь не очевиден. Первый камень в хрустально ясный образ бросил Лобачевский. Его “воображаемая геометрия” вызвала гнев и возмущение ученого мира. Лобачевского высмеяли, об открытии позабыли.
Когда сын Н.Г. Чернышевского заинтересовался геометрией Лобачевского, Николай Гаврилович из ссылки прислал письмо, где всячески отговаривал его от вздорной затеи. Даже Чернышевский считал геометрию Лобачевского безумной.
Бунт против неевклидовой геометрии слышен в пламенном монологе Ивана Карамазова, под которым и сегодня могли бы многие подписаться:
„Но вот, однако, что надо заметить: если Бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже теперь геометры и философы, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее, — все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Евклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если даже этого не понять, то где же мне про Бога понять. Я смиренно соединяюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум евклидовский, земной, а потому где мам решать о том, Что не от мира сего. Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу; увижу, что сошлись, и все-таки не приму”.
Позиция В. Хлебникова совершенно иная, антикарамазовская. Вслед за Достоевским он пристально всматривался в ту отдаленную, а может быть, и очень близкую точку вселенной, где параллельные прямые, образно говоря, “пересекаются в бесконечности”.
После открытий Минковского и Эйнштейна “воображаемая геометрия” оказалась физической и космической реальностью. К ней устремились взоры многих писателей и поэтов XX века.
Я — Разин со знаменем Лобачевского, — писал о себе Велимир Хлебников. Если сегодня окинуть взором многочисленные статьи о нем, мы не найдем в них разгадки этих слов. Главные мысли Хлебникова так и остались погребенными.
В 1916 году в своем воззвании «Труба марсиан» поэт писал:
Что больше: “при” или “из”? Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями.
Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи. Лобачевский отсылался вами в приходские учителя.
Вот ваши подвиги! Ими можно исписать толстые книги!..
Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой природы, других народов и особого посольства. отделяются от приобретателей в независимое государство времени
Для современников было непонятно обращение к Лобачевскому. Поэт может быть певцом восстаний и революций, но при чем здесь воображаемая геометрия? Каждый год выходят статьи о Хлебникове, но его неевклидово зрение по-прежнему не интересует исследователей. Пора восполнить пробел.
Девятнадцатилетним студентом В. Хлебников прослушал в Казанском университете курс геометрии Лобачевского, и уже тогда он начертал свое «Завещание»: Пусть на могильной плите прочтут: он связал время с пространством, он создал геометрию чисел. Не пугайтесь, читатели: “числа” Хлебникова это совсем не та скучная цифирь, которой потчевали в школе. У поэта они поют, как птицы, и разговаривают человеческими голосами. Они имеют свой вкус, цвет и запах, а время и пространство не похожи на некую безликую массу — они сливаются в человеке. Хлебников был уверен, что человеческие чувства не ограничиваются пятью известными (осязание, зрение, вкус, слух, обоняние), а простираются в бесконечность.
Он был настолько ребенок, что полагал, что после пяти стоит шесть, а после шести семь. Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одно и еще одно, там имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность.
Но это опять же иная бесконечность. У Хлебникова она вся заполнена нашими чувствами. Только открывается это человеку лишь в кульминационный, предсмертный миг.
Может быть, в предсмертный миг, когда все торопится, все в паническом страхе спасается бегством, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого со страшной быстротой происходит такое заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ.
“Разрывы” и “рвы” не позволяют нам в обычных условиях видеть все бесконечное энмерное пространство-время вселенной.
Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувные тучи, соединив два ряда переживаний в воспаленном сознании больного мозга?
Два ряда переживаний — это чувства пространства (зрение) и времени (слух).
Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к соединению пяти чувств человека: Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно, но велико...
На смену разрозненным в пространстве и времени пяти чувствам должно прийти единое пространственно-временное видение мира. Поэт сравнивает разрозненные чувства с беспорядочными точками в пространстве. Слияние этих точек будет восприятием всего энмерного пространства в целом, без дробления его на слуховые и зрительные образы.
Узор точек, когда ты заполнишь белеющие пространства, когда населишь пустующие пустыри?..
Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части единой плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки великого протяженного многообразия.
И есть независимые переменные, с изменением которых ощущение разных рядов — например: слуховые и зрительные или обонятельные — переходят одно в другое.
Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в кукование кукушки или в плач ребенка, станет им.
Хлебников предсказывает, что единое, протяженное многообразие пространства-времени, ныне воспринимаемое человеком разрозненно, рано или поздно будет восприниматься в целом. Это приведет к слиянию пяти чувств, к новому видению мира, ради которого должна сегодня работать поэзия.
Эта вера была незыблемой на протяжении всей его жизни. В одном из последних прозаических отрывков незадолго до смерти поэт писал:
Я пишу засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив ее черный сухой прут со всех сторон.
Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной ‹...›
За это время пронеслась река событий ‹...›
Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это “вера 4-х измерений”
3.IV.1922
Вера 4-х измерений — это теория относительности Эйнштейна, в которой как бы подтвердилась догадка поэта о существовании единого пространства-времени.
Свое юношеское «Завещание» Хлебников писал в предчувствии великого открытия, которое спустя пять лет было сформулировано на основе теории относительности Альберта Эйнштейна математиком Германом Минковским в 1908 году:
„Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность”.
Слова эти ясно перекликаются с «Завещанием» юного студента, еще не известного в литературных кругах. Хлебников прослушал курс геометрии Лобачевского и, размышляя о ней, поставил перед собой задачу связать пространство со временем.
Эйнштейн и Минковский пришли к выводу о существовании четвертой пространственно-временной координаты, исходя косвенным образом из тех же идей Лобачевского.
Однако Хлебников шел иными путями, и его понимание пространства и времени было и остается до настоящего времени совершенно феноменальным.
Отрывок «Завещания» дает ясно почувствовать, как преломились в сознании поэта идеи Лобачевского. В отличие от Минковского и Эйнштейна, он считал, что пространство и время соединяются в человеке. Здесь, в сфере живого мыслящего существа, образуется тот узел, где пересекаются параллельные прямые. Здесь готовится гигантский скачок не только сквозь бездны космического пространства, но и сквозь бездны времени. Человечество должно “прорасти” из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки, воюя за объем, веткою ночь проколов.
Как уже говорилось ранее, в трудах академика В.И. Вернадского высказана сходная мысль: крупнейший ученый считал, что именно пространство живого вещества обладает неевклидовыми геометрическими свойствами.
Когда-то Ломоносов увидел в гласных звуках образ пространства. Так, звук “а” указывал направление ввысь:
Открылась безднА звезд полнА;
ЗвездАм числа нет, бездне днА.
Хлебников спустя двести лет продолжал мысли Ломоносова о пространственной природе звука, распространив ее не только на гласные, но и на согласные звуки. Возникла “звездная азбука”, о которой речь в дальнейшем.
В одной из его записей говорится, что, если язык Пушкина можно уподобить доломерию Евклида, не следует ли в современном языке искать доломерие Лобачевского. Расшифровка этой мысли проста и высоко поэтична. Евклидова геометрия основывается на обычном опыте человечества. Доломерие Лобачевского иного рода, оно основывается на необыденном. Лля того чтобы представить его, нужно оторваться от повседневности и очевидности. Таков неожиданный отрыв Хлебникова от привычных значений звука.
Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли в одном направлении; придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную изобразительность. Звук у Хлебникова — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет.
Если читать звуковые стихи Хлебникова, пользуясь данным поэтом ключом к их пониманию, то каждый звук приобретает сияющую цветовую бездонность, перед глазами возникают величественные пространственные структуры, изменяющиеся, превращающиеся друг в друга, творящие из себя зримые очертания неочевидного мира.
Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени. Он чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук очертания пространства и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы.
Он действительно опространствливал время и придавал пространству текучесть времени.
Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового языка. Он точно свет. Слушайте Песни “звездного языка”.
Доломерие — славянская калька со слова “геометрия”: “гео” — доле, го есть пространство.
Итак, вот видимое звучание “звездной азбуки”. Мировое энмерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого. Но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки, а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства, тогда узор точек (чувств) заполнит пустующие пространства и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной.
Звук “с” будет точкой, из которой исходит сияние. Звук “з” будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это “зигзица” — молния, это зеркало, это зрачок это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук “п” будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет “парить” в пространстве, как парашют.
Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучные имена. Тогда человек был пуст, как звук “ч”, как череп, как чаша. В темной черноте этого звука уже рождается свет “с”, уже луч преломляется в зрение, как звук “з”.
Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал “прямостоящее двуногое” — его назвали через люд, ибо “л” — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук “л” — модель победы над весом.
Ныне звуки в языке выглядят как “стершиеся пятаки”, их первоначальное пространственно-временное значение, интуитивно воспринятое в детстве человечеством, забыто. О нем должны напомнить поэты. Но древние слова, как древние монеты, хранят в начале слова звук — ключ к их пониманию.
Так, в начале слова “время” стоит звук “в”, означающий движение массы вокруг центра. Этим же знаком обозначен “вес” — нечто прикованное к своей орбите, но стремящееся разбежаться и улететь. В результате получается “вращение”. Вес, время, вращение — вот модель попытки вырваться за пределы тяготения. В результате получается движение планет по кругу, по орбите вокруг центра тяготения.
В противоположность этому стремлению вырваться за пределы тяготения есть центростремительная сила вселенной, выраженная в структуре звука “б”. Это тяжкое бремя веса. Чем больше сила тяжести, тем медленнее течет время (это предположение Хлебникова подтвердилось в общей теории относительности, которую Хлебников справедливо назвал — вера 4-х измерений).
Итак в момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и какими заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:
Времыши-камыши
На озера бреге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
Пространственно осязаем звук в «Слове об Эль»:
Когда судов широкий вес
Был пролит на груди,
Мы говорили: видишь, лямка
На шее бурлака. ‹...›
Когда зимой снега хранили
Шаги ночные зверолова,
Мы говорили — это лыжи. ‹...›
Он одинок, он выскочка зверей,
Его хребет стоит как тополь,
А не лежит хребтом зверей,
Прямостоячее двуногое
Тебя назвали через люд.
Где лужей пролилися пальцы,
Мы говорили — то ладонь. ‹...›
Эль — путь точки с высоты,
Оставленный широкой
Плоскостью. ‹...›
Если шириною площади остановлена точка — это Эль.
Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения, — это Эль.
Таков силовой прибор,
Скрытый за Эль.
“Формула-образ” — иного определения и не придумаешь для последних строк этого стиха. Может ли формула быть иллюзией? Конечно, только поэт может увидеть в этой формуле судов широкий вес, пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы действительно расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению, действительно ставшему первой победой человека над силами тяготения, — победой, которая сравнима только с выходом человека в космос в XX веке. Пожалуй, даже большей. Ведь не было для этого каких-то технических приспособлений.
Рядом со “звездным языком” и «Словом об Эль» стоит в поэзии Хлебникова гораздо более известное, но, пожалуй, гораздо менее понятое непосредственным читателем стихотворение «Бобэоби»:
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
В отличие от “звездной азбуки” и от «Слова об Эль», это стихотворение строится не просто на пространственной структуре звука, но и на тех ассоциативных ощущениях, которые вполне закономерно могут возникнуть у большинства читающих. Произнося слово бобэоби, человек трижды делает движение губами, напоминающими поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: пелись губы. Слово лиэээй само рождает ассоциацию со словом “лилейный”, гзи-гзи-гзэо — изящный звон ювелирной цепи.
Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом как музыка и считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: связать пространство и время, звуками написать портрет. Вот почему две последние строки — ключ ко всему стихотворению в целом: Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо.
Протяжение — важнейшее свойство самого пространства. Протяженное, зримое, видимое. Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета и звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, воссоздающее женский образ. Этот портрет “пелся”: пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством.
Соединить пространство и время значило также добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, где голубизна василька сольется с кукованием кукушки. Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук тоже был связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. Он считал, что звук “м” — темно-синий, “з” — золотой, “в” — зеленый.
Звукопись
Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — темный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пучь и чапи — черный грач. ‹...›
Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку. ‹...›
Мивеаа — небеса.
Реакция окружающих на эти слова в драме «Зангези» вполне определенна:
Слушающие. Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Зангези!
Но мы прислушаемся к словам поэта. Несомненно, что звуковые ассоциации Хлебникова, связанные с окраской звука, так же субъективны, как ассоциация, скажем, Рембо, но есть здесь и нечто объективное.
В 1967 году я сравнил цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников, приведенными в статье Г.Н. Ивановой-Лукьяновой.
У Хлебникова:
З — отражение луча от зеркала (золотой);
С — выход точек из одной точки (свет, сияние);
Д — дневной свет;
Н — розовый, нежно-красный.
Большинство школьников окрасили звук “с” в желтый цвет. У Хлебникова этот звук — свет солнечного луча.
Звук “з” одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой цвет.
Многие, как и Хлебников, окрасили “м” в синий цвет, хотя большая часть считает “м” красным.
Эти данные тем более ценны, что лингвист-фонетик никак не соотносил свои исследования с поэзией Хлебникова.
Видимо, цветозвуковые фонемы Хлебникова и его “звездная азбука” глубоко уходят корнями в пространственно-временные свойства.
Подтверждение правоты В. Хлебникова еще раз пришло несколько неожиданно для меня в 1981 году. В это время вышла книга калининградского лингвиста А. П. Журавлева «Звук и смысл». Там сообщалось, что многие поэты, подчас неосознанно, видят цвет звука. Звуки “а” и “я” передают красный цвет, а звук “о” — желтый и т. д.
Спустя два года А.П. Журавлев перебрался в Москву, и мы совместно повторили опыт с окраской звука по телевидению в передаче «Русская речь».
Перед школьниками лежали разноцветные карточки и буквы русского алфавита. На глазах у зрителей они должны были выбрать для каждой буквы свой цвет.
Теперь уже не по книгам, а в реальности я как ведущий телепередачи убедился в правоте Велимира Хлебникова. Многие школьники выбрали хлебниковские цвета. Для них, как и для поэта, “м” был синим звуком.
Конечно, здесь существуют тонкости. Даже в обычном опыте один и тот же цвет люди видят по-разному. Для дальтоников, например, красный и зеленый неразличимы, так сказать, на одно лицо. Есть люди, которые видят мир черно-белым. Что уж-говорить о высоте восприятия Хлебникова или Рембо.
Цветозвук Велимира Хлебникова — весть из другого, как говорили древние, “горнего” мира. Горний мир высоко, как хрустальная небесная гора, но в душе человека эта высота есть. „Горе имеем в сердцах”, — восклицали древние поэты. Слово стало исчезать из нашего языка. Только у Цветаевой в «Поэме горы»:
Вздрогнешь — и горы с плеч, и душа — горе.
Дай мне, о горе, спеть о моей горе...
Цветозвуковая небесная гора Хлебникова как бы опрокинута в человека. Он смотрит с ее вершины и видит: Стоит Бештау, как А и У, начертанные иглой фонографа. При таком взгляде звучат любые контуры предмета. А ныне появились переложения рельефа Альпийских гор на музыку — нечто величественное, похожее на фуги Баха, хотя выполнял эту работу компьютер.
Я представляю, как трудно было поэту жить в мире сияющих слов, в пространстве звучащих облаков и гор. Бештау аукался очертанием своих вершин, одновременно поэт слышал здесь древнеиндийский мировой звук “аум”.
Хлебников утверждал, что в звучании “ау” содержится 365 колебаний (подсчитывал на фонографе), одновременно 365 дней в году и еще 365 разновидностей основных мышц у человека, и отсюда мысль о повторяемости каждого мирового цикла событий через каждые 365 ± 48 лет. К этому открытию мы еще вернемся, а пока прислушаемся к “звездной азбуке”.
Она похожа на современную космологическую модель метавселенной, где мифы переплетены, взаимопроникаемы и в то же время невидимы друг для друга.
Иные вселенные могут валяться в пыли у наших ног, могут пролететь сквозь нас, не оставляя следа.
Я вспоминаю стихотворение Велимира Хлебникова, где Сириус и Альдебаран блестят в пыли под ногтем.
Это так близко к нашему восприятию метавселенной.
Выходит, что поэт интуитивно видел метавселенную, жил в ней уже в 20-х годах нашего столетия, хотя, конечно, не надо отождествлять его мир со строго научной космогонией. Мета-вселенную можно представить как дерево со множеством веток, вторые не соприкасаются между собой. Каждая ветвь — вселенная, либо подобная нашей, либо отличная от нее. Именно такую модель предложил И.С. Шкловский.
В космической драме «Зангези» Хлебников воздвигает колоду плоскостей слова, которые вполне можно уподобить листве на древе метавселенной. Их единый образ — утес среди гор соединенный мостом случайного обвала основной породою гор.
Мост случайного обвала — это символ поэтического прорыва к единой метавселенной. Сам утес, похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом, одновременно — на посох рядом со стеной, — символ нашей вселенной, одиноко возвышающейся среди “основных” пород других миров.
Метавселенная здесь похожа еще на книгу с каменными страницами: Порою из-за корней выступают каменные листы основной породы. Узлами вьются корни, там, где высунулись углы каменных книг подземного читателя.
Плоскости-вселенные отданы людям, птицам, числам, богам, поэтам, но главное действие разворачивается на восьмой плоскости, где Зангези сообщает миру свою “звездную азбуку”.
Она состоит из тех же звуков, которыми изъясняются боги, птицы и люди, но значения этих звуков совсем иные. Это речи здание из глыб пространства.
Хлебников создает здесь свой вселенский метаязык. Не будем смешивать его в дальнейшем с метаязыком лингвистов, хотя у Хлебникова есть и это значение.
Слова — нет, есть движение в пространстве и его части — точек, площадей ‹...› Плоскости, прямые, площади, удары точек, божественный угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык, и вы увидите пространство и его шкуру.
В каждом звуке нашего языка таится модель одной из многочисленных вселенных. Легко воспроизвести эти модели графически. Вэ — вращение одной точки около другой.
Это модель нашей галактики, где все планеты и звезды вращаются вокруг центра. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце — вокруг оси галактики.
Эль — остановка падения или вообще движения плоскостью, поперечной падающей точке ‹...›
Это модель “двухмерного мира”, растекающегося на плоскости. Мир поверхностей населял воображаемыми “плоскатиками” еще Эйнштейн в книге «Эволюция физики». “Плоскатики” не видят объема, для них третье измерение — такая же математическая абстракция, как для нас четвертое. Гусеница, ползущая по листу и не ведающая о дереве, — вот наилучший образ плоскатика. Так мы не видим древа метавселенной и даже не различаем четвертую пространственно-временную координату своей вселенной.
Эр — точка, просекающая насквозь поперечную площадь.
Это одномерная вселенная. Ее “точечные” обитатели не подозревают о существовании линии или плоскости. Их мир — сплошной дискретный мир точек. Мир квантовый. Они “скачут”, как фотоны, из ничего в ничто.
Пэ — беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объема ‹...›
Это наилучший образ нашей разбегающейся, расширяющейся вселенной.
Эм — распыление объема на бесконечно малые части.
Образ сжимающейся вселенной, скажем, в областях черных дыр.
Эс — выход точек из одной неподвижной точки (сияние).
Наилучший образ нашей вселенной в первый момент “творения” — взрыва.
Ка — встреча и отсюда остановка многих движущихся точек в одной неподвижной. Отсюда конечное значение Ка — покой, закованность.
Это опять же в районе черных дыр и максимального гравитационного уплотнения массы.
Ха — преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней ‹...›
Это может быть стена уплотнения в области подлета к черной дыре. Между “нами” и “ними” образуется плотная стена. Уплотняется вся вселенная, пока не перейдет в стадию Эль — растекание по плоскости до бесконечности.
Че — полый объем, пустота ‹...› —
Это наша вселенная в будущем на стадии максимального расширения. Находясь внутри ее, мы окажемся как бы в полом объеме.
Зэ — отражение луча от зеркала. — Угол падения равен углу отражения.
Это зримый образ нашей встречи с антимиром, частицы с античастицей. Зеркальное отражение без соприкосновения.
Гэ — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда вышина.
Это антигравитация, полет, невесомость и сингулярность, есть область преодоленного тяготения.
С — свет, расходящийся от точки.
П — разлетающийся объем.
Модели Хлебникова многослойны: это просто звуки (язык птиц), это звуки-знаки (язык богов), звуки-речи (язык людей) звуки — модели пространства, звуки — модели пространства-времени нашей вселенной на разных стадиях существования — то, что мы только что рассматривали, и, наконец, седьмой уровень — “знаки звездного языка” метавселенной. На этом уровне они звучат для нас просто как “заумный язык”, поскольку вселенные метавселенной на уровне привычного языка непередаваемы, ибо говорит поэт: У нас три осады: осада времени, слова и множества.
Осада времени — это разобщенность вселенных, в каждой свое время и свое пространство, не совпадающее с нашим.
Осада множества — множественность вселенных в метавселенной и принципиальная невозможность сведения их к ОДНОМУ знаменателю.
Осада слова — это ясно выражено в теореме Геделя о неполноте, где доказано, что любой язык, любая знаковая система зиждется на противоречивых утверждениях, то есть язык в принципе не может быть полным описанием реальности.
У языковедов появился термин “метаязык”, то есть язык из другой знаковой системы, который восполняет неполноту другого. Каждый язык неполон, и в то же время он выступает как абсолют, как метаязык по отношению к другому.
Так “звездная азбука” Хлебникова размыкается на всех уровнях. Язык птиц переходит в язык богов, язык богов становится языком людей, язык людей превращается в систему геометрических символов, в космогонические модели, а космогонические модели размыкаются в “заумный язык” невнятного для человека лепета метавселенной:
Боги великие звука,
Пластину волнуя земли,
Собрали пыль человечества,
Пыль рода людей.
Мы — дикие звуки,
Мы — дикие кони,
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры ‹...›
Хлебников приоткрыл тайну своего метаязыка в записных книжках: в этом языке семь слоев. Это:
1) звукопись — птичий язык;
2) язык богов;
3) звездный язык;
4) заумный язык — “плоскость мысли”;
5) разложение слов;
6) звукопись;
7) безумный язык.
Их комбинации в разных сочетаниях дают множество звуковых вселенных.
Поскольку сам Хлебников объяснял, что звук в его драме «Зангези» — это модель пространства, мы можем вычертить контуры каждой вселенной.
Птичий язык соответствует одномерной вселенной — движение точек на плоскости.
Язык богов — двухмерная вселенная — плоскости разных культур.
Звездный язык — трехмерные модели знакомых нам объемов, движущихся в пространстве.
Заумный язык, или плоскость мысли, — это четырехмерное пространство, то есть то, что нельзя охватить обыденным зрением.
Разложение слова — это пространство микромира, опять же ускользающее от обычного видения.
Звукопись — язык четвертой, пространственно-временной координаты, где звуку-времени соответствует пространственная окраска и форма.
И наконец, так называемый безумный язык иных вселенных, которые мы в принципе не можем представить, ибо еще Фрэнсис Бэкон писал, что „вселенную нельзя низводить до уровня человеческого разумения, но следует расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринять образ вселенной по мере ее открытия”.
Прочитав “звездную азбуку”, легко понять смысл имени Зангези: “з” — луч света, преломленный и отраженный в косной преграде “н”; преодолев эту преграду, свет знания устремляется ввысь, как возвышенный звук “г”, и, преломившись в лесной сфере, луч истины снова возвращается на землю молнией звука “з” — ЗаНГеЗи.
В имени Зангези — композиция и сюжет всего произведения. Имя Зангези похоже на щебет птиц — это первая плоскость звука и первое действие драмы. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в энмерном пространстве-времени.
Первая плоскость — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:
Пеночка (с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко).
Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!
‹...›
Дубровник. Вьер-вьöр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-виру сек-сек-сек!
‹...›
Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк, пьяк, пьяк!
Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал язык птиц. Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками. Вторая плоскость — язык богов. Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, давшие им названия. Значение звуков еще непонятно, но оно интуитивно соответствует облику богов. В этой плоскости богов было создано стихотворение «Бобэоби».
Суровый Велес урчит и гремит глухими рычащими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:
Рапр, грапр, апр! Жай!
Каф! Бзуй! Каф!
Жраб, габ, бокв — кук!
Ртупт! Тупт!
Конечно, и язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает такого рода ремарки:
Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи.
Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языков их ареалов культуры.
Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное — четвертое измеререние, и ему открывается звездный язык вселенной. Опьяненный своим открытием, Зангези радостно несет весть о нем людям, елям и богам: Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок.
Реакция окружающих банальна. Одни видят в его азбуке “когти льва”, но не стремятся его понять, другие просто называют Зангези безумцем. Тогда Зангези опрокидывает свой звездный язык с небес на землю, проецируя небо звуков и сферу неба на сферу мозга. Звучит опьяняюще возвышенный благовест ума:
Проум
Праум
Приум
Ниум
Вэум
Роум
Заум
Выум
Воум
Боум
Быум
Бом
Сразу же после этого дается разгадка каждого образа:
‹...›
Проум — предвидение.
‹...›
Выум — слетающий обруч глупости.
Раум — не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. ‹...›
В “заумном языке” Хлебников моделирует состояние вселенной, где наши представления о пространстве и времени в принципе дают сбой. И.С. Шкловский писал, что здесь язык ceгодняшней науки немеет. В самом деле, как смоделировать такие понятия, стоящие на пороге сингулярности, как нуль-пространство, нуль-время? Наша вселенная возникла восемнадцать миллиардов лет назад, а что до этого? Нельзя сказать “до этого”, ведь “до” подразумевает время. Говоря словами И. Шкловского: „Что было, когда ничего не было?” Вот абсурдная и тем менее реальная постановка вопроса.
Первые три слоя нашей вселенной — язык птиц, язык богов и язык людей — нам знакомы. О чем же говорит слой четвертый — язык заумный? Это еще сфера нашей вселенной, но в той ее области, где смыкаются пространство и время в четвертую пространственно-временную координату.
Пятый и шестой слой метаязыка Хлебникова — разложение слова и звукопись — в принципе понятны. Каков же последний, седьмой слой — язык “безумный”? Его в драме нет и не может быть, он подразумевается как некая разомкнутость всех слоев языка в невыразимое, то, что сами мы именуем областью разрыва, отделяющей вселенные друг от друга.
К сожалению, мы не можем перелетать, как птицы Хлебникова, от одной ветви вселенной к другой. Равномерные вселенные, возможно, в принципе неконтактны. Хлебников догадывался и об этом. В его записных книжках есть такие слова:
Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно), не имеют строения сетей. Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, измерение одного мирка другой величиной.
Вот вам и проблема не межгалактических, а межвселенских контактов. Как измерить мерой нашего мира миры другой величины, мысленно перепрыгнуть из одной ячейки в другую?
Знаменитый “сдвиг”, широко пропагандируемый футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Теория “сдвига” требовала фактически смешения разновременных и разнопространственных планов изображения. Для Хлебникова “сдвиг” — это скачок из одной вселенной в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Вместо плавного чередования эпох, предлагаемого учебником истории, Хлебников дает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя.
Зачем же вам глупый ученик?
Скорее учитесь играть на ладах
Войны без дикого визга смерти —
Мы — звуколюди!
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече!
Поэт призывал человечество “вломиться” во вселенную:
Прибьем, как воин, свои щиты, пробьем
Стены умного черепа вселенной,
Ворвемся бурно, как муравьи в гнилой пень,
С песней смерти к рычагам мозга,
И ее, божественную куклу, с сияющими по ночам глазами,
Заставим двигать руками
И подымать глаза.
Свою трагическую гибель в этой битве Хлебников предвидел вполне, но это не могло поколебать его решимость отвоевать небо.
И на пути меж звезд морозных
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мертвый, грозный,
С окровавленною бритвой ‹...›
Если “физический” контакт с отдельными ветвями мета-вселенной невозможен, то можем ли мы соприкоснуться на уровне мысли с обитателями иновселенной? Хлебников отвечает на этот вопрос положительно. В стихах эта встреча выглядит так:
Раз и два, один, другой,
Тот и тот идут толпой,
Нагибая звездный шлем,
Всяк приходит сюда нем.
Облечен в звезду шишак,
Он, усталый, теневой,
Невесомый, но живой,
Опустил на остров шаг.
Остров Хлебникова в метавселенной — это поэтический порыв мысли первых десятилетий нашего века.
С мыслью о принципиальной невозможности физического контакта с иными вселенными человечество смириться может, труднее представить невозможность контакта на уровне языка, на уровне мысли, воображения, представления. Хлебников все же дает нам некоторую надежду. Его “звездная азбука” адресована всей метавселенной, всем мирам. Правда, мы не подозреваем о многих ее космических слоях, как птиць не подозревают о языке людей, хотя в принципе в “языке птиц” и “языке людей” у Хлебникова те же звуки.
Размышляя традиционно, мы все же должны предположить, что если есть метавселенная, значит, множество вселенных представляет некое материальное единство, а если так, те должен существовать некий единый код всей материи — мета-код. Здесь понятие о нем расширяется по сравнению с первое главой. Уже не просто астрономический код, а более насыщенное понятие, о котором речь еще впереди. В таком случае, говоря на “разных языках” и космологически не общаясь друг с другом, вселенные в принципе могут воссоздать семантику отдаленных миров в системе своих языков, но теорема Геделя с неполноте велит нам предположить, что и в этом случае останутся вселенные, не охваченные единым кодом. Правда, тут есть некоторое утешение: ведь язык поэзии в принципе всегда разомкнут, открыт в другие миры и потому в житейском смысле заумен или даже безумен, говоря словами Хлебникова. Поговорим о метавселенной поэта просто на языке поэзии.
И Мировичей — дух надзвездный, зазвездил и
Синим лоном неба; он обитаем
Последний и одинокий.
Миров иных изведал жажду,
Мирейные целины просек оралом звездным,
Разгреб за валом бездны мировинные целины.
“Звездная азбука” звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое метавселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:
Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути,
Батыевой дорогой зовут их иногда.
К замку звезд
Прибьем, как воины, свои щиты.
Так же, как сейчас мы путешествуем в пространстве, мы сможем передвигаться во времени. Путешествие во времени будет выглядеть неподвижным в пространстве.
Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею.
Птица звезд — очертания нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, “фотонная ракета”, двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорил о превращении в космический корабль всей галактики.
“Звездная азбука” Хлебникова — космический ориентир для плавания по океану поэзии. Об этом лучше всего говорит сам поэт:
Еще раз, еще раз
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни ‹...›
Возвращаясь к модели метавселенского древа, вспомним, что корни и ствол у вселенского мысленного древа едины, и тогда разобщенность ветвей вселенных не покажется столь абсолютной. Во всяком случае, Хлебников это древо видел и оставил нам его образ, где, как в голограмме, каждая часть содержит информацию о целом.
Изломан сук на старом дереве,
Как Гоголь, вдруг сожегший рукописи ‹...›
Казалось, в поисках пространства Лобачевского,
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем, веткою ночь проколов ‹...›
Ты тянешь кислород ночей могучим неводом,
В ячеях невода сверкает рыбой синева ночей,
Где звезды — предание о белокуром скоте.
Это дерево — настоящая поэтическая модель метавселенной. Здесь листва, прорываясь в небо, повторяет путь воинов Ермака и одновременно вычерчивает кривые Лобачевского, выходя в четвертое измерение пространства-времени.
Так мы вычерчиваем древо метавселенной, хотя наши сегодняшние представления о ней со временем могут показаться не более достоверными, чем мифологические предания о звездах как о “белокуром скоте”. И все же как приятно “растекаться” поэтической мыслью по метавселенскому древу Хлебникова.
Здесь самые разные, будто бы созданные разными поэтами, строки складываются в единую голограмму вселенной. В этом сказочном замке можно, спустившись в подземелье египетской гробницы, выйти навстречу будущему. Можно в самолетном “шуме Сикорского” уловить стрекотание кузнечика и трепет прозрачных крыльев. Стихи Хлебникова и его поэмы удивительно похожи на очертания “умных машин”, переливы жидких кристаллов; его образы перекликаются своей необычностью с математическими законами, открытыми научной мыслью XX века. Он воочию видел стеклянные соты современных зданий, он видел и то, что, возможно, еще предстоит совершить человечеству, прикрепив к созвездию парус.
Математический ум поэта с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства, при этом большее пространство часто оказывается заключенным в меньшее:
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам ‹...›
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник ‹...›
Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки: меньшая матрешка вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам.
Для нас гипотеза о человеческом хронотопе, назовем ее так, есть прежде всего яркий художественный миф Хлебникова. Этот миф строился на новейших научных представлениях и в то же время из древнейших блоков всей мифологии культур Востока и Запада.
В своей стройности пространственно-временной мир поэта хватывает все слои языка, от звука до композиции произведения в целом.
Здесь уместно вспомнить разъяснение к новой космологии мира, данное самим Эйнштейном: „Программа теории поля обладает огромным преимуществом, заключающимся в том, что отдельное понятие пространства (обособленного от пространства-времени) становится излишним. В этой теории пространство — это не что иное, как четырехмерность поля, а не что-то существующее само по себе. В этом состоит одно из достижений общей теории относительности, ускользнувшее, насколько нам известно, от внимания физиков”. (То, что ускользнуло от физиков, “не ускользнуло” от Хлебникова еще в 1904 году.) Эйнштейн считал, что четырехмерность мира вообще нельзя увидеть человеческим взором:
„Я смотрю на картину, но мое воображение не может воссоздать внешность ее творца. Я смотрю на часы, но не могу представить себе, как выглядит создавший их часовой мастер. Человеческий разум не способен воспринимать четыре измерения”. Он не знал, что еще до выхода в свет специальной теории относительности Хлебников создавал свою четырехмерную поэтику, полностью подчиненную задаче открыть четырехмерное зрение:
Люди! Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси пространства). Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, этому щенку четвертую лапу — время.
О четырехмерном мире Эйнштейна-Минковского хорошо сказано в книге астронома Ф. Зигеля «Неисчерпаемая бесконечность»:
В 1909 году немецкий математик Герман Минковский предложил оригинальную модель реального мира. К трем обычным его измерениям он прибавил четвертое измерение — время. В самом деле, всякое событие происходит не только где-нибудь (для этого нужно знать три измерения, точнее, три координаты), но и когда-нибудь. Поэтому наш пространственно-временной мир Минковский предложил представить по аналогии с железнодорожным графиком. Тогда каждому объекту, в том числе и человеку, в четырехмерном мире Минковского будет соответствовать некоторая кривая, которую он предложил назвать мировой линией.
Конечно, мировая линия может быть лишь в том случае если речь идет о математической точке, существующей во времени. Что же касается протяженных тел, то их четырехмерные изображения в мире Минковского скорее можно сравнить со змеями или червями. Так, например, всякий человек в мире Минковского сразу представлен всей своей жизнью от момента появления на свет до смерти. То же, что мы видим вокруг себя есть сечение в данный момент времени странных четырехмерных образований.
Правда, Зигель, в отличие от Эйнштейна, считает четырехмерность лишь удобной математической абстракцией. Хлебников, как и Эйнштейн, четырехмерность пространства-времени считал реальностью всей вселенной. Его поэзию можно назвать эстетическим обживанием вселенной Эйнштейна.
Теория относительности дает две космологические модели пространства-времени нашей вселенной: замкнутую расширяющуюся (сферу) и открытую вселенную с отрицательной кривизной (гиперсферой). Любое событие в такой вселенной изображается не точкой, а мировой линией, проходящей по всей поверхности пространства-времени. С вселенской точки зрения любое точечное событие в нашем мире растягивается, как веер, в четырехмерном континууме. Получается, что роковая пуля Дантеса, столь молниеносно пролетевшая в нашем трехмерном пространстве, в четырехмерном вселенском пространстве-времени продолжает свой путь сейчас и летела там еще до того, как Дантес спустил курок. Хотя понятия “до” и “после” вполне реальны в нашем пространстве, они не имеют никакого смысла во вселенском четырехмерном мире.
На сферической поверхности мира линия мировых событий рано или поздно должна сомкнуться, как всякая искривленная линия и, стало быть, повториться. Это приводит к несколько странному выводу. Выстрел Дантеса, прозвучавший в нашем реальном пространстве в 1837 году, в четырехмерном континууме должен периодически повторяться каждый раз, если кончатся искривленная линия мировых событий. При этом нелььзя сказать, который из выстрелов следует считать повтором. Во вселенной Эйнштейна понятия “раньше” и “позже” не имеют никакого реального смысла.
Хлебников смотрел на время таким, космическим взором. Он считал, что “вселенские” повторы одного и того же события имеют отношение и к нашему трехмерному пространству. Во вселенском пространстве-времени “раньше” и “позже” не существует. Там все, что было — будет, и все, что есть — было. А что, если спроецировать такое вселенское видение на наш, земной мир?
1982г. Литературная учеба
Воспроизведено с согласия автора по:
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kedrov/ogl.shtml
|
Метки: хлебников кедров |
сегодня день неевклидовой геометрии Лобачевского |
Дневник |
Константин Кедров

Влияние «Воображаемой геометрии» Лобачевского
и специальной теории относительности Эйнштейна
на художественное сознание Велимира Хлебникова
Краткое изложение дипломной работы.
Казанский государственный университет. 1967 г.
Работа защищена на «отлично».
В 1969 г. представлена как вступительный реферат в аспирантуру
Литературного ин-та СП СССР им. А.М. Горького
и оценена на «отлично» профессором В.Я. Кирпотиным
и профессором С.И. Машинским.
Глава I
Еще в первом прозаическом отрывке под названием «Завещание» Хлебников сказал: пусть на его могиле напишут: „он связал пространство и время”… Это прямая реминисценция чугунной эпитафии на могиле Лобачевского: «Член общества Геттингенских северных антиквариев, почетный попечитель и почетный ректор Казанского Императорского университета и многих орденов кавалер Н.Г. Лобачевский». Ни слова о «воображаемой геометрии», обессмертившей его имя.В 1901 г. Хлебников прослушал курс «Воображаемой геометрии» в том самом Казанском университете, где когда-то ректорствовал гениальный геометр. Позднее об этом в стихах:
Запрятан в воротник:
То Лобачевский — ты,
суровый Числоводск…
Во дни “давно” и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят.
Еще отчетливее Хлебников сформулировал свой геометрический манифест, прямо заявив, что поэтику Пушкина следует уподобить доломерию Евклида, а поэтику футуристов следует уподобить доломерию Лобачевского.
Идея связать пространство и время возникла в сознании студента Казанского университета чуть-чуть раньше того момента, когда Герман Минковский прочтет свой доклад о пространственно-временном континууме: «отныне время само по себе и пространство само по себе становятся пустой фикцией, и только объединение их в некую новую субстанцию сохраняет шанс быть реальностью».
Многие до сих пор не поняли, что это означает. Даже Эйнштейн просто счел вначале удобным воспользоваться графиком Минковского, как неким математическим обобщением, где в пространстве вместо точек возникают некие отрезки, сливающиеся в линию мировых событий. И лишь в конце жизни Эйнштейн в письме к сыну черным по белому написал, что «прошлое, будущее, настоящее» с точки зрения физики есть простая иллюзия человеческого восприятия. Ведь график Минковского покончил с иллюзией времени и пространства Ньютона. Теперь перед нами их единство, названное Бахтиным термином «хронотоп».
Хронотоп Хлебникова означал, во-первых, что во времени можно свободно перемещаться из настоящего в прошлое или будущее, поскольку на линии мировых событий Минковского будущее и прошлое присутствуют всегда здесь и сейчас.
Для того, чтобы вычертить график линии мировых событий, а, проще говоря, линии судьбы людей и вещей, потребовалась геометрия Римана, наполовину состоящая из геометрии Лобачевского. У Лобачевского кривизна линии мировых событий отрицательная (седло или псевдосфера). У Римана это обратная сторона четырехмерной сферы. Четырехмерность трехмерного пространства это и есть время.
Люди, мозг людей доныне скачет на трех ногах. Три измерения пространства. Мы приклеиваем этому пауку четвертую лапу — время. («Труба марсиан»). Стало быть, любое событие во времени постоянно присутствует в пространстве. Если годовой оборот земли вокруг солнца 365 дней образует замкнутую орбиту, значит всемирный пространственно-временной цикл — это 365 лет. Значит через каждые 365 лет происходят события подобные. Записав 365, как 2n, Хлебников пришел к выводу, что события чередуются через четное число 2n, а противоположные — через нечетное число 3n. Так было получено число 317 — цикл противоположных событий. В результате в 1912 г. в статье «Учитель и ученик» Хлебников предсказывает: «В 1917 г. произойдет падение империи». Правда, из контекста явствует, что это будет Британская империя. Оказалось — Российская. Пророчество сбылось. Хлебников уверовал в свою правоту и решил, что отныне будетляне владеют законами времени. Отсюда один шаг для построения линз и зеркал, улавливающих лучи времени и направляющих их куда нужно. Он описал в «Ладомире», как это будет выглядеть.
Глава II
В книге «Неравнодушная природа» и статье «Вертикальный монтаж» великий режиссер Сергей Эйзенштейн открывает тайну контрапункта пространства-времени. Каждому зримому (пространственному) событию на экране соответствует контрапунктное слуховое или звуковое событие во времени. Пример — древнекитайская притча. Мудрец созерцает рябь на поверхности пруда. «Что ты делаешь?» — спрашивают его ученики. — «Я созерцаю радость рыбок». Самих рыбок не видно, видна рябь от их подводной игры. Так музыка должна быть рябью того, что видим, а то, что видим, должно передавать рябь звучанию. Сергей Эйзенштейн назвал это «вертикальный монтаж», или «4-е измерение в искусстве». Это своего рода эквивалент открытия Германа Минковского в геометрии и физике. На графике Минковского линия мировых событий — это рябь пространства на поверхности времени и времени на поверхности пространства. Они контрапунктны. Подъему в пространстве соответствует провал во времени.Так Велимир Хлебников говорит: Стоит Бешту, как А и У, начертанные иглой фонографа. А — гребень волны, У — вогутая поверхность ряби.
Вот зримое воплощение контрапункта:
Пиээо пелись брови — расходящиеся от О круги в ширину на пОверхности ряби
Лиэээй пелся облик — И в облИке связует, стягивает воедИно глубину У и шИрИну И
Осталось связать все это мировой цепью — Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
И вот перед нами мировой лик — автопортрет поэта-вселенной или вселенной-поэта:
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
Глава III
Первое измерение в движении дает линию на плоскости. Таковы плоские фрески и барельефы Древнего Египта. Над плоскостью листа и любой поверхности мы парим изначально. А вот как воспарить над объемом? Ведь пространство физическое трехмерно. Богословы объяснят, почему. Догма о Троице напрашивается. Напрашивается и связь его с трехиспостасным прошло-будуще-настоящим и с трехмерным объемом пространства. Однако математики имеют дело с n-мерным миром. А физики и космологи от пятимерной модели Калуццы пришли к одиннадцатимерной модели мира. Выход в 4-е измерение — это 4-я координата пространства-времени Г. Минковского. Хлебников это понял сразу. И сразу решил, что узор точек заполнит n-мерную протяженность. Пять чувств — это пять точек в четырехмерном континууме. Они разрознены: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Как только время перестанет быть отдельной от пространства иллюзией, узор василька сольется с кукованием кукушки. Проще говоря, звуку будет соответствовать цвет, как у Рембо, Скрябина, Римского-Корсакова.О своем звукозрении Хлебников рассказал в Звездной Азбуке «Зангези».
Пэ — белый разлетающийся объем — порох, пух, пыл
эС — расходящийся из одной точки — свет, сияние
Зэ — отраженье и преломленье — зигзица (молния), зеркало, зрачок.
Вэ — вращение вокруг точки — “вэо вэо — цвет черемух”.
В принципе это может быть и по-другому. Важно соответствие цвета звуку, контрапункт Сергея Эйзенштейна. Таким образом, законы времени — «Доски судьбы» Хлебникова — это контрапункт четырехмерного континуума. Или вибрация мирового звука, запечатленная, как волны, на граммофонной пластинке. Впадины — 317, буруны — 365. Универсальная модель АУ — УА. Мир как эхо крика младенца. Скачок от двухмерности к трехмерному объему — перспектива эпохи Возрождения. Она заполнена фресками Микеланджело и Леонардо. Озвучена объемными мессами от Баха до Бетховена. В этом объеме ад, рай, чистилище Данте или панорамы «Войны и мира» Льва Толстого.
Выход в 4-е измерение — это Пикассо, Сезанн, Матисс, Эшер, Магрит. В слове это футуризм будетлян кубофутуристов и обэриутские драмы Александра Введенского, которого интересовали только две вещи — «время и смерть». При этом одно не может быть понято без другого.
Машина времени Хлебникова — это горло поэта. Лавой беги, человечество, конницу звуков взнуздав. Влом во вселенную увиденным звуком и услышанной цифрой. Ибо самое великое событие — это вера 4-х измерений. Это записано Хлебниковым иглою дикобраза.
Итак, первые слова Хлебникова: «он связал пространство и время», — и последние: вера 4-х измерений, — совпадают и сливаются по всем параметрам.
С. Эйзенштейн «Неравнодушная природа»
С. Эйзенштейн «4-е измерение в искусстве»
С. Эйзенштейн «Вертикальный монтаж»
Г. Минковский доклад «Четырехмерный континуум»
А. Эйнштейн «Физика и реальность»
А. Эйнштейн «Специальная теория относительности»
Э. Эббот, Д.Бюргер «Флатландия»
Н.А. Морозов «4-е измерение»
В. Хлебников «Завещание» и «Вера 4-х измерений», А также «КА», «Зангези» и «Труба марсиан»
Н. Лобачевский «Воображаемая геометрия»
Воспроизведено по авторской электронной версии
|
Метки: кедров лобачевский эйнштейн хлебников |
константин кедров о велимире хлебникове |
Дневник |
|
Метки: кедров хлебников лимис |
константин кедров на сайте хлебниково поле |
Дневник |



|
Метки: кедроов хлебников эйнштейн минковский |
парлельные миры |
Дневник |
|
Метки: паралельные миры хлебников седенборг |
хлебников кедров флоренский риман |
Дневник |
|
Метки: хлебников кедров флоренский риман |
сеятель очей велимир хлебников |
Дневник |
|
Метки: кедров хлебников очи космос |
к.кедров космос хлебникова красная книга культуры |
Дневник |
Константин Кедров Образно-понятийный космос Велимира Хлебникова
"Сеятель очей"
Константин Кедров
Образно-понятийный космос Велимира Хлебникова
Существует не преодоленное пока расстояние между текстами самого Хлебникова и тем, что о нем написано. Эта дистанция заключена не в разности уровней (что само собой разумеется), а в какой-то несовместимости интонаций.
О Хлебникове пишут «серьезно»; как Платон писал о Сократе. Но Сократ ироничен, а Платон серьезен. У Хлебникова сократовская ирония.
Карнавал Хлебникова во многом предвосхищает ироническую культурологию Борхеса и Гессе.
Если бы он разыгрывался на фоне благополучной литературной судьбы, то, пожалуй, Борхес и Хлебников были бы фигурами равнозначными, но судьба Хлебникова трагична. Здесь нечто далеко выходящее за пределы культурологической «игры в бисер».
Это нечто остается на сцене после всех карнавальных переодеваний.

Велимр Хлебников в 1916 году. С редкой фотографии. Рисовал И. Клюн
Хлебников намного опережает время. Сегодняшнему читателю, прошедшему филологическую школу Бахтина, знающему об игре и «карнавальном начале», воспринять Хлебникова намного легче, нежели его современникам, воспитанным на суховатом позитивизме Овсянико-Куликовского:
На острове вы. Зовется он Хлебников.
Среди разъяренных учебников
стоит, как остров, храбрый Хлебников.
Остров высокого звездного духа.
Только на поприще острова сухо -
он омывается морем ничтожества...[1]
Что происходит на острове? Ганнибал, выжимая мокрые волосы, спасается от потопа рациональных знаний, жалуется Хлебникову на Дарвина.
Мило, смешно, но вот грозное войско Ганнибала:
Раз и два, один, другой,
Тот и тот идут толпой,
нагибая звездный шлем
всяк приходит сюда нем.
Облеченный в звезд шишок,
он усталый теневой,
невесомый, но живой,
опустил на остров шаг (2, 20).
Это невесомое теневое звездное воинство чем-то напоминает шествие богатырей Черномора. Однако Хлебников всю жизнь свято верил в боеспособность своего поэтического войска. Он хотел победить в этой битве и не сомневался в победе.
Мы устали звездам выкать,
мы желаем звездам тыкать.
Будьте грозны, как Остранница, Платов и Бакланов... (1, 5)
Хлебниковская битва со звездами - духовная «Илиада» века. Его поражение предусмотрено самими законами природы, которым Хлебников объявил войну во множестве литературных манифестов. Это величественное поражение. Сервантес заставил Дон Кихота раскаяться перед смертью в своем безумии. Хлебников перед смертью написал о своем звездном языке слова, похожие на раскаяние: «Итак, труды его были всуе». Согласиться с Хлебниковым - значит признать, что лекарь умнее Дон Кихота.

К. Малевич. Обложка сборника "Трое". 1913

О. Розанова. Обложка книги А.Крученых и В.Хлебникова "Тэлилэ". 1914
«Вдохновение в поэзии нужно не менее, чем в геометрии», - писал Пушкин после встречи с Лобачевским в Казани. «Я - Разин со знаменем Лобачевского», - сказал о себе Хлебников. Другой раз он увидел себя в «пугачевском тулупчике». Опять тема воинства и карнавальные переодевания.
И Разина глухое «слышу»
поднимается со дна холмов.
Как знамя красное взойдет на крышу
и поведет войска умов (3, 92).
Как велико желание подыграть Хлебникову, поверить в реальность фронтов, вычерченных «кривыми Лобачевского», ринуться в битву. Сам-то Хлебников в свои вычисления свято верил. Он призывал человечество «вломиться» во вселенную:
Прибьем, как воины, свои щиты, пробьем
стены умного черепа вселенной,
ворвемся бурно, как муравьи в гнилой пень,
с песней смерти к рычагам мозга,
и ее, божественную куклу, с сияющими по ночам глазами,
заставим двигать руками
и подымать глаза (3, 93).
Так непочтительно о вселенной раньше не говорил никто. Твердая уверенность в примитивности вселенского механизма по сравнению с человеком явно противоречит общепринятой европейской традиции. Космос лишь кукла с сияющими глазами, управляемая законами пространства и времени, которые человек может понять целиком и полностью. Свою трагическую гибель в этой битве Хлебников предвидел вполне, но это не могло поколебать его математическую этику.
И на путь меж звезд морозных
полечу я не с молитвой,
полечу я мертвый грозный
с окровавленною бритвой... (3, 91)
Космический карнавал чисел разгадан, маски сорваны, мироздание уловлено в сети разума, но и эти путы нужно разорвать смехом: «...рассмейтесь, смехачи».
«Доски судьбы» со всеми верными и неверными предсказаниями - великолепный математический карнавал поэта. Вот «Смерть будущего»: убийца и жертва обмениваются математическими формулами, выясняя закономерность будущего рождения убитого.
Жертва.
Я пользуюсь дробями Зего!
Убийца.
Какой кривой и сложный путь.
Гораздо лучше способ Вик-Вак-Вока.
Он помогает вычислять.
Жертва.
Благодарю тебя, убийца!
Ты дал мне повод для размышления.
Еще раз крепко руку жму
жестокому убийце (3, 100).
Хлебниковская «вера 4-х измерений» (термины поэта) - гипотеза о повторяемости во времени всех событий. Поэт обладал поразительным даром предвидения. В 1912 году он предсказал «паденье Российской Империи в 1917-ом». Его архитектурные фантазии «Лебедия будущего» предсказывают башни: дов-волос с вращающейся баранкой из «стеклянных хат».
Я всматриваюсь в вас, о числа,
и вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете - единство между змееобразным движением
хребта вселенной и пляской коромысла,
вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы (3, 56).
В математике Хлебникова слышен «хохот веков». Его поэтическая война со звездами похожа по своей наивности и чистоте на детский утренник, где добро побеждает зло с неумолимой закономерностью.
Это был сознательный вызов судьбе и миру. Гомеровские битвы у стен Трои проходят под смех богов наверху, разыгрывающих в кости судьбы участников сражения. Хлебников вырвал игральные кости из рук богов. Пусть сами воины разыграют свои судьбы по законам теории вероятности и падут на поле сражения, подчиняясь множителю Ги-ги или дробям Зего.
Вселенная неизмеримо велика по сравнению с человеком, небо наверху, а земля под ногами, но в карнавале все наоборот. Человек больше вселенной, а небо лишь грязь под подошвами его сапог.
Вы помните? Я щеткам сапожным
Малую Медведицу повелел отставить от ног подошвы,
гривенник бросил вселенной и после тревожно
из старых слов сделал крошево (3, 45).
Это весьма своеобразное космоборчество было ничуть не менее свойственно Владимиру Маяковскому, назвавшему звезды «плевочками». Разговор со звездами у этих поэтов шел свысока. Верхом стала земля, а низом - небо. Человек и вселенная менялись местами и одеждами. Безжалостному «хохоту веков» был брошен в сияющее лицо смех земли. «Кто же так жестоко смеется над человеком?» - вопрошал Федор Карамазов. Здесь можно вспомнить великолепную метафору Маркса о материи, которая «смеется чувственным блеском».
Вселенский смысл карнавала Хлебникова был вызовом, брошенным в лицо материи и мироздания.
Микрокосмос элементарных частиц, открывшийся в это время взору ученого, как бы подтвердил правоту поэта. Тогда еще не были открыты микрочастицы, по массе превосходящие солнце, но уже ясна стала относительность понятия величины. Законы природы, открытые Эйнштейном, подчинялись карнавальной эстетике века. Почему бы не разместить всю вселенную под ногтем у человека, если в принципе когда-то она вся была меньше самой малой пылинки?
И пусть невеста, не желая
любить узоры из черных ногтей,
и вычищая пыль из-под зеркального щита
у пальца тонкого и нежного,
промолвит: солнца, может, кружатся,
пылая,
в пыли под ногтем?
Там Сириус и Альдебаран блестят
и много солнечных миров (3, 48).
«Я тать небесных прав для человека» -такова была эстетика Хлебникова. Можно ли, переворошив все земные понятия, оста-вить нетронутым сам язык? Если в пылинке под ногтем заключены миры, то какая же вселенская бездна таится в звуке! Каждый из них есть такая же модель вселенной, как и весь человек. «Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее - вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык - и вы увидите пространство и его шкуру» (3, 333). Карнавальная звериная шкура видна и здесь. Отныне под каждой маской, под каждым нарядом поэт прозревает вселенскую звездную бездну. «А под маской было звездно», как писал Блок.
Меньше всего Хлебников стремился к последовательности. Буквальная вера в реальность затеянного им карнавала звезд сплошь и рядом нарушает эстетику. Хлебников - не символист. Часто метафора видится ему формулой, адекватной реальности. Он объявляет себя председателем земного шара, всерьез погружается в вычисления в поисках формулы времени.
Карнавал ограничен во времени. Кончается детство, и люди возвращаются к обычной земной реальности. Хлебниковский карнавал не имел ограничений во времени. Он был рассчитан на все века. Здесь начинался трагический разрыв между поэтом и современниками. Ему подыгрывали, пока шла игра, но для всех игра заканчивалась, а Хлебников видел в актерах, уходящих со сцены, изменников великому делу.
Нет, это не шутка!
Не остроглазья цветы.
Это рок. Это рок.
Вэ-Вэ Маяковский! - я и ты!..
Мы гордо ответим
песней сумасшедшей в лоб небесам (3, 294).
Мы видим Хлебникова рыдающим в момент, когда владелец перстня снимает с руки поэта кольцо «председателя земного шара». Логика владельца понятна. Он дал кольцо на время действия, а теперь отдай. Хлебников не собирался отдавать свои вселенские права никому. Он оказался в роли «бобового короля», избранного на царствие лишь в период веселья, но желающего продолжить царствование после праздника.
Не чертиком масленичным
я раздуваю себя
до писка смешного
и рожи плаксивой грудного ребенка.
Нет, я из братского гроба.
Не вы ли...
в камнях... лепили
тенью земною меня?
За то, что напомнил про звезды (3, 311)
Война Хлебникова с людьми, не желающими подчиняться законам звезд и продолжающими войну «за клочок пространства», вместо того чтобы отвоевать все время, превратила поэта в «одинокого лицедея», который внезапно «с ужасом понял», что он невидим, что надо «сеять очи», «что должен сеятель очей идти».
Слова Тынянова о том, что «Хлебников был новым зрением», которое «падает одновременно на все предметы», не являются простой метафорической данью памяти поэта. Новое зрение Хлебникова было новой реальностью, которая лишь сегодня завоевывает пространство в социуме.
Вот черты такого одновременного зрения в стихотворении «Дерево». «Дерево это: Гоголь, сжегший рукописи, где сучки кусают брюхо облаков, это кривые пути калек, где листва шумит нашествием Мамая, давая приют .птицам, это выстрел «пли», кривая железных дорог, везущих поезда солнца вдоль волокон, это листва зеленых полков Ермака, идущих в поисках пространства Лобачевского на завоевание голубых Сибирей небес, воюя за объем, это невод, заброшенный в небеса за звездным уловом, где звезды - предание о белокуром скоте ... Поистине все во всем. Не таково ли в действительности устройство мироздания, где каждая часть материи таит в себе всю материю?! «О прятки человека с солнцем ...»
Можно рассматривать это как карнавал, где все носит маску всего, но при этом следует помнить, что карнавальна сама природа реальности.
Если Хлебников нарушил правила игры и во что-то верил всерьез, то это что-то были «законы времени». Вот суть этой веры:
Если я обращу человечество в часы
и покажу, как стрелка столетья
движется,
Неужели из наших времен полосы
не вылетит война, как ненужная ижица? (3, 295)
Какая наивная, истинно поэтическая вера в разум людей, увы, весьма далекая от понимания природы войн.
По-детски нарушив правила карнавала, Хлебников пытался «шутя» образумить человечество. Но выманить солдат из окопов заманчивыми математическими таблицами почему-то не удавалось.
И, открывая умные объятья,
воскликнуть: звезды - братья! горы -
братья!..
Люди и звезды - братва! (3, 82)
В чем же истинная суть законов времени, которые Хлебников считал своим открытием, может быть, более важным, чем вся поэзия?
Их нельзя понять вне поэзии, но и вне науки они неразличимы. Об этом сам Хлебников сказал со всей ясностью:
«В последнее время перешел к числовому письму, как художник числа вечной головы вселенной... Это искусство, развивающееся из клочков современных наук, как и обыкновенная живопись, доступно каждому и осуждено поглотить естественные науки» (2,5).
Эстетика хлебниковских чисел требует компьютерной обработки, где светящиеся дисплеи расскажут со временем много нового о поэте. Это дело будущего. Другое дело «законы времени», эстетически воплощенные в «Ка». Здесь карнавал трех масок времени: прошлого, будущего и настоящего.
Ка - это древнеегипетское имя двойника человека. Не тело, не душа, а как бы вечная проекция личности в будущее и прошлое. С ним можно гулять по Петербургу в цилиндре и одновременно быть галькой на морском берегу. Он сидит у костра в первобытном лесу и правит Египтом в образе фараона. Он - Лейли и Джульетта, он все во всем, но в то же время это сугубо личный двойник поэта. У него детское личико, но он похож на тень. Сквозь него можно видеть море и горизонт, его смывает волной, и он становится камнем, заглоченным большой рыбой. На этом камне Лейли, страстно любящая Меджнуна, начертала слова Джульетты, обращенные к Ромео: «Если бы смерть кудри имела твои, я умереть бы хотела».

Дневник Хлебникова. Обложка. 1929

Дневник Хлебникова. Титульный лист. 1929
Продолжая в жизни блистательный карнавал времен, Хлебников считал себя Разиным, Омаром Хайямом и Лобачевским, соединившим в себе поэзию, неевклидову геометрию и революционный бунтарский пух.
На ветвях мирового древа, о котором так много пишут сегодня культурологи, щебечут боги и птицы. Язык птиц и богов сливается в мерцание звездной азбуки, где звук С сияет, а 3 преломляется в зеркале, где Я являет облик расширяющейся вселенной, а М, наподобие черной дыры, вбирает в себя объем. Хлебников слышит, как в горле сойки звенят миры, а в имени Эрота таятся схемы миров.
«Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В ней малые вздохи, как земли, кружились кругом большого» (4, 327).
В мировое действо Хлебников привнес новые маски - маски времени и пространства. Персонаж пространства - Зан-гези, он переодевает человека во вселенские звездные одеяния, превращает птиц в богов, а звуки в миры. Ка несет маски времен. Он переодевает Нефертити в восковую обезьяну, а поэту подносит головной убор фараона. Три карнавальные личины - прошлое, будущее и настоящее, - а под ними смеющееся лицо будетлянина.
Очень легко представить себе поэта в маске Лобачевского или Омара Хайяма, не так уж трудно узнать в человеке вселенную, а во вселенной - человека. Об этом даже Кант говорил: «...под каждым могильным камнем погребена вселенная». А вот какова маска самого Хлебникова?
Мы видим его и в мешковине, и в цилиндре, и в солдатской шинели - это лишь одеяния. Каково же лицо?
Живопись Пикассо заставляет видеть в лице множество многоугольников, но вот бегут прокаженные, потревоженные войной, -их лица страшнее любой из масок - это лицо войны.
А вот одеяние самого поэта:
... Череп, рожденный отцом,
буравчиком спокойно пробуравил,
и в скважину надменно вставил
росистую веточку Млечного Пути,
чтоб щеголем в гости идти.
В чьем черепе, точно в стакане,
была росистая веточка небес,
и звезды несут вдохновенные дани
ему, проницающему полночи лес (2, 296).
Не всякий осмелится предложить свой пробуравленный череп как вселенское лицо. Хлебников видит, как вселенная «улиткой» ползет по пальцу, вобравшись отражением в драгоценный камень на перстне «председателя земного шара». Те, кто видел в этом безумие, правы лишь отчасти. Это было сознательное безумие. Метафора объявлена истинной реальностью, а ужасающая реальность войны объявлена недействительной. Это бунт эстетики, не желающей быть только эстетикой; бунт поэзии, не желающей быть только поэзией. Хлебников требует равноправия метафоры и научной формулы. Одним словом, карнавал Хлебникова хотел быть реальностью.
Наука XX века была и остается в союзе с поэтом в его бунтарском замысле подчинить человеку все время и все пространство. Если современная космогония допускает сжатие вселенского пространства и времени до пределов точки, почему бы этой точке не разместиться в сердце.

Страница дневника Хлебникова. Переписана Ниной Корэ
Торжество Хлебникова было бы несомненным в мире, где торжествуют поэзия и наука, но такого мира нет и, видимо, никогда не будет. Желая достичь всего, Хлебников достиг многого. Он утвердил поэтическую реальность своего мира, вычертил неевклидову перспективу для человека. В поэме «Поэт» мы видим его посреди веселья печальным, как Лермонтов на балу.
И около мертвых богов,
чьи умерли рано пророки,
где запады - с ними востока,
сплетался усталый ветер шагов,
забывший дневные уроки.
И, их ожерельем задумчиво мучая
свой давно уж измученный ум,
стоял у стены вечный узник созвучия
в раздоре с весельем и жертвенник дум (2, 108).
Хлебников печалился о том же, о чем печалились все поэты во все времена. Это была печаль необъятного пространства между поэзией и повседневной реальностью.
Ни один деятель культуры не имеет права оставить последнее слово за этой повседневностью. Любого поэта можно упрекнуть в избытке доверчивости по отношению к будущему, в «будетлянстве», или «футуризме». Когда за сцену уходит Зангези, на смену ему в драме Хлебникова выходят Горе и Смех.
Смех.
В горах разума пустяк -
скачет легко, точно серна.
Я веселый могучий толстяк,
и в этом мое «Верую».
Ударом в хохот указую,
что за занавеской скрылся кто-то,
и обувь разума разую
и укажу на капли пота.
Горе.
Сумрак - умная печаль!
Сотня дум во мне теснится,
Я нездешняя, вам жаль,
невод слез - мои ресницы.
Мне только чудится оскал
гнилых зубов внизу личины,
где червь тоскующий искал
обед из мертвечины.
Как синей бабочки крыло
на камне,
слезою черной обвело
глаза мне (3, 363).
Эти две маски, как в античной трагедии, обрамляют лицо поэта. Величие любой трагедии в несоизмеримости бесконечного идеала с ограниченными пределами одной жизни. Карнавал Хлебникова трагичен, в нем дыхание беспредельности.
Только в маске он полностью раскован, свободен от любой схемы.
Карнавализация искусства начала века через эстетику «мирискусников», театральную и камерную, вырвалась на простор истории. Хлебников явно тяготеет к массовым шествиям, происходящим не столько в реальности, сколько в его воображении.
Крик шута и вопли жен,
погремушек бой и звон,
мешки белые паяца,
умных толп священный гнев
восклицала Дева Цаца (2, 104).
Разруха, голод, ужасы гражданской войны - все отступало на второй план перед этим воображаемым ликованием. Смеху отводилась особая роль. На него возлагались призрачные надежды. Светлое будущее смеялось над настоящим. Таково было всеобщее настроение. Не таков ли карнавал А. Грина в «Бегущей по волнам» или в «Блистающем мире». Вам может показаться странной такая несовместимость с действительностью, когда умирающий от голода воспевает сказочные пиры на площади, но таков «этикет» эпохи.
Слава смеху! Смерть заботе!
Из знамен и из полотен,
что качались впереди,
смех красив и беззаботен
с осьминогом на груди
выбегает смел и рьян
жрец проделок и буян (2, 105).
Никакой заботы о сегодняшнем дне. Все устремлено в будущее. Иногда поэт доходит до самопародии в своих лучезарных миражах будущего. В «Ладомире» «шествуют творяне, заменивши Дэ на Тэ». Простота такой перестановки явно противоречит общей усложненности хлебниковской поэтики. Не слишком ли всерьез рассматривали мы ранее поэтические утопии будетлян?! Ни Маяковский, ни Хлебников не были людьми наивными. Карнавализируя прошлое и настоящее, Хлебников и о будущем говорил сквозь смеющуюся маску.
Как муравей ползи по небу,
исследуй его трещины
и, голубей бродяга, требуй
те блага, что тебе обещаны (3, 142).
Надувные мускулы и парящая арматура Фернана Леже - наилучшая иллюстрация к архитектурным идиллиям Хлебникова. Эти индустриальные пасторали есть и у Андрея Платонова и у Маяковского в «Летающем пролетарии». Хлебников строит космос из бревен. Несовместимость данного строительного материала со звездами явно радует глаз поэта:
Пусть небо ходит ходуном
от тяжкой поступи твоей,
скрепи созвездие бревном
и дол решеткою осей (3, 142).
Неужели этот утонченный филолог, колдующий над санскритскими корнями и геометрией Лобачевского, в действительности видит вселенную как сцепление рычагов и приводных ремней? Думать так по меньшей мере наивно.
Пастушеские идиллии и пасторали Древнего Рима означали их исчезновение в реальной жизни, они вызывали добрую улыбку читателя, прощающегося с невозвратным прошлым. Таковы утопии Хлебникова, - их надо читать с улыбкой, в них прощание с наивным механизмом, переход от Ньютона к Эйнштейну.
Маховики, часовые механизмы, шестеренки, колеса, столь часто мелькающие в поэмах Хлебникова, - это всего лишь карнавальная бутафория, отходная прошлому, хотя в жизни самой этим маховикам и шестерням еще вертеться и вертеться.
Балды, кувалды и киюры
жестокой силы рычага
в созвездьях ночи воздвигал
потомок полуночной бури (3, 142).
Поэт пародирует индустриальный путь в космос и одновременно восхищается такой возможностью в будущем.
Хлебников в равной мере пародировал и символизм и футуризм. Тяготение символистов к архаичным пластам культуры, их культурологическая миссия, несомненно, унаследована поэтом. Хлебников - смеющийся или улыбающийся культуролог. Его Юнона скоблит свое каменное тело напильником, очищаясь от ржавчины веков. Индийский йог идет по русскому полю и шепчет: «Ом». «Божьему миру дивуешься», - тотчас переводит крестьянин.

П. Митурич. Портрет Веры Хлебниковой. 1924

А.Л. Бондаренко. Иллюстрации к поэме В.Хлебникова "Ладомир"
Детская привязанность поэта к славянскому язычеству очаровательна. То он примиряет русалку с богородицей, то переругивается с лешим, то влюбляется в Деву Воды. О них пишет всегда всерьез, не улыбаясь, потому и смешно. Это какой-то особый культурологический смех, нечто наметившееся во второй части «Фауста» Гете. Лесини, духини, мавки из языческого пантеона славян знакомятся с нечтогами и летогами из поэтического словаря Хлебникова.
Тут же толпятся люди, некие странные существа: человек - корень из нет-единицы или корень из двух. Тогда еще не было понятий об антимире, но Хлебников утверждал, что каждому человеку соответствует вытесненный им из мира двойник - корень из минус единицы. Рядом с Ладой на белом лебеде купается в реке Числобог.
«Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, - сказал [я, протягивая] мокрые пальцы. Но тень отдернула руку и сказала: «Не я твое отражение, а ты мое»... Море призраков снова окружило меня... Я знал что нисколько не менее вещественна, чем 1; там, где есть 1,2, 3, 4, там есть и -1, и -2, и -3 ... Я сейчас, окруженный призраками, был ». Хороводы чисел - 317, 365, пи - заставляют события кружить подобно земле вокруг солнца. «317 лет - одна волна струны человечества, дрожжи нашествия» (4, 45).
Зачем же вам глупый учебник?
Скорее учитель играть на ладах
войны без дикого визга смерти -
мы - звуколюди!
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече! (3, 78).
Однажды в гостях Хлебников так увлекся своими вычислениями, что опрокинул шкаф и стал опутывать его елочной гирляндой, вымеривая исторические интервалы событий. Несомненно, это была игра, но только в игру Хлебников свято верил, только ей по-настоящему доверял. Это была эстетика скомороха, дервиша, «гульмуллы, священника цветов». Хлебников называл себя Разиным со знаменем Лобачевского, - точнее было бы сравнение с Аввакумом. Аввакум с теорией относительности под мышкой - вот Хлебников.
Что бы ни говорил Аввакум, больше всего мы ценим его слово. Что бы ни говорил Хлебников, больше всего мы ценим его поэзию. В его мире цифр, роботов, рычагов все время как-то внезапно появляется лик нездешней красоты. Она как «Бегущая по волнам» Грина. «Одуванчиком тела летит к одуванчику мира». Если у Блока она проходит, «дыша духами и туманами», то у Хлебникова ее облик соткан из звуковых мерцаний.
Бобэоби пелись губы,
вээоми пелись взоры,
пиээо пелись брови,
лиэээй пелся облик,
гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
вне протяжения жило Лицо (1, 5).
Она - «смеярышня смехочеств», «дева ветреной воды», «духиня, парящая над цветами», «дева - золото и мел», ей - лучшие одеяния и краски мира.
Сам Хлебников не чувствовал ли себя шаманом, приютившим в сибирских краях ослепительную Венеру, удирающую от индустриального века:
«Когда-то храмы для меня
прилежно воздвигала Греция.
Монгол, твой мир обременя,
могу ли у тебя согреться я?..»
Шаман не верил и смотрел,
как дева - золото и мел –
присела, зарыдав... (1, 29).
Вечная женственность, красота обрела надежное убежище в мире Хлебникова.
Многие забывают, что Хлебников вошел в поэзию с дерзким лозунгом «О, рассмейтесь!».
Споры о словотворчестве заслонили истинный смысл стиха. Хлебников дарил свое «Заклятие смехом» людям и звездам. Он искал смеющуюся истину. Карнавалы Хлебникова разыгрывались часто без зрителя. Но зритель был не очень-то нужен. Перед мысленным взором поэта проходили толпы людей. Люди, лишенные чувства юмора, сочли поэта помешанным, но это тоже входило в сценарий заранее продуманного действа. Стойкость поэта, его полная нечувствительность к лавине насмешек вполне входили в сценарий, но человек не может быть исполнителем одной роли, поэтому мы можем порой услышать жалобы на непонимание, угрозы и даже проклятия в адрес толпы.
Коронование смеха, столь часто встречаемое в поэзии Хлебникова, - эстетический манифест. Ирония в поэзии всегда занимала место достойное, но только в поэтике Хлебникова она обрела доминирующее положение рядом с лирикой, эпосом и трагедией. Здесь перелом в поэтическом мышлении, смена ценностей.
Ирония, сатира, юмор - эти привычные оттенки смеха имеют лишь косвенное отношение к Хлебникову. Поэтический карнавал поэта должно обозначить каким-то особым знаком.
Здесь уместны и космологические реалии и понятия из арсенала теории относительности, квантовой механики, кибернетики. Недавно появилась наука о самозарождающихся системах в живой и мертвой материи - синергетика. Смех Хлебникова порождает новые отношения между человеком и космосом, человеком и временем, -это хохот синергетический, творящий. Не случайно его модель чередования мировых событий по принципу разбегающихся от центра звуковых волн так похожа на порождающие «автохтонные» волны в синергетике.
Можно нередко услышать суждения, ставящие под сомнение социальную и эстетическую ценность такого творчества. Хлебникова обвиняют порой в нечувствительности к людским страданиям.
Это серьезное обвинение, к сожалению, оставшееся пока без ответа. Вспомним, что Белинскому пришлось защищать Пушкина - от обвинения в безнравственности его Онегина, не желавшего нянчить больного дядюшку. Увы, подобный прямолинейный подход к искусству дожил и до второй половины нашего уходящего века.
Хлебниковская нечувствительность столь же театральна, как и его смех. Нечувствителен поэт потому, что очень больно. Это нечувствительность Муция Сцеволлы. Неужели римскому герою не больно было держать над огнем свою руку? Но враг должен видеть, на что способен герой. Представим себе Сцеволлу, который еще способен иронизировать над собой, - вот Хлебников.
Неслыханная феерия разыгрывалась на глазах изумленного русского читателя первой трети XX века. Ожили корни слов и проросли неслыханными звуками, заполнились щебетом невиданных птиц. Разорвав оковы александрийской строки, вырвались на свободу лавины народов - от древних египтян до градостроителей сияющего Ладомира. Математические формулы запели птичьими голосами, звезды облеклись в оболочку звуков, а звуки превратились в молнии и кометы. Из цилиндра «председателя земного шара» извлекались люди-числа, мавки, лесини, духини. Стихотворные строки выделывали коленца от гопака до Шенберга: «Гоп, гоп, в небо прыгая, гроб».
Ошеломление, гнев, восторг - вот первоначальная реакция на такую неслыханную поэзию. Ныне, когда и первое, и второе, и третье пережито, найдем в себе более точное ощущение - благодарность.
Действия с Документом
|
Метки: кедров хлебников космос книга культура образ |
к.кедров на сайте хлебниково поле |
Дневник |

и ушел под
воздвигая над
Уже в 1958 году, в 16 лет, я понял, что геометрия Лобачевского, теория относительности Эйнштейна и поэзия Хлебникова связаны в единое целое. К тому же судьба перебросила меня из МГУ в Казанский университет, где Лобачевский создал «Воображаемую геометрию», а Хлебников поставил себе цель, осуществленную через 5 лет Эйнштейном и Минковским: Пусть на его могиле напишут: он связал пространство со временем.
Пусть на моей могиле напишут: “Он вывернул наизнанку внутреннее и внешнее”. Или еще проще:
Небо — это изнанка человека
(«Компьютер любви»)
Несмотря на все отчисления из МГУ и КГУ мне все же удалось в 1967 году защитить с отличием диплом «Влияние геометрии Лобачевского и теории относительности Эйнштейна на художественное сознание В. Хлебникова». С этой работой в 1968 году я поступил в аспирантуру Литературного института, где потом преподавал с 1973 по 1986 гг., пока КГБ не навалилось всей мощью.
В конце 50-х (кажется, в 59-ом) я прочел свои стихи Кирсанову и Кручёных на даче у Шкловского в Переделкино. Это был момент посвящения и крещения. В 1982 году не меньшим чудом стала публикация «Звездной азбуки Велимира Хлебникова» в журнале «Литературная учеба», №3. Благодарить надо за это гл.редактора и тогдашнего проректора Литинститута Ал. Михайлова. Статья получила 7 разгромных внутренних рецензий, а он все равно ее напечатал. Правда, с фиговым (фигóвым) листом — подзаголовком “литературоведческая гипотеза”.
Статью тогда дружно замолчали, а потом стали передирать все, кому не лень, не ссылаясь. Вершиной стал «Мир Велимира», где все, что я сказал, было переписано 20 лет спустя, коряво и неуклюже, другими авторами.
В 1982 году мне удается напечатать в «Новом мире», №11, статью «Столетний Хлебников». Ее заметил Юрий Нагибин и написал хвалебную рецензию, но вместо “Кедров” всюду напечатано “Кедрин”.
Продолжая идею звездного языка, я создал в 86 году поэму «Астраль», написанную созвездиями . Развивая идеи словотворчества и грамматики поэзии, создал тогда же «Верфьлием» и «Партант».
После глубинного прочтения пятитомника Хлебникова под ред. Тынянова и Степанова в 1960 году, я понял, что “так жить нельзя”, и замолк до 1978 года, разрабатывая новую, анаграммно-палиндромную систему стиха. Я назвал это „голограммным стихосложением”, а сегодня предпочитаю термин „фрактальный стих”. Так написана моя поэма «До-потоп-Ноя Ев-Ангел-Ие» . Найдя свой стих, воскрес как поэт и двинулся дальше — к метаметафоре. Слово найдено в 1983 и в 1984 напечатано в той же «Литературной учебе», №1.
Великой победой был выход книги «Поэтический Космос» с главой «Звездная азбука Велимира Хлебникова» (М., Сов. писатель,1989), встреченная все тем же гробовым молчанием.
Главные прорывы: выход в издательстве «Мысль» моего двухтомника — «Инсайдаут» (2001) и собрание поэтических сочинений «Или» (2002). А также «Метаметафора» (М., ДООС, 1999) и «Ангелическая по-этика» (М., Изд. Университета Натальи Нестеровой, 2001).
Теперь вот ваш сайт. Это очень важно. Лучше всех сказал Тынянов: „Хлебников был новым зрением. Новое зрение падает одновременно на все предметы”. Добавлю к этому: новое зрение видит мир и себя изнутри-снаружи. Это Инсайдаут, или Новый Альмагест.
Пространственно-временной континуум Минковского-Эйнштейна Бахтин назвал “хронотоп”. Но это как-то не привилось. В книге «Эйнштейн без формул» (М., Мысль, 2004) я предложил слово „тайм-раум”. (Английское Time — время и немецкое Raum — пространство). Линию мировых событий предлагаю назвать „лимис”. Хлебников рисовал не линиями, а лимисами, и жил не в пространстве-времени, а над тайм-раумом в световом конусе мировых событий.
В 2005 году в программе С. Капицы «Очевидное — невероятное», которая называлась «Время после Эйнштейна» , я предложил модель часов вечности. Здесь время движется не из прошлого в будущее, а из прошлого и будущего в настоящее. Настоящее — место и результат встречи прошлого с будущим. А будущее и прошлое — проекция из настоящего. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее постоянно творятся нами. Это вполне по Хлебникову. Прошлое, будущее, настоящее должны рассматриваться как фракталы друг друга. Первым это сделал Хлебников в «Ка», где он одновременно обезьяна с восковым швом в музее, Аменхотеп, умирающий с криком Манн, манч, эхамчи!, Омар Хайям, Лобачевский и поэт Хлебников. Смею надеяться, что в “будущем” Хлебников — Некто в нашем он-лайне, ибо фрактальный мир бесконечно неповторяемо повторяем. Все фрактальные линии вычерчивают единый палиндромический лимис — лимис и мил.
Константин Александрович Кедров на ka2.ru
• Влияние «Воображаемой геометрии» Лобачевского и специальной теории относительности Эйнштейна на художественное сознание Велимира Хлебникова. Краткое изложение дипломной работы 1967 года.• Новая семантика (обэриуты и Хлебников)
• Формула бессмертия Велимира Хлебникова. Гамма будетлянина.
• Вселенная Велимира Хлебникова
• Остров Хлебников
оле
|
Метки: кедров хлебников лобачевский. эйнштейн |
к.кедров вселенная велимира хлебникова |
Дневник |
К.А. Кедров
http://www.nesterova.ru/apif/kedroff.shtml
http://metapoetry.narod.ru
Еще в XIX веке возник спор: в какой вселенной мы живем? Видим ли мы своими глазами мир реальный, или очи обманывают, и мир отнюдь не очевиден. Первый камень в хрустально ясный образ бросил Лобачевский. Его "воображаемая геометрия" вызвала гнев и возмущение ученого мира. Лобачевского высмеяли, об открытии позабыли.
Когда сын Н.Г. Чернышевского заинтересовался геометрией Лобачевского, Николай Гаврилович из ссылки прислал письмо, где всячески отговаривал его от вздорной затеи. Даже Чернышевский считал геометрию Лобачевского безумной.
Бунт против неевклидовой геометрии слышен в пламенном монологе Ивана Карамазова, под которым и сегодня могли бы многие подписаться:
"Но вот, однако, что надо заметить: если Бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже теперь геометры и философы, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее, — все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Евклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если даже этого не понять, то где же мне про Бога понять. Я смиренно соединяюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум евклидовский, земной, а потому где мам решать о том, Что не от мира сего. Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу; увижу, что сошлись, и все-таки не приму".
Позиция В. Хлебникова совершенно иная, антикарамазовская. Вслед за Достоевским он пристально всматривался в ту отдаленную, а может быть, и очень близкую точку вселенной, где параллельные прямые, образно говоря, "пересекаются в бесконечности".
После открытий Минковского и Эйнштейна "воображаемая геометрия" оказалась физической и космической реальностью. К ней устремились взоры многих писателей и поэтов XX века.
"Я — Разин со знаменем Лобачевского", — писал о себе Велимир Хлебников. Если сегодня окинуть взором многочисленные статьи о нем, мы не найдем в них разгадки этих слов. Главные мысли Хлебникова так и остались погребенными.
В 1916 году в своем воззвании «Труба марсиан» поэт писал:
"Что больше: "при" или "из"? Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями.
Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи. Лобачевский отсылался вами в приходские учителя.
Вот ваши подвиги! Ими можно исписать толстые книги!..
Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой природы, других народов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени".
Для современников было непонятно обращение к Лобачевскому. Поэт может быть певцом восстаний и революций, но при чем здесь воображаемая геометрия? Каждый год выходят статьи о Хлебникове, но его неевклидово зрение по-прежнему не интересует исследователей. Пора восполнить пробел.
Девятнадцатилетним студентом В. Хлебников прослушал в Казанском университете курс геометрии Лобачевского, и уже тогда он начертал свое «Завещание»: "Пусть на могильной плите прочтут: он связал время с пространством, он создал геометрию чисел". Не пугайтесь, читатели: "числа" Хлебникова это совсем не та скучная цифирь, которой потчевали в школе. У поэта они поют, как птицы, и разговаривают человеческими голосами. Они имеют свой вкус, цвет и запах, а время и пространство не похожи на некую безликую массу — они сливаются в человеке. Хлебников был уверен, что человеческие чувства не ограничиваются пятью известными (осязание, зрение, вкус, слух, обоняние), а простираются в бесконечность.
"Он был, — пишет поэт, — настолько ребенок, что полагал, что после пяти стоит шесть, а после шести семь. Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одно и еще одно, там имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность".
Но это опять же иная бесконечность. У Хлебникова она вся заполнена нашими чувствами. Только открывается это человеку лишь в кульминационный, предсмертный миг.
"Может быть, в предсмертный миг, когда все торопится, все в паническом страхе спасается бегством, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого со страшной быстротой происходит такое заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ".
"Разрывы" и "рвы" не позволяют нам в обычных условиях видеть все бесконечное энмерное пространство-время вселенной.
"Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувные тучи, соединив два ряда переживаний в воспаленном сознании больного мозга?"
"Два ряда переживаний" — это чувства пространства (зрение) и времени (слух).
Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к соединению пяти чувств человека: "Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно, но велико..."
На смену разрозненным в пространстве и времени пяти чувствам должно прийти единое пространственно-временное видение мира. Поэт сравнивает разрозненные чувства с беспорядочными точками в пространстве. Слияние этих точек будет восприятием всего энмерного пространства в целом, без дробления его на слуховые и зрительные образы.
"Узор точек, когда ты заполнишь белеющие пространства, когда населишь пустующие пустыри?..
Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части единой плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки великого протяженного многообразия".
И есть независимые переменные, с изменением которых ощущение разных рядов — например: слуховые и зрительные или обонятельные — переходят одно в другое.
Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в кукование кукушки или в плач ребенка, станет им".
Хлебников предсказывает, что "единое", протяженное многообразие пространства-времени, ныне воспринимаемое человеком разрозненно, рано и^пи поздно будет восприниматься в целом. Это приведет к слиянию пяти чувств, к новому видению мира, ради которого должна сегодня работать поэзия.
Эта вера была незыблемой на протяжении всей его жизни. В одном из последних прозаических отрывков незадолго до смерти поэт писал:
"Я пишу засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив ее черный сухой прут со всех сторон.
Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной...
За это время пронеслась река событий...
Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это "вера 4-х измерений" ‹...›
3.IV.1922".
"Вера 4-х измерений" — это теория относительности Эйнштейна, в которой как бы подтвердилась догадка поэта о существовании единого пространства-времени.
Свое юношеское «Завещание» Хлебников писал в предчувствии великого открытия, которое спустя пять лет было сформулировано на основе теории относительности Альберта Эйнштейна математиком Германом Минковским в 1908 году:
Неизданный Хлебников. Л., 1940, с. 318, 319.
"Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность".
Слова эти ясно перекликаются с «Завещанием» юного студента, еще не известного в литературных кругах. Хлебников прослушал курс геометрии Лобачевского и, размышляя о ней, поставил перед собой задачу связать пространство со временем.
Эйнштейн и Минковский пришли к выводу о существовании четвертой пространственно-временной координаты, исходя косвенным образом из тех же идей Лобачевского.
Однако Хлебников шел иными путями, и его понимание пространства и времени было и остается до настоящего времени совершенно феноменальным.
Отрывок «Завещания» дает ясно почувствовать, как преломились в сознании поэта идеи Лобачевского. В отличие от Минковского и Эйнштейна, он считал, что пространство и время соединяются в человеке. Здесь, в сфере живого мыслящего существа, образуется тот узел, где пересекаются параллельные прямые. Здесь готовится гигантский скачок не только сквозь бездны космического пространства, но и сквозь бездны времени. Человечество должно "прорасти" из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки, "воюя за объем, веткою ночь проколов".
Как уже говорилось ранее, в трудах академика В.И. Вернадского высказана сходная мысль: крупнейший ученый считал, что именно пространство живого вещества обладает неевклидовыми геометрическими свойствами.
Когда-то Ломоносов увидел в гласных звуках образ пространства. Так, звук "а" указывал направление ввысь:
Открылась безднА звезд полнА;
ЗвездАм числа нет, бездне днА.
Хлебников спустя двести лет продолжал мысли Ломоносова о пространственной природе звука, распространив ее не только на гласные, но и на согласные звуки. Возникла "звездная азбука", о которой речь в дальнейшем.
В одной из его записей говорится, что, если язык Пушкина можно уподобить "доломерию" Евклида, не следует ли в современном языке искать "доломерие" Лобачевского. Расшифровка этой мысли проста и высоко поэтична. Евклидова геометрия основывается на обычном опыте человечества. "Доломерие" Лобачевского иного рода, оно основывается на необыденном. Лля того чтобы представить его, нужно оторваться от повседневности и очевидности. Таков неожиданный отрыв Хлебникова от привычных значений звука.
Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли в одном направлении; придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную изобразительность. Звук у Хлебникова — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет.
Если читать звуковые стихи Хлебникова, пользуясь данным поэтом ключом к их пониманию, то каждый звук приобретает сияющую цветовую бездонность, перед глазами возникают величественные пространственные структуры, изменяющиеся, превращающиеся друг в друга, творящие из себя зримые очертания неочевидного мира.
Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени. Он чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук очертания пространства и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы.
Он действительно опространствливал время и придавал пространству текучесть времени.
Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового языка. Он точно свет. Слушайте Песни "звездного языка".
"Доломерие" — славянская калька со слова "геометрия": "гео" — доле, го есть пространство.
Итак, вот видимое звучание "звездной азбуки". Мировое энмерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого. Но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки, а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства, тогда "узор точек" (чувств) заполнит "пустующие пространства" и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной.
Звук "с" будет точкой, из которой исходит сияние. Звук "з" будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это "зигзица" — молния, это зеркало, это зрачок это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук "п" будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет "парить" в пространстве, как парашют.
Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучные имена. Тогда человек был пуст, как звук "ч", как череп, как чаша. В темной черноте этого звука уже рождается свет "с", уже луч преломляется в зрение, как звук "з".
Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал "прямостоящее двуногое" — "его назвали через люд", ибо "л" — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук "л" — модель победы над весом.
Ныне звуки в языке выглядят как "стершиеся пятаки", их первоначальное пространственно-временное значение, интуитивно воспринятое в детстве человечеством, забыто. О нем должны напомнить поэты. Но древние слова, как древние монеты, хранят в начале слова звук — ключ к их пониманию.
Так, в начале слова "время" стоит звук "в", означающий движение массы вокруг центра. Этим же знаком обозначен "вес" — нечто прикованное к своей орбите, но стремящееся разбежаться и улететь. В результате получается "вращение". Вес, время, вращение — вот модель попытки вырваться за пределы тяготения. В результате получается движение планет по кругу, по орбите вокруг центра тяготения.
В противоположность этому стремлению вырваться за пределы тяготения есть центростремительная сила вселенной, выраженная в структуре звука "б". Это тяжкое бремя веса. Чем больше сила тяжести, тем медленнее течет время (это предположение Хлебникова подтвердилось в общей теории относительности, которую Хлебников справедливо назвал — "вера 4-х измерений").
Итак в момент слияния чувств мы увидим, что время и остранство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и какими заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:
Времыши-камыши
На озера бреге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
Пространственно осязаем звук в «Слове об Эль»:
Когда судов широкий вес
Был пролит на груди,
Мы говорили: видишь, лямка
На шее бурлака. ‹...›
Когда зимой снега хранили
Шаги ночные зверолова,
Мы говорили — это лыжи. ‹...›
Он одинок, он выскочка зверей,
Его хребет стоит как тополь,
А не лежит хребтом зверей,
Прямостоячее двуногое
Тебя назвали через люд.
Где лужей пролилися пальцы,
Мы говорили — то ладонь. ‹...›
Эль — путь точки с высоты,
Оставленный широкой Плоскостью. ‹...›
Если шириною площади остановлена точка — это Эль.
Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения, — это Эль.
Таков силовой прибор,
Скрытый за Эль.
"Формула-образ" — иного определения и не придумаешь для последних строк этого стиха. Может ли формула быть иллюзией? Конечно, только поэт может увидеть в этой формуле "судов широкий вес", пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы действительно расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению, действительно ставшему первой победой человека над силами тяготения, — победой, которая сравнима только с выходом человека в космос в XX веке. Пожалуй, даже большей. Ведь не было для этого каких-то технических приспособлений.
Рядом со "звездным языком" и «Словом об Эль» стоит в поэзии Хлебникова гораздо более известное, но, пожалуй, гораздо менее понятое непосредственным читателем стихотворение «Бобэоби»:
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
В отличие от "звездной азбуки" и от «Слова об Эль», это стихотворение строится не просто на пространственной структуре звука, но и на тех ассоциативных ощущениях, которые вполне закономерно могут возникнуть у большинства читающих. Произнося слово "бобэоби", человек трижды делает движение губами, напоминающими поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: "пелись губы". Слово "лиэээй" само рождает ассоциацию со словом "лилейный", "гзи-гзи-гзэо" — изящный звон ювелирной цепи.
Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом как музыка и считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: "связать пространство и время", звуками написать портрет. Вот почему две последние строки — ключ ко всему стихотворению в целом: "Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо".
"Протяжение" — важнейшее свойство самого пространства. Протяженное, зримое, видимое. Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета и звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, воссоздающее женский образ. Этот портрет "пелся": пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством.
Соединить пространство и время значило также добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, "где голубизна василька сольется с кукованием кукушки". Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук тоже был связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. Он считал, что звук "м" — темно-синий, "з" — золотой, "в" — зеленый.
Звукопись
Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — темный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пучь и чапи — черный грач. ‹...›
Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку. ‹...›
Мивеаа — небеса.
Реакция окружающих на эти слова в драме «Зангези» вполне определенна:
Слушающие. Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Зангези!
Но мы прислушаемся к словам поэта. Несомненно, что звуковые ассоциации Хлебникова, связанные с окраской звука, так же субъективны, как ассоциация, скажем, Рембо, но есть здесь и нечто объективное.
В 1967 году я сравнил цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников, приведенными в статье Г.Н. Ивановой-Лукьяновой.
У Хлебникова:
З — отражение луча от зеркала (золотой);
С — выход точек из одной точки (свет, сияние);
Д — дневной свет;
Н — розовый, нежно-красный.
Большинство школьников окрасили звук "с" в желтый цвет. У Хлебникова этот звук — свет солнечного луча.
Звук "з" одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой цвет.
Многие, как и Хлебников, окрасили "м" в синий цвет, хотя большая часть считает "м" красным.
Эти данные тем более ценны, что лингвист-фонетик никак не соотносил свои исследования с поэзией Хлебникова.
Видимо, цветозвуковые фонемы Хлебникова и его "звездная азбука" глубоко уходят корнями в пространственно-временные свойства.
Подтверждение правоты В. Хлебникова еще раз пришло несколько неожиданно для меня в 1981 году. В это время вышла книга калининградского лингвиста А. П. Журавлева «Звук и смысл». Там сообщалось, что многие поэты, подчас неосознанно, видят цвет звука. Звуки "а" и "я" передают красный цвет, а звук "о" — желтый и т. д.
Спустя два года А.П. Журавлев перебрался в Москву, и мы совместно повторили опыт с окраской звука по телевидению в передаче "Русская речь".
Перед школьниками лежали разноцветные карточки и буквы русского алфавита. На глазах у зрителей они должны были выбрать для каждой буквы свой цвет.
Теперь уже не по книгам, а в реальности я как ведущий телепередачи убедился в правоте Велимира Хлебникова. Многие школьники выбрали хлебниковские цвета. Для них, как и для поэта, "м" был синим звуком.
Конечно, здесь существуют тонкости. Даже в обычном опыте один и тот же цвет люди видят по-разному. Для дальтоников, например, красный и зеленый неразличимы, так сказать, на одно лицо. Есть люди, которые видят мир черно-белым. Что уж-говорить о высоте восприятия Хлебникова или Рембо.
Цветозвук Велимира Хлебникова — весть из другого, как говорили древние, "горнего" мира. Горний мир высоко, как хрустальная небесная гора, но в душе человека эта высота есть. "Горе имеем в сердцах", — восклицали древние поэты. Слово стало исчезать из нашего языка. Только у Цветаевой в «Поэме горы»:
Вздрогнешь — и горы с плеч, и душа — горе.
Дай мне, о горе, спеть о моей горе...
Цветозвуковая небесная гора Хлебникова как бы опрокинута в человека. Он смотрит с ее вершины и видит: "Стоит Бештау, как А и У, начертанные иглой фонографа". При таком взгляде звучат любые контуры предмета. А ныне появились переложения рельефа Альпийских гор на музыку — нечто величественное, похожее на фуги Баха, хотя выполнял эту работу компьютер.
Я представляю, как трудно было поэту жить в мире сияющих слов, в пространстве звучащих облаков и гор. Бештау аукался очертанием своих вершин, одновременно поэт слышал здесь древнеиндийский мировой звук "аум".
Хлебников утверждал, что в звучании "ау" содержится 365 колебаний (подсчитывал на фонографе), одновременно 365 дней в году и еще 365 разновидностей основных мышц у человека, и отсюда мысль о повторяемости каждого мирового цикла событий через каждые 365 ± 48 лет. К этому открытию мы еще вернемся, а пока прислушаемся к "звездной азбуке".
Она похожа на современную космологическую модель метавселенной, где мифы переплетены, взаимопроникаемы и в то же время невидимы друг для друга.
Иные вселенные могут валяться в пыли у наших ног, могут пролететь сквозь нас, не оставляя следа.
Я вспоминаю стихотворение Велимира Хлебникова, где Сириус и Альдебаран блестят в пыли под ногтем.
Это так близко к нашему восприятию метавселенной.
Выходит, что поэт интуитивно видел метавселенную, жил в ней уже в 20-х годах нашего столетия, хотя, конечно, не надо отождествлять его мир со строго научной космогонией. Мета-вселенную можно представить как дерево со множеством веток, вторые не соприкасаются между собой. Каждая ветвь — вселенная, либо подобная нашей, либо отличная от нее. Именно такую модель предложил И.С. Шкловский.
В космической драме «Зангези» Хлебников воздвигает "колоду плоскостей слова", которые вполне можно уподобить листве на древе метавселенной. Их единый образ — утес среди гор соединенный мостом "случайного обвала основной породою" гор.
Мост случайного обвала — это символ поэтического прорыва к единой метавселенной. Сам утес, "похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом", одновременно — на "посох рядом со стеной", — символ нашей вселенной, одиноко возвышающейся среди "основных" пород других миров.
Метавселенная здесь похожа еще на книгу с каменными страницами: "Порою из-за корней выступают каменные листы основной породы. Узлами вьются корни, там, где высунулись углы каменных книг подземного читателя".
Плоскости-вселенные отданы людям, птицам, числам, богам, поэтам, но главное действие разворачивается на восьмой плоскости, где Зангези сообщает миру свою "звездную азбуку".
Она состоит из тех же звуков, которыми изъясняются боги, птицы и люди, но значения этих звуков совсем иные. Это "речи здание из глыб пространства".
Хлебников создает здесь свой вселенский метаязык. Не будем смешивать его в дальнейшем с метаязыком лингвистов, хотя у Хлебникова есть и это значение.
"Слова — нет, есть движение в пространстве и его части — точек, площадей ‹...› Плоскости, прямые, площади, удары точек, божественный угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык, и вы увидите пространство и его шкуру".
В каждом звуке нашего языка таится модель одной из многочисленных вселенных. Легко воспроизвести эти модели графически. "Вэ — вращение одной точки около другой".
Это модель нашей галактики, где все планеты и звезды вращаются вокруг центра. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце — вокруг оси галактики.
"Эль — остановка падения или вообще движения плоскостью, поперечной падающей точке ‹...›".
Это модель "двухмерного мира", растекающегося на плоскости. Мир поверхностей населял воображаемыми "плоскатиками" еще Эйнштейн в книге «Эволюция физики». "Плоскатики" не видят объема, для них третье измерение — такая же математическая абстракция, как для нас четвертое. Гусеница, ползущая по листу и не ведающая о дереве, — вот наилучший образ плоскатика. Так мы не видим древа метавселенной и даже не различаем четвертую пространственно-временную координату своей вселенной.
"Эр — точка, просекающая насквозь поперечную площадь".
Это одномерная вселенная. Ее "точечные" обитатели не подозревают о существовании линии или плоскости. Их мир — сплошной дискретный мир точек. Мир квантовый. Они "скачут", как фотоны, из ничего в ничто.
"Пэ — беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объема ‹...›".
Это наилучший образ нашей разбегающейся, расширяющейся вселенной.
"Эм — распыление объема на бесконечно малые части".
Образ сжимающейся вселенной, скажем, в областях черных дыр.
"Эс — выход точек из одной неподвижной точки (сияние)".
Наилучший образ нашей вселенной в первый момент "творения" — взрыва.
"Ка — встреча и отсюда остановка многих движущихся точек в одной неподвижной. Отсюда конечное значение Ка — покой, закованность".
Это опять же в районе черных дыр и максимального гравитационного уплотнения массы.
"Ха — преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней ‹...›".
Это может быть стена уплотнения в области подлета к черной дыре. Между "нами" и "ними" образуется плотная стена. Уплотняется вся вселенная, пока не перейдет в стадию "Эль" — растекание по плоскости до бесконечности.
"Че — полый объем, пустота ‹...›" —
Это наша вселенная в будущем на стадии максимального расширения. Находясь внутри ее, мы окажемся как бы в полом объеме.
"Зэ — отражение луча от зеркала. — Угол падения равен углу отражения".
Это зримый образ нашей встречи с антимиром, частицы с античастицей. Зеркальное отражение без соприкосновения.
"Гэ — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда вышина".
Это антигравитация, полет, невесомость и сингулярность, есть область преодоленного тяготения.
С — свет, расходящийся от точки.
П — разлетающийся объем.
Модели Хлебникова многослойны: это просто звуки (язык птиц), это звуки-знаки (язык богов), звуки-речи (язык людей) звуки — модели пространства, звуки — модели пространства-времени нашей вселенной на разных стадиях существования — то, что мы только что рассматривали, и, наконец, седьмой уровень — "знаки звездного языка" метавселенной. На этом уровне они звучат для нас просто как "заумный язык", поскольку вселенные метавселенной на уровне привычного языка непередаваемы, ибо говорит поэт: "У нас три осады: осада времени, слова и множества".
Осада времени — это разобщенность вселенных, в каждой свое время и свое пространство, не совпадающее с нашим.
Осада множества — множественность вселенных в метавселенной и принципиальная невозможность сведения их к ОДНОМУ знаменателю.
Осада слова — это ясно выражено в теореме Геделя о неполноте, где доказано, что любой язык, любая знаковая система зиждется на противоречивых утверждениях, то есть язык в принципе не может быть полным описанием реальности.
У языковедов появился термин "метаязык", то есть язык из другой знаковой системы, который восполняет неполноту другого. Каждый язык неполон, и в то же время он выступает как абсолют, как метаязык по отношению к другому.
Так "звездная азбука" Хлебникова размыкается на всех уровнях. Язык птиц переходит в язык богов, язык богов становится языком людей, язык людей превращается в систему геометрических символов, в космогонические модели, а космогонические модели размыкаются в "заумный язык" невнятного для человека лепета метавселенной:
Боги великие звука,
Пластину волнуя земли,
Собрали пыль человечества,
Пыль рода людей.
Мы — дикие звуки,
Мы — дикие кони,
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры...
Хлебников приоткрыл тайну своего метаязыка в записных книжках: в этом языке семь слоев. Это:
1) звукопись — птичий язык;
2) язык богов;
3) звездный язык;
4) заумный язык — "плоскость мысли";
5) разложение слов;
6) звукопись;
7) безумный язык.
Их комбинации в разных сочетаниях дают множество звуковых вселенных.
Поскольку сам Хлебников объяснял, что звук в его драме «Зангези» — это модель пространства, мы можем вычертить контуры каждой вселенной.
Птичий язык соответствует одномерной вселенной — движение точек на плоскости.
Язык богов — двухмерная вселенная — плоскости разных культур.
Звездный язык — трехмерные модели знакомых нам объемов, движущихся в пространстве.
Заумный язык, или плоскость мысли, — это четырехмерное пространство, то есть то, что нельзя охватить обыденным зрением.
Разложение слова — это пространство микромира, опять же ускользающее от обычного видения.
Звукопись — язык четвертой, пространственно-временной координаты, где звуку-времени соответствует пространственная окраска и форма.
И наконец, так называемый безумный язык иных вселенных, которые мы в принципе не можем представить, ибо еще Фрэнсис Бэкон писал, что "вселенную нельзя низводить до уровня человеческого разумения, но следует расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринять образ вселенной по мере ее открытия".
Прочитав "звездную азбуку", легко понять смысл имени Зангези: "з" — луч света, преломленный и отраженный в косной преграде "н"; преодолев эту преграду, свет знания устремляется ввысь, как возвышенный звук "г", и, преломившись в лесной сфере, луч истины снова возвращается на землю молнией звука "з" — ЗаНГеЗи.
В имени Зангези — композиция и сюжет всего произведения. Имя Зангези похоже на щебет птиц — это "первая плоскость звука" и первое действие драмы. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в энмерном пространстве-времени.
Первая плоскость — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:
Пеночка (с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко).
Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!
‹...›
Дубровник. Вьер-вьöр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-виру сек-сек-сек!
‹...›
Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк, пьяк, пьяк!
Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал язык птиц. Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками. Вторая плоскость — язык богов. Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, давшие им названия. Значение звуков еще непонятно, но оно интуитивно соответствует облику богов. В этой "плоскости богов" было создано стихотворение «Бобэоби».
Суровый Велес урчит и гремит глухими рычащими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:
Рапр, грапр, апр! Жай!
Каф! Бзуй! Каф!
Жраб, габ, бокв — кук!
Ртупт! Тупт!
Конечно, и язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает такого рода ремарки:
Белая Юнона , одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи.
Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языков их ареалов культуры.
Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное — четвертое измеререние, и ему открывается звездный язык вселенной. Опьяненный своим открытием, Зангези радостно несет весть о нем людям, елям и богам: "Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок".
Реакция окружающих банальна. Одни видят в его азбуке "когти льва", но не стремятся его понять, другие просто называют Зангези безумцем. Тогда Зангези опрокидывает свой звездный язык с небес на землю, проецируя небо звуков и сферу неба на сферу мозга. Звучит опьяняюще возвышенный "благовест ума":
Проум
Праум
Приум
Ниум
Вэум
Роум
Заум
Выум
Воум
Боум
Быум
Бом
Сразу же после этого дается разгадка каждого образа:
‹...›
Проум — предвидение.
‹...›
Выум — слетающий обруч глупости.
Раум — не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. ‹...›
В "заумном языке" Хлебников моделирует состояние вселенной, где наши представления о пространстве и времени в принципе дают сбой. И.С. Шкловский писал, что здесь язык ceгодняшней науки немеет. В самом деле, как смоделировать такие понятия, стоящие на пороге сингулярности, как нуль-пространство, нуль-время? Наша вселенная возникла восемнадцать миллиардов лет назад, а что до этого? Нельзя сказать "до этого", ведь "до" подразумевает время. Говоря словами И. Шкловского: "Что было, когда ничего не было?" Вот абсурдная и тем менее реальная постановка вопроса.
Первые три слоя нашей вселенной — язык птиц, язык богов и язык людей — нам знакомы. О чем же говорит слой четвертый — язык заумный? Это еще сфера нашей вселенной, но в той ее области, где смыкаются пространство и время в четвертую пространственно-временную координату.
Пятый и шестой слой метаязыка Хлебникова — разложение слова и звукопись — в принципе понятны. Каков же последний, седьмой слой — язык "безумный"? Его в драме нет и не может быть, он подразумевается как некая разомкнутость всех слоев языка в невыразимое, то, что сами мы именуем областью разрыва, отделяющей вселенные друг от друга.
К сожалению, мы не можем перелетать, как птицы Хлебникова, от одной ветви вселенной к другой. Равномерные вселенные, возможно, в принципе неконтактны. Хлебников догадывался и об этом. В его записных книжках есть такие слова:
"Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно), не имеют строения сетей. Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, измерение одного мирка другой величиной".
Вот вам и проблема не межгалактических, а межвселенских контактов. Как измерить мерой нашего мира миры другой величины, мысленно перепрыгнуть из одной ячейки в другую?
Знаменитый "сдвиг", широко пропагандируемый футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Теория "сдвига" требовала фактически смешения разновременных и разнопространственных планов изображения. Для Хлебникова "сдвиг" — это скачок из одной вселенной в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Вместо плавного чередования эпох, предлагаемого учебником истории, Хлебников дает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя.
Зачем же вам глупый ученик?
Скорее учитесь играть на ладах
Войны без дикого визга смерти —
Мы — звуколюди!
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече!
Поэт призывал человечество "вломиться" во вселенную:
Прибьем, как воин, свои щиты, пробьем
Стены умного черепа вселенной,
Ворвемся бурно, как муравьи в гнилой пень,
С песней смерти к рычагам мозга,
И ее, божественную куклу, с сияющими по ночам глазами,
Заставим двигать руками
И подымать глаза.
Свою трагическую гибель в этой битве Хлебников предвидел вполне, но это не могло поколебать его решимость отвоевать небо.
И на пути меж звезд морозных
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мертвый, грозный,
С окровавленною бритвой...
Если "физический" контакт с отдельными ветвями мета-вселенной невозможен, то можем ли мы соприкоснуться на уровне мысли с обитателями иновселенной? Хлебников отвечает на этот вопрос положительно. В стихах эта встреча выглядит так:
Раз и два, один, другой,
Тот и тот идут толпой,
Нагибая звездный шлем,
Всяк приходит сюда нем.
Облечен в звезду шишак,
Он, усталый, теневой,
Невесомый, но живой,
Опустил на остров шаг.
Остров Хлебникова в метавселенной — это поэтический порыв мысли первых десятилетий нашего века.
С мыслью о принципиальной невозможности физического контакта с иными вселенными человечество смириться может, труднее представить невозможность контакта на уровне языка, на уровне мысли, воображения, представления. Хлебников все же дает нам некоторую надежду. Его "звездная азбука" адресована всей метавселенной, всем мирам. Правда, мы не подозреваем о многих ее космических слоях, как птиць не подозревают о языке людей, хотя в принципе в "языке птиц" и "языке людей" у Хлебникова те же звуки.
Размышляя традиционно, мы все же должны предположить, что если есть метавселенная, значит, множество вселенных представляет некое материальное единство, а если так, те должен существовать некий единый код всей материи — мета-код. Здесь понятие о нем расширяется по сравнению с первое главой. Уже не просто астрономический код, а более насыщенное понятие, о котором речь еще впереди. В таком случае, говоря на "разных языках" и космологически не общаясь друг с другом, вселенные в принципе могут воссоздать семантику отдаленных миров в системе своих языков, но теорема Геделя с неполноте велит нам предположить, что и в этом случае останутся вселенные, не охваченные единым кодом. Правда, тут есть некоторое утешение: ведь язык поэзии в принципе всегда разомкнут, открыт в другие миры и потому в житейском смысле заумен или даже "безумен", говоря словами Хлебникова. Поговорим о метавселенной поэта просто на языке поэзии.
И Мировичей — дух надзвездный, зазвездил и
Синим лоном неба; он обитаем
Последний и одинокий.
Миров иных изведал жажду,
Мирейные целины просек оралом звездным,
Разгреб за валом бездны мировинные целины.
"Звездная азбука" звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое метавселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:
Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути,
Батыевой дорогой зовут их иногда.
К замку звезд
Прибьем, как воины, свои щиты.
Так же, как сейчас мы путешествуем в пространстве, мы сможем передвигаться во времени. Путешествие во времени будет выглядеть неподвижным в пространстве.
Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею.
"Птица звезд" — очертания нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, "фотонная ракета", двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорил о превращении в космический корабль всей галактики.
"Звездная азбука" Хлебникова — космический ориентир для плавания по океану поэзии. Об этом лучше всего говорит сам поэт:
Еще раз, еще раз
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни ‹...›
Возвращаясь к модели метавселенского древа, вспомним, что корни и ствол у вселенского мысленного древа едины, и тогда разобщенность ветвей вселенных не покажется столь абсолютной. Во всяком случае, Хлебников это древо видел и оставил нам его образ, где, как в голограмме, каждая часть содержит информацию о целом.
Изломан сук на старом дереве,
Как Гоголь, вдруг сожегший рукописи ‹...›
Казалось, в поисках пространства Лобачевского,
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем, веткою ночь проколов ‹...›
Ты тянешь кислород ночей могучим неводом,
В ячеях невода сверкает рыбой синева ночей,
Где звезды — предание о белокуром скоте.
Это дерево — настоящая поэтическая модель метавселенной. Здесь листва, прорываясь в небо, повторяет путь воинов Ермака и одновременно вычерчивает кривые Лобачевского, выходя в четвертое измерение пространства-времени.
Так мы вычерчиваем древо метавселенной, хотя наши сегодняшние представления о ней со временем могут показаться не более достоверными, чем мифологические предания о звездах как о "белокуром скоте". И все же как приятно "растекаться" поэтической мыслью по метавселенскому древу Хлебникова.
Здесь самые разные, будто бы созданные разными поэтами, строки складываются в единую голограмму вселенной. В этом сказочном замке можно, спустившись в подземелье египетской гробницы, выйти навстречу будущему. Можно в самолетном "шуме Сикорского" уловить стрекотание кузнечика и трепет прозрачных крыльев. Стихи Хлебникова и его поэмы удивительно похожи на очертания "умных машин", переливы жидких кристаллов; его образы перекликаются своей необычностью с математическими законами, открытыми научной мыслью XX века. Он воочию видел "стеклянные соты" современных зданий, он видел и то, что, возможно, еще предстоит совершить человечеству, "прикрепив к созвездию парус".
Математический ум поэта с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства, при этом большее пространство часто оказывается заключенным в меньшее:
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам ‹...›
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник ‹...›
Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки: меньшая матрешка вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам.
Для нас гипотеза о человеческом хронотопе, назовем ее так, есть прежде всего яркий художественный миф Хлебникова. Этот миф строился на новейших научных представлениях и в то же время из древнейших блоков всей мифологии культур Востока и Запада.
В своей стройности пространственно-временной мир поэта хватывает все слои языка, от звука до композиции произведения в целом.
Здесь уместно вспомнить разъяснение к новой космологии мира, данное самим Эйнштейном: "Программа теории поля обладает огромным преимуществом, заключающимся в том, что отдельное понятие пространства (обособленного от пространства-времени) становится излишним. В этой теории пространство — это не что иное, как четырехмерность поля, а не что-то существующее само по себе. В этом состоит одно из достижений общей теории относительности, ускользнувшее, насколько нам известно, от внимания физиков". (То, что ускользнуло от физиков, "не ускользнуло" от Хлебникова еще в 1904 году.) Эйнштейн считал, что четырехмерность мира вообще нельзя увидеть человеческим взором:
"Я смотрю на картину, но мое воображение не может воссоздать внешность ее творца. Я смотрю на часы, но не могу представить себе, как выглядит создавший их часовой мастер. Человеческий разум не способен воспринимать четыре измерения". Он не знал, что еще до выхода в свет специальной теории относительности Хлебников создавал свою четырехмерную поэтику, полностью подчиненную задаче открыть четырехмерное зрение:
"Люди! Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси пространства). Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, этому щенку четвертую лапу — время".
О четырехмерном мире Эйнштейна-Минковского хорошо сказано в книге астронома Ф. Зигеля «Неисчерпаемая бесконечность»:
"В 1909 году немецкий математик Герман Минковский предложил оригинальную модель реального мира. К трем обычным его измерениям он прибавил четвертое измерение — время. В самом деле, всякое событие происходит не только где-нибудь (для этого нужно знать три измерения, точнее, три координаты), но и когда-нибудь. Поэтому наш пространственно-временной мир Минковский предложил представить по аналогии с железнодорожным графиком. Тогда каждому объекту, в том числе и человеку, в четырехмерном мире Минковского будет соответствовать некоторая кривая, которую он предложил назвать мировой линией.
Конечно, мировая линия может быть лишь в том случае если речь идет о математической точке, существующей во времени. Что же касается протяженных тел, то их четырехмерные изображения в мире Минковского скорее можно сравнить со змеями или червями. Так, например, всякий человек в мире Минковского сразу представлен всей своей жизнью от момента появления на свет до смерти. То же, что мы видим вокруг себя есть сечение в данный момент времени странных четырехмерных образований".
Правда, Зигель, в отличие от Эйнштейна, считает четырехмерность лишь удобной математической абстракцией. Хлебников, как и Эйнштейн, четырехмерность пространства-времени считал реальностью всей вселенной. Его поэзию можно назвать эстетическим обживанием вселенной Эйнштейна.
Теория относительности дает две космологические модели пространства-времени нашей вселенной: замкнутую расширяющуюся (сферу) и открытую вселенную с отрицательной кривизной (гиперсферой). Любое событие в такой вселенной изображается не точкой, а мировой линией, проходящей по всей поверхности пространства-времени. С вселенской точки зрения любое точечное событие в нашем мире растягивается, как веер, в четырехмерном континууме. Получается, что роковая пуля Дантеса, столь молниеносно пролетевшая в нашем трехмерном пространстве, в четырехмерном вселенском пространстве-времени продолжает свой путь сейчас и летела там еще до того, как Дантес спустил курок. Хотя понятия "до" и "после" вполне реальны в нашем пространстве, они не имеют никакого смысла во вселенском четырехмерном мире.
На сферической поверхности мира линия мировых событий рано или поздно должна сомкнуться, как всякая искривленная линия и, стало быть, повториться. Это приводит к несколько странному выводу. Выстрел Дантеса, прозвучавший в нашем реальном пространстве в 1837 году, в четырехмерном континууме должен периодически повторяться каждый раз, если кончатся искривленная линия мировых событий. При этом нелььзя сказать, который из выстрелов следует считать повтором. Во вселенной Эйнштейна понятия "раньше" и "позже" не имеют никакого реального смысла.
Хлебников смотрел на время таким, космическим взором. Он считал, что "вселенские" повторы одного и того же события имеют отношение и к нашему трехмерному пространству. Во вселенском пространстве-времени "раньше" и "позже" не существует. Там все, что было — будет, и все, что есть — было. А что, если спроецировать такое вселенское видение на наш, земной мир?
Воспроизведено с согласия автора по: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kedrov/ogl.shtml
(o) Хлебникова поле. HTML, 2005 содержание раздела на главную страницу

|
Метки: вселенная хлебников велимир кедров |
формула бессмертия велимира хлебникова |
Дневник |
ГАММА БУДЕТЛЯНИНА
К.А. Кедров
http://www.nesterova.ru/apif/kedroff.shtml
http://metapoetry.narod.ru
Подобно тому как шахматная доска состоит из черных и белых клеток, мир времени соткан из чередования двоек и троек, четных и нечетных событий. Это означает, что через 2n должны происходить события подобные, а через 3n — события противоположные. Хлебников перевел эти числа из количества дней в количество лет и получил загадочное число в 317 лет. "Если понимать все человечество как струну, то более настойчивое изучение дает время в 317 лет между двумя ударами струны. ‹...› законы Наполеона вышли в свет через 317·4 после законов Юстиниана — 533 год. ‹...› две империи, Германская 1871 и Римская — 31 г., основаны через 317·6 ‹...› Итак, 317 лет — не призрак, выдуманный больным воображением, и не бред, но такая же весомость, как год, сутки Земли, сутки Солнца".
"Сутки Солнца", то есть год или время обращения Земли вокруг Солнца, Хлебников тоже считал очень важной мерой. Если земля вращается вокруг Солнца, повторяя свою орбиту; через 365 дней, то не менее интересно знать, что, согласно Хлебникову, через каждые 365 лет рождаются люди-двойники.
"Например, есть закон рождения подобных людей. Он гласит, что луч, гребни волн которого отмечены годом рождения великих людей с одинаковой судьбой, совершает одно свое колебание в 365 лет".
В 476 году в Индии родился астроном Ариабхатта, утверждавший, что Земля вращается вокруг Солнца, а через 365·3 в 1571 году родился Кеплер, доказавший это вращение.
Вывод Хлебникова таков: через 365 лет происходит рождение подобных людей, через (365 − 48), то есть через 317 лет возникают войны, а через (365 + 48) лет рождаются новые государства.
Самое интересное, что все эти странные чередования укладываются, согласно Хлебникову, в гамму звуковых колебаний от А до У (самого низкого звука в азбуке). Вообразите парня с острым и беспокойным взглядом, в руках у него что-то вроде балалайки со струнами. Он играет. Звучание одной струны вызывает сдвиги человечества через 317. Звучание другой — шаги и удары сердца, третья — главная ось звукового мира. Перед вами будетлянин со своей "балалайкой".
Перед нами стройная неопифагорейская теория, где история человечества вписывается в гамму колебаний звуковых волн. Мы слышим неразличимую простым слухом музыку времени, но Хлебников идет еще дальше. Зная, что все явления материального мира есть сгустки и вибрации световых волн, Хлебников фактически создает проект машины времени, подчиненной звуковой гамме.
МАШИНА ВРЕМЕНИ
Хлебниковская машина времени состоит из зеркал и линз, улавливающих лучи, замедляющих или ускоряющих волны света. Нет никакого сомнения, что такой проект мог возникнуть только на основе теории относительности Эйнштейна. Ведь именно в этой теории проистекает возможность замедления или ускорения времени в зависимости от скорости светового луча. В теории Хлебникова это открытие преломилось самым неожиданным образом. "Когда наука измерила волны света, изучила их при свете чисел, стало возможно управление ходом лучей. Эти зеркала приближают к письменному столу вид отдаленной звезды, дают доступные для зрения размеры бесконечно малым вещам, прежде невидимым, и делают из людей по отношению к миру отдельной волны луча полновластных божеств. Допустим, что волна света населена разумными существами, обладающими своими правительствами, законами и даже пророками. Не дает ли для них ученый, прибором зеркал правящий уходом олн казаться всемогущим божеством?"
О нет, это не фантастика Уэллса. Такая машина времени существует — это сама Вселенная, но Хлебников утверждает что люди могут уподобиться "всемогущему божеству", став создателями своего мира, переделывая и создавая будущее и прошлое. Кому-то такой проект покажется только фантастикой, но самое поразительное, что к осуществлению его наука уже приступила.
В 60-е годы астрофизик Козырев предложил абсолютно новую теорию времени. Согласно Козыреву, время есть неуничтожимая реальность Вселенной, порождающая свет и материю. А раз так, то можно построить систему зеркал, улавливающих мировой свет и даже изменяющих течение времени.
В домашних условиях он построил свою систему "зеркал", улавливающих невидимые лучи, энергетические всплески, исходящие из будущего и прошлого. Каким образом? Он направил свои гироскопы в те точки неба, где планета была и где она еще будет. Результат превзошел все ожидания. Сигнал был получен и из будущего, и из прошлого. Во многих лабораториях мира пытались повторить опыт Козырева, но безуспешно. Результат повторить не удалось, а следовательно, он не получил признания.
Однако совсем недавно, в 1991 году, сибирская Академия наук повторила опыты Козырева и получила ошеломляющие результаты. Все опыты подтвердились. Светила исправно слали лучи как из прошлого, так и из будущего, подтверждая правоту Хлебникова.
Наконец, экспедиция академика Казначеева построила систему зеркал Козырева, улавливающих время. В результате пять раз появлялся светящийся объект неизвестного происхождения, а затем в одном из опытов появился "сияющий хвостатый плазмоид" необычных очертаний. Ведутся работы над расшифровкой этого опыта.
Вернемся к предсказанию Хлебникова. "Изучив огромные лучи человеческой судьбы, волны которой населены людьми, человеческая мысль надеется применить к ним зеркальные призмы управления, из двояковыпуклых и двояковогнутых стекол. Можно думать, что столетия колебания вселенского луча будут так же послушны ученому, как и бесконечно малые волны светового луча. Тогда люди сразу будут и народом, населяющим волны луча, и ученым, управляющим ходом этих Лучей". Проще говоря, человек станет Богом, а Бог человеком. Однако остановимся на задачах более скромных. С помощью зеркал Хлебникова человек будет видеть свое будущее и прошлое, выходящее за пределы его рождения и его смерти, а это уже бессмертие.
ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ
Одна из самых загадочных формул Хлебникова — это уравнение прошлого, будущего и настоящего времени, открытое им незадолго до смерти в двадцать втором году. "Три числа! Точно я в молодости, точно я в старости, точно я в средних годах вместе идем по пыльной дороге 105 + 104 + 115 = 742 года 34 дня".
Кое-что в этой формуле понятно. Хлебников вслед за великим ученым древней Греции Пифагором считает, что срок человеческой жизни в прошлом, будущем и настоящем простирается в пределы тысячи лет. За это время человек трижды рождается и умирает в трех новых обликах. Так, себя Хлебников считал родившимся трижды. В прошлом он видел себя математиком и поэтом Омаром Хайямом, в настоящем — геометром Лобачевским и в будущем, то есть в XX веке — Велимиром Хлебниковым. Почему Омар Хайям обозначен числом 105, Хлебников 115, а Лобачевский 104, со временем разберутся математики. Нам же интересно, что срок космической жизни человека — 742 года перекликается с теми, которые указаны в Библии. Девятьсот лет и более живут библейские патриархи от Адама до Мафусаила. Отсюда выражение "мафусаилов век", означающиее сказочное долголетие.
Если взглянуть на эти таинственные сроки жизни глазами Хлебникова, то увидим, что средний срок земной человеческой жизни 70 лет — это лишь верхушка айсберга, скрывающего в глубине тысячелетий глыбы жизни космической.
Очертания этой жизни выглядят у Хлебникова загадочно и странно, но в то же время они строятся из материала сегодняшней земной жизни. И в прошлое и в будущее мы глядимся, как в зеркало, и видим в нем пусть преображенное, но все же зеркальное отражение самих себя. "Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной бородой, с синими глазами в белой рубахе и в серой шляпе с широкими полями. Так это Числобог, — протянул я разочарованно.
— Здраствуй же старый приятель по зеркалу, — сказал я, протягивая мокрые пальцы.
Но тень отдернула руку и сказала:
— Не я твое отражение".
Числобог — это человек, овладевший законами времени, уловивший его в свои таинственные линзы и зеркало. В данном же случае это сам Хлебников, глядящийся в озеро.
Так же как небесные тела, согласно новейшим астрономическим данным, находятся в прошлом, будущем и настоящем одновременно, так и человек, Числобог, есть некая бессмертная субстанция человека, находящаяся во всех временах. Хлебников утверждал, что об этом знали еще древние египтяне. Они назвали эту бессмертную субстанцию человека именем Ка. "Ка — это тень души, ее двойник, посланник. Ему нет застав во времени. Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен). В столетиях располагается удобно, как в качалке".
И Хлебников жил одновременно во всех временах, потому он так ясно видел многие детали из будущего. Ведь машины времени у поэта не было, был только проект ее. Он сам был сложнейшим устройством, пронизывающим века невидимыми лучами мысли.
Среди других великих космических утопий XX века (всеобщее воскрешение по Федорову, освоение космоса по Циолковскому) проект Хлебникова кажется мне самым смелым и, может быть, самым глубоким. Ведь он предлагает полет не на космических кораблях и не в пространстве, а во времени. "Мы полетим в космос прямо со стульев земного шара", — восклицал поэт. Он спроецировал теорию относительности Альберта Эйнштейна из области физики, космологии и математики в сферу человеческой интуиции, и здесь его посетили прозрения, которые становятся понятными лишь на исходе нашего века. Полет в пространстве уже закончен. Здесь ясны границы, видны пределы. Пришла эпоха полетов во времени.
Циолковский в своих трудах обжил для человечества космические пространства. Хлебников заселил нами время. Здесь техника должна уступить человеку с его прозрением и интуицией. "Я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как олень оленя", — писал Хлебников в 1909 году, а в драме «Мир с конца» есть описание обратного хода времени не от рождения к смерти, а от смерти к рождению. Человек сначала старец, потом взрослый, потом юноша, потом младенец. Кажется, уж тут-то мы имеем дело с чистой фантастикой, но не следует спешить с выводами. Математик Курт Гедель тщательно проанализировал время и пространство с точки зрения теории относительности и пришел к выводу, что теоретически обратный ход времени во вселенной возможен. И умирающий старец встретит себя — младенца. Кстати, старец-младенец известен в Китайской миулафологии под именем Паны-у.
Воспроизведено с согласия автора по: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kedrov/ogl.shtml
(o) Хлебникова поле. HTML, 2005 содержание раздела на главную страницу
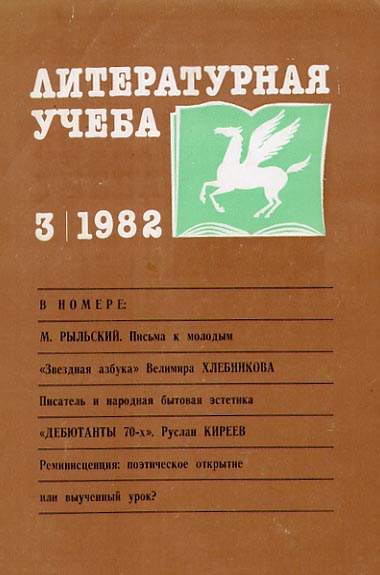
|
Метки: формула бессмертия велимир хлебников к.кедров |
к.кедров лобачевский в.хлебников,эйнштейн |
Дневник |
Константин Кедров
Влияние «Воображаемой геометрии» Лобачевского
и специальной теории относительности Эйнштейна
на художественное сознание Велимира Хлебникова
Краткое изложение дипломной работы.
Казанский государственный университет. 1967 г.
Работа защищена на «отлично».
В 1969 г. представлена как вступительный реферат в аспирантуру
Литературного ин-та СП СССР им. А.М. Горького
и оценена на «отлично» профессором В.Я. Кирпотиным
и профессором С.И. Машинским.
Глава I
Еще в первом прозаическом отрывке под названием «Завещание» Хлебников сказал: «Пусть на его могиле напишут: «он связал пространство и время…» Это прямая реминисценция чугунной эпитафии на могиле Лобачевского: «Член общества Геттингенских северных антиквариев, почетный попечитель и почетный ректор Казанского Императорского университета и многих орденов кавалер Н.Г. Лобачевский». Ни слова о «воображаемой геометрии», обессмертившей его имя.
В 1901 г. Хлебников прослушал курс «Воображаемой геометрии» в том самом Казанском университете, где когда-то ректорствовал гениальный геометр. Позднее об этом в стихах:
Я помню лик, суровый и угрюмый,
Запрятан в воротник:
То Лобачевский — ты,
суровый Числоводск…
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят.
Еще отчетливее Хлебников сформулировал свой геометрический манифест, прямо заявив, что поэтику Пушкина следует уподобить «доломерию Евклида», а поэтику футуристов следует уподобить «доломерию Лобачевского».
Идея связать пространство и время возникла в сознании студента Казанского университета чуть-чуть раньше того момента, когда Герман Минковский прочтет свой доклад о пространственно-временном континууме: «отныне время само по себе и пространство само по себе становятся пустой фикцией, и только объединение их в некую новую субстанцию сохраняет шанс быть реальностью».
Многие до сих пор не поняли, что это означает. Даже Эйнштейн просто счел вначале удобным воспользоваться графиком Минковского, как неким математическим обобщением, где в пространстве вместо точек возникают некие отрезки, сливающиеся в линию мировых событий. И лишь в конце жизни Эйнштейн в письме к сыну черным по белому написал, что «прошлое, будущее, настоящее» с точки зрения физики есть простая иллюзия человеческого восприятия. Ведь график Минковского покончил с иллюзией времени и пространства Ньютона. Теперь перед нами их единство, названное Бахтиным термином «хронотоп».
Хронотоп Хлебникова означал, во-первых, что во времени можно свободно перемещаться из настоящего в прошлое или будущее, поскольку на линии мировых событий Минковского будущее и прошлое присутствуют всегда здесь и сейчас.
Для того, чтобы вычертить график линии мировых событий, а, проще говоря, линии судьбы людей и вещей, потребовалась геометрия Римана, наполовину состоящая из геометрии Лобачевского. У Лобачевского кривизна линии мировых событий отрицательная (седло или псевдосфера). У Римана это обратная сторона четырехмерной сферы. Четырехмерность трехмерного пространства это и есть время.
«Люди, мозг людей доныне скачет на трех ногах. Три измерения пространства. Мы приклеиваем этому пауку четвертую лапу — время» («Труба марсиан»). Стало быть, любое событие во времени постоянно присутствует в пространстве. Если годовой оборот земли вокруг солнца 365 дней образует замкнутую орбиту, значит всемирный пространственно-временной цикл — это 365 лет. Значит через каждые 365 лет происходят события подобные. Записав 365, как 2 n, Хлебников пришел к выводу, что события чередуются через четное число 2 n, а противоположные — через нечетное число 3 n. Так было получено число 317 — цикл противоположных событий. В результате в 1912 г. в статье «Учитель и ученик» Хлебников предсказывает: «В 1917 г. произойдет падение империи». Правда, из контекста явствует, что это будет Британская империя. Оказалось — Российская. Пророчество сбылось. Хлебников уверовал в свою правоту и решил, что отныне будетляне владеют законами времени. Отсюда один шаг для построения линз и зеркал, улавливающих лучи времени и направляющих их куда нужно. Он описал в «Ладомире», как это будет выглядеть.
Глава II
В книге «Неравнодушная природа» и статье «Вертикальный монтаж» великий режиссер Сергей Эйзенштейн открывает тайну контрапункта пространства-времени. Каждому зримому (пространственному) событию на экране соответствует контрапунктное слуховое или звуковое событие во времени. Пример — древнекитайская притча. Мудрец созерцает рябь на поверхности пруда. «Что ты делаешь?» — спрашивают его ученики. — «Я созерцаю радость рыбок». Самих рыбок не видно, видна рябь от их подводной игры. Так музыка должна быть рябью того, что видим, а то, что видим, должно передавать рябь звучанию. Сергей Эйзенштейн назвал это «вертикальный монтаж», или «4-е измерение в искусстве». Это своего рода эквивалент открытия Германа Минковского в геометрии и физике. На графике Минковского линия мировых событий — это рябь пространства на поверхности времени и времени на поверхности пространства. Они контрапунктны. Подъему в пространстве соответствует провал во времени.
Так Велимир Хлебников говорит: «Стоит Бешту, как А и У, начертанные иглой фонографа». А — гребень волны, У — вогутая поверхность ряби.
Вот зримое воплощение контрапункта:
Бобэоби пелись губы — втянутая воронка У в глУбь мира
Пиээо пелись брови — расходящиеся от О круги в ширину на пОверхности ряби
Лиэээй пелся облик — И в облИке связует, стягивает воедИно глубину У и шИрИну И
Осталось связать все это мировой цепью — Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
И вот перед нами мировой лик — автопортрет поэта-вселенной или вселенной-поэта:
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
Глава III
Первое измерение в движении дает линию на плоскости. Таковы плоские фрески и барельефы Древнего Египта. Над плоскостью листа и любой поверхности мы парим изначально. А вот как воспарить над объемом? Ведь пространство физическое трехмерно. Богословы объяснят, почему. Догма о Троице напрашивается. Напрашивается и связь его с трехиспостасным прошло-будуще-настоящим и с трехмерным объемом пространства. Однако математики имеют дело с n-мерным миром. А физики и космологи от пятимерной модели Калуццы пришли к одиннадцатимерной модели мира. Выход в 4-е измерение — это 4-я координата пространства-времени Г. Минковского. Хлебников это понял сразу. И сразу решил, что «узор точек заполнит n-мерную протяженность». Пять чувств — это пять точек в четырехмерном континууме. Они разрознены: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Как только время перестанет быть отдельной от пространства иллюзией, «узор василька сольется с кукованием кукушки». Проще говоря, звуку будет соответствовать цвет, как у Рембо, Скрябина, Римского-Корсакова.
О своем звукозрении Хлебников рассказал в Звездной Азбуке «Зангези».
эМ — синий все заполняющий объем — масса
Пэ — белый разлетающийся объем — порох, пух, пыл
эС — расходящийся из одной точки — свет, сияние
Зэ — отраженье и преломленье — зигзица (молния), зеркало, зрачок.
Вэ — вращение вокруг точки — «вэо вэо — цвет черемух».
В принципе это может быть и по-другому. Важно соответствие цвета звуку, контрапункт Сергея Эйзенштейна. Таким образом, законы времени — «Доски судьбы» Хлебникова — это контрапункт четырехмерного континуума. Или вибрация мирового звука, запечатленная, как волны, на граммофонной пластинке. Впадины — 317, буруны — 365. Универсальная модель АУ — УА. Мир как эхо крика младенца. Скачок от двухмерности к трехмерному объему — перспектива эпохи Возрождения. Она заполнена фресками Микеланджело и Леонардо. Озвучена объемными мессами от Баха до Бетховена. В этом объеме ад, рай, чистилище Данте или панорамы «Войны и мира» Льва Толстого.
Выход в 4-е измерение — это Пикассо, Сезанн, Матисс, Эшер, Магрит. В слове это футуризм будетлян кубофутуристов и обэриутские драмы Александра Введенского, которого интересовали только две вещи — «время и смерть». При этом одно не может быть понято без другого.
Машина времени Хлебникова — это горло поэта. «Лавой беги, человечество, конницу звуков взнуздав». Влом во вселенную увиденным звуком и услышанной цифрой. Ибо самое великое событие — это «вера 4-х измерений». Это записано Хлебниковым «иглою дикобраза».
Итак, первые слова Хлебникова: «он связал пространство и время», — и последние: «вера 4-х измерений», — совпадают и сливаются по всем параметрам.
Литература:
С. Эйзенштейн «Неравнодушная природа»
С. Эйзенштейн «4-е измерение в искусстве»
С. Эйзенштейн «Вертикальный монтаж»
Г. Минковский доклад «Четырехмерный континуум»
А. Эйнштейн «Физика и реальность»
А. Эйнштейн «Специальная теория относительности»
Э. Эббот, Д.Бюргер «Флатландия»
Н.А. Морозов «4-е измерение»
В. Хлебников «Завещание» и «Вера 4-х измерений», А также «КА», «Зангези» и «Труба марсиан»
Н. Лобачевский «Воображаемая геометрия»
Источник заимствова
У могилы Лобачевского в Казани перед защитой диплома К.Кедров 1967г.фото Е.Кацюбы

|
Метки: к.кедров лобачевский хлебников эйнштейн |
| Страницы: | [1] |





















